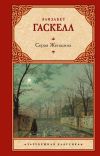Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
– А он и в самом деле убил пожилую леди? – спросил мистер Дэвис. – Простите, сэр, но мне любопытно, чем кончилась ваша история.
– Да. Он перерезал ей горло, и сейчас она лежит в своей тихой маленькой гостиной, обратив кверху лицо, залитое мертвенной бледностью, в луже крови. Мистер Дэвис, это вино слабое, как вода, я должен заказать бренди!
Мистера Дэвиса ужаснула эта история, в то же время воображение его взыграло, как до этого – воображение его собеседника.
– Есть ли какие-нибудь улики, способные навести на личность убийцы? – спросил он.
Мистер Хиггинс залпом выпил полстакана неразбавленного бренди и лишь потом ответил:
– Нет, никаких улик! Его никогда не поймают, и я не удивлюсь, мистер Дэвис, не удивлюсь, если он в конце концов раскается и искупит свою вину, а если так – найдет ли он милосердие на Страшном суде?
– Это известно одному Богу! – торжественно провозгласил мистер Дэвис. – Какая ужасная история, – продолжал он, стряхивая с себя оцепенение. – Выслушав ее, трудно покинуть эту теплую, светлую комнату и выйти во тьму. Но ничего не поделаешь, – сказал он, застегивая сюртук, – могу лишь искренне надеяться, что убийцу отыщут и повесят. И послушайте меня, мистер Хиггинс, вам следует положить в постель теплую грелку и перед сном выпить горячего поссета с патокой, а я, если позволите, пошлю вам свою статью, прежде чем отправить ее старине Урбану.
На следующее утро мистер Дэвис зашел навестить мисс Пратт, которая что-то занемогла, и, желая показаться любезным и развлечь свою прихожанку, поведал ей все, что слышал накануне вечером об убийстве в Бате, изложив все весьма связно и занимательно и заинтересовав мисс Пратт судьбой старой леди – отчасти из-за сходства их положения, поскольку мисс Пратт тоже втайне копила деньги, и держала всего одну служанку, и оставалась одна в доме по воскресеньям, когда служанка уходила в церковь.
– А когда все это случилось? – спросила она.
– Не помню, назвал ли мистер Хиггинс точный день, но мне кажется, в прошлое воскресенье.
– А сегодня среда. Дурные вести разлетаются быстро.
– Да, мистер Хиггинс полагал, что об этом могли написать в лондонской газете.
– Не может такого быть. Откуда мистер Хиггинс об этом узнал?
– Не знаю, я не спросил. Кажется, он вернулся домой только вчера: говорят, ездил на юг за арендной платой.
Мисс Пратт хмыкнула. Она имела обыкновение выражать хмыканьем свою неприязнь и подозрения по отношению к мистеру Хиггинсу всякий раз, когда в обществе упоминали его имя.
– Что ж, мы несколько дней не увидимся. Годфри Мёртон попросил меня пожить у него и у его сестры; думаю, этот визит пойдет мне на пользу. А потом, – добавила она, – длинными зимними вечерами, зная, что по графству разгуливают убийцы, а я одна в доме и, кроме Пегги, позвать на помощь в случае чего некого…
Мисс Пратт отправилась навестить своего кузена мистера Мёртона. Он занимал должность мирового судьи, исполнял свои обязанности с немалым рвением и пользовался славой на своем поприще. Однажды, как раз получив письма, он вошел к ней в комнату.
– Судя по этому посланию, нравственность в твоем маленьком городке неуклонно падает, Джесси! – провозгласил он, ткнув пальцем в одно из писем. – У вас там объявился не то убийца, не то его пособник. В Бате старой леди, бедняжке, перерезали горло; а мне прислали письмо из Министерства внутренних дел с просьбой «оказать высокопрофессиональную и действенную помощь», как они любезно выразились, в поимке преступника. Видимо, в момент совершения убийства его мучила жажда, да еще он, пожалуй, отличался веселым нравом и изрядной дерзостью, ведь прежде, чем приступить к исполнению своего ужасного замысла, он открыл бочонок имбирного вина, которое старушка оставила перебродить, а потом обмотал втулку обрывком письма, которое, как можно предположить, достал из своего кармана: этот-то обрывок письма впоследствии и нашли, а на нем с наружной стороны осталось только несколько букв: «…нс, эск., арфорд, – егворта», и какой-то умник догадался, что это значит «Барфорд, возле Кегворта». А с внутренней стороны, кажется, осталось упоминание скаковой лошади с очень странным именем: За-короля-и-церковь-и-да-сгинет-охвостье.
Услышав это имя, мисс Пратт немедля оживилась. Оно оскорбило ее религиозные чувства всего несколько месяцев тому назад, и она хорошо его запомнила.
– Лошадь с таким нелепым именем есть или была (поскольку я, так сказать, выступаю в качестве свидетеля, мне надлежит быть точной в выборе глаголов) у мистера Нэта Хёрна.
– У мистера Нэта Хёрна, – повторил мистер Мёртон, тотчас же взяв эти сведения на заметку, а потом вернулся к обсуждению письма из Министерства внутренних дел:
– Еще нашли фрагмент маленького ключика, который преступник сломал, пытаясь открыть ящик письменного стола, – вот и все, более ничего существенного. Нам остается полагаться на письмо как на главную улику.
– Мистер Дэвис говорил, что мистер Хиггинс рассказал ему… – Начала было мисс Пратт.
– Хиггинс?! – воскликнул мистер Мёртон. – Кончается на «нс». Не тот ли это хвастун и задира, что похитил сестру Нэта Хёрна?
– Да! – подтвердила мисс Пратт. – И хотя я его никогда не любила…
– «Нс», – повторил мистер Мёртон. – Подумать страшно: джентльмен-охотник, зять доброго старого сквайра Хёрна! А чьи еще фамилии в Барфорде заканчиваются на «нс»?
– Есть Джексон, и Хиггинсон, и Бленкинсоп, и Дэвис, и Джонс. Кузен! Вот что меня удивило: откуда мистер Хиггинс мог узнать и рассказать мистеру Дэвису во вторник о том, что случилось в воскресенье вечером?..
Нет нужды долго распространяться о дальнейшем. Кому любопытны жизнеописания разбойников, могут убедиться, что имя Хиггинса занимает в анналах такое же в важное место, как и имя Клода Дюваля[12]12
Клод Дюваль (1643–1670) – французский разбойник, прибывший в Англию во время Реставрации, который славился как дамский угодник, но в конце концов был повешен в Тайберне.
[Закрыть]. Муж Кейт Хёрн взимал «арендную плату» на большой дороге, подобно многим другим «джентльменам» той поры; однако, потерпев неудачу в нескольких своих авантюрах и прельстившись преувеличенными слухами о тайном богатстве старой леди из Бата, перешел от разбоя к убийству, за что и был повешен в Дерби в тысяча семьсот семьдесят пятом году.
Он был весьма нежным супругом, и его бедная Кейт перебралась в Дерби, чтобы быть рядом с ним в его последние минуты, несомненно ужасные. Ее старый отец повсюду сопровождал ее, за исключением камеры Хиггинса, и надрывал ей сердце нескончаемыми сетованиями, что вот-де все его вина, что это он всячески способствовал заключению их брака, не озаботившись побольше узнать о ее воздыхателе. Он отказался от титула сквайра в пользу своего сына Натаниэля. Нэт во всем добился успеха и процветания, и его беспомощный глупый отец ни на что не мог ему пригодиться, однако для своей овдовевшей дочери неразумный, глубоко привязанный к ней старик сделался всем: рыцарем, защитником, наперсником, преданным и любящим спутником. Впрочем, он неизменно отказывался давать ей советы, с грустью качая головой и повторяя: «Ах, Кейт, Кейт! Если бы у меня достало мудрости дать тебе лучшее наставление, тебе не пришлось бы сейчас жить изгнанницей в Брюсселе, боясь встречи с любым англичанином, как если бы тот знал твою историю».
Менее месяца тому назад мне довелось увидеть Белый дом; его сдавали внаем, может быть, уже в двадцатый раз с тех пор, как его занимал мистер Хиггинс; но в Барфорде до сих пор бытует предание, что давным-давно жил здесь разбойник и скопил несметные сокровища и неправедно нажитые эти богатства по сей день хранятся в какой-то потайной комнате, но где именно, в какой именно части дома, никому не известно.
Не хочет ли кто-то из вас снять этот дом и поискать потайную комнату? Могу предоставить точный адрес всякому, кто пожелает.
Клариссинка
Глава первая
12 декабря 1747 года
Моя жизнь связана с чередой невероятных событий, которые начали происходить в то время, когда я еще не был знаком с главными действующими лицами моего рассказа и даже не подозревал об их существовании. Вероятно, старикам свойственно оглядываться назад, и собственное прошлое им куда интереснее, а воспоминания о былом куда милее всего того, что ныне проходит перед их глазами и что представляет несомненный интерес для большинства их сограждан. Если это наблюдение справедливо в общем случае, то в моем оно справедливо тем паче! И если я хочу поведать загадочную историю бедной Люси, мне придется начать издалека. Несмотря на то что я сперва познакомился с нею и только потом узнал историю ее семьи, мне также придется, для большей ясности повествования, расположить события в их истинной последовательности, а не в той, в какой они открывались мне самому.
В северо-восточной части Ланкашира, в местности, именуемой Болендской впадиной, по соседству с областью Крейвен, стоит старинный замок – фамильное гнездо рода Старки. Он представляет собой довольно несуразное строение, в центре которого торчит массивная серая башня-донжон. Я предполагаю, что во время оно, пока шотландцы совершали свои разорительные набеги, продвигаясь на юг до этих самых мест, башня как раз и служила всем Старки единственным домом и что только с воцарением Стюартов, когда над имуществом местных лордов перестала нависать ежечасная опасность, тогдашние хозяева пристроили по периметру нижней части донжона двухэтажное здание. Со стороны южного склона к дому примыкает большой сад, разбитый уже при мне. Но когда я впервые попал сюда, единственным клочком ухоженной земли был огород при ферме. Из окон гостиной нам случалось видеть лесных оленей: не будь животные так пугливы, могли бы ощипывать ветки прямо под окнами. Усадьба Старки стоит на высоком выступе, который наподобие полуострова выдается вперед из линии крутых холмов, обрамляющих Болендскую впадину. Холмы здесь каменистые, с лысыми вершинами; внизу они одеты в густое мелколесье и утопают в зеленых коврах папоротника, над которыми тут и там высятся серые от древности деревья-исполины, воздевающие к небу, словно в немом проклятии, свои жуткие белесые ветви. Деревья эти, как мне сказывали, дошли до нас с эпохи Гептархии[13]13
Гептархия (греч. Семицарствие) – период в древней истории Англии, начавшийся ок. 500 г. с образования англосаксонских государств и завершившийся в 850 г. их объединением в единое королевство.
[Закрыть], когда все склоны были покрыты лесом, и уже в те стародавние времена считались местной достопримечательностью. Стоит ли удивляться тому, что их беззащитные верхушки не обрастают листвой, а мертвая кора от дряхлости высохла и отслоилась.
Неподалеку от господского дома располагались невзрачные хижины, или «коттеджи», построенные, вероятно, в одно время с донжоном для тех, кто искал защиты у лендлорда, вверяя ему свою (а заодно и своей семьи, и своей домашней скотины и птицы) жизнь и судьбу. За минувшие века некоторые из коттеджей почти полностью разрушились. А между тем их диковинная конструкция достойна отдельного упоминания. Ее основой служили пары крепких столбов, изогнутых навстречу друг другу: нижним концом столбы были врыты в землю, а верхним скреплены между собой, образуя ряд арок, так что все сооружение напоминало по форме огромную цыганскую кибитку. Стены складывали из чего попало: глина, камни, прутья, мусор, известь – все шло в дело, лишь бы как-нибудь заслониться от непогоды. В центре примитивного строения помещался открытый очаг, никакой трубы не было в помине – дым выходил через отверстие в крыше. Словом, более убогого жилища не сыскать ни в шотландских горах, ни в ирландском захолустье.
В начале нынешнего века владельцем усадьбы был мистер Патрик Бирн Старки. Его род хранил фанатичную приверженность Римско-католической церкви, и брак с протестантами почитался грехом, даже если жених или невеста согласились бы перейти в папскую веру. Отец мистера Патрика Старки принял участие в ирландской кампании Якова II, в результате которой английский монарх потерпел сокрушительное поражение, а Старки влюбился в красавицу-ирландку – некую Бирн, такую же поборницу истинной веры и Стюартов, как и он сам. Ему пришлось спасаться во Франции, но он вскоре вернулся в Ирландию, женился на ней и увез ее в Сен-Жермен, ко двору изгнанного короля. Однако легкомысленные повесы из окружения Якова стали позволять себе вольности в отношении его прекрасной жены; он не стерпел и уехал с нею в Антверпен, а оттуда еще через несколько лет без лишнего шума возвратился в свое ланкаширское имение – добрые соседи замолвили за него словечко перед новой властью, и его якобитство сошло ему с рук. В душе он остался ревностным католиком, апологетом Стюартов и божественного права королей. Однако если сам он, под влиянием своих религиозных воззрений, вел жизнь полуаскета, то поведение его компатриотов в Сен-Жермене оставляло желать много лучшего, на взгляд строгого моралиста. И храня в душе верность тому, кого более не мог почитать, Старки постепенно проникся уважением к честности и добродетели того, кого всегда считал узурпатором. С таким прошлым и такими взглядами о новой карьере нечего было и думать: правительство короля Вильгельма не нуждалось в нем. Итак, он вернулся – растратив свои иллюзии и свое состояние – в отчий дом, который пришел в страшный упадок за все то время, покуда хозяин примерял на себя роли придворного, солдата и политического эмигранта.
Дорога через Болендскую впадину представляла собою по сути тележную колею; на ближних подступах к замку их путь лежал через пашню и сильно запущенный олений парк. «Мадам», как звали миссис Старки деревенские жители, ехала верхом позади мужа, держась изящной ручкой за его кожаный ремень. Их маленький сын (будущий сквайр Патрик Бирн Старки) сидел на пони под неусыпным приглядом шагавшего рядом слуги. Следом за ними, опираясь на телегу с поклажей, энергичной и твердой походкой шла немолодая женщина; а на вершине горы из сундуков и прочего скарба, бесстрашно балансируя всякий раз, когда телега подпрыгивала и кренилась на разбитой осенней колее, восседала девушка несказанной красоты. Ее голову и плечи покрывала черная кружевная накидка, сделанная, вероятно, в Антверпене, но больше похожая на испанскую мантилью, что придавало ее облику экзотический оттенок; недаром старик-крестьянин, много лет спустя описавший мне прибытие семейства Старки в свои пенаты, говорил, что местный люд принял ее за чужестранку. Завершали процессию господские собаки с мальчиком-псарем. Господа ехали молча, без улыбки оглядывая людей, сбежавшихся поклониться «настоящему сквайру», которого все «заждались», а люди смотрели на вновь прибывших как на невидаль, робея от звука иностранных слов, коими те по необходимости изредка обменивались. Одного молодого ротозея сквайр позвал с собой помочь с разгрузкой, и парень сопроводил их в усадьбу. Дальнейшее нам известно из его рассказа. Едва леди спустилась с лошади, к ней подошла та женщина, о которой я упомянул, – та, что, в отличие от других, проделала весь путь на своих ногах: она подхватила мадам Старки на руки (леди была маленькая и хрупкая) и перенесла через порог в мужнин дом; при этом женщина торжественно – и с большим чувством – произносила какое-то чуднóе благословение. Сквайр не вмешивался, только сдержанно улыбался, но, услышав слова благословения, снял украшенную перьями шляпу и склонил голову. Девушка в черной мантилье тотчас прошла в темный холл и поцеловала госпоже руку. Это все, что парень сумел поведать своим землякам, обступившим его по возвращении: крестьяне жадно ловили каждую подробность и допытывались, сколько ему перепало от сквайра за труды.
По моим сведениям, сквайр застал свой дом в самом плачевном состоянии. И хотя массивные серые стены были все еще крепки, внутренние покои годами использовались для разных хозяйственных нужд. Большая гостиная превратилась в амбар; парадный зал, украшенный дорогими шпалерами, – в склад шерсти и так далее. Но мало-помалу дом привели в порядок. За неимением денег на новую обстановку сквайр и его жена сумели наилучшим образом распорядиться старой, проявив изрядный талант. Сквайр недурно владел плотницким ремеслом, а леди одухотворяла изысканной красотой все, к чему бы ни прикасалась. К тому же они привезли с континента множество редких вещей (редких для той части Англии): резные украшения, изумительные распятия и картины. Немаловажно и то, что в Болендской впадине лéса было предостаточно, и огонь в огромных каминах, которые исстари топили бревнами, весело плясал в полутемных комнатах древнего замка, повсюду создавая атмосферу домашнего уюта.
К чему я рассказываю все это? Ведь мне, в сущности, нет никакого дела до сквайра и мадам Старки; и все же я медлю, отвлекаюсь на них, словно оттягиваю минуту, когда пора будет перейти к тем людям, чья судьба так причудливо связана с моей. Напомню вам, что мадам родилась в Ирландии и та женщина, которая на руках внесла ее в ланкаширский дом ее мужа, когда-то была ее няней. За вычетом короткого периода замужества Бриджет Фицджеральд не покидала свою воспитанницу. Семейная жизнь у нее не сложилась. Муж ее – родовитый, не чета ей самой – умер, не оставив ей даже той малости, какой она располагала до брака. У нее была дочь – та самая юная красавица, что въехала в усадьбу Старки на горе из господских пожитков. Когда Бриджет Фицджеральд овдовела, мадам Старки вновь приняла ее к себе в услужение. С тех пор Бриджет с дочкой повсюду следовала за «госпожой» – и в Сен-Жермен, и в Антверпен, и вот теперь в ее ланкаширский дом. Сразу по прибытии сквайр поселил Бриджет в одном из близлежащих коттеджей и сам принялся обустраивать его едва ли не с большим рвением, чем собственный дом, хотя коттедж служил ей жилищем скорее номинально: она почти все время проводила в доме своей воспитанницы. Впрочем, от одного дома до другого, если идти через лес напрямик, было рукой подать. Ее дочь Мэри сновала туда-сюда, когда ей заблагорассудится. Мадам была привязана к ним обеим, и они имели большое влияние на нее, а через нее и на ее супруга. Бриджет и Мэри ни в чем не знали отказа. Окрестные жители относились к ним скорее хорошо, чем плохо: несмотря на буйный нрав, мать и дочь были отзывчивы и не мелочны. Однако домашние слуги смотрели на них с опаской, понимая, что они негласно распоряжаются всем и вся в усадьбе. Сквайр совершенно утратил интерес к мирским делам; мадам была слишком мягка, уступчива и добросердечна. Супруги нежно любили друг друга и своего маленького сына, но старались не обременять себя решением насущных вопросов, и вследствие этого Бриджет обрела поистине деспотическую власть. Но если все прочие безропотно подчинились ее «искусству власти» и «приказаний волшебству»[14]14
Аллюзия на Байрона: «Он знал искусство власти, что толпой / Всегда владеет, робкой и слепой. / Постиг он приказаний волшебство… / Что верностью спаяло их… реши! / Величье Мысли, магия Души!» («Корсар», песнь I, строфа 8. Перевод Г. Шенгели).
[Закрыть], то ее собственная дочь нередко бунтовала. Они с матерью были слеплены из одного теста – ни та ни другая не желала уступить. Между ними постоянно вспыхивали бурные ссоры, сменявшиеся столь же бурными примирениями. Иной раз обе доходили в своем неистовстве до того, что готовы были схватиться за нож. В другое же время каждая – в особенности Бриджет – не раздумывая отдала бы за другую свою жизнь. Навряд ли Мэри понимала, насколько сильна и глубока любовь матери, иначе не поддалась бы крамольной мысли, что дома ей все постыло, и не стала бы умолять госпожу подыскать ей место горничной на Европейском континенте, столь памятном ее сердцу по счастливейшим отроческим годам. Как это свойственно молодости, она думала, что жизнь будет длиться вечно и ничего страшного нет в том, чтобы побыть года два или три вдали от матери (у которой не было ни единой родной души на свете, кроме нее). Бриджет смотрела на это иначе, но из гордости ничем не выдала своих чувств. Если дочке угодно оставить ее, что ж – пусть едет. Говорят, Бриджет за два месяца состарилась лет на десять. Она вбила себе в голову, будто бы Мэри мечтает уехать подальше от нее. А Мэри просто хотелось на время упорхнуть в другие края, переменить обстановку, и она была бы рада, если бы мать поехала с ней. Более того, когда мадам нашла-таки ей место за границей у одной знатной дамы и подошел день расставания, Мэри бросилась матери на шею и, обливаясь слезами, заявила, что не оставит ее. Бриджет сама разомкнула дочкины руки и с непроницаемым лицом, не проронив ни единой слезы, велела ей не отступать от данного слова и идти своей дорогой в большой мир. И Мэри уехала – горько рыдая и непрестанно оглядываясь назад. Бриджет стояла недвижимая, как изваяние – как сама смерть: казалось, она разучилась дышать и никогда не смежит каменных век. Потом она вернулась в свой коттедж, заперла изнутри дверь и придвинула к ней тяжелую дубовую скамью с высокой спинкой и вместительным сундуком под сиденьем. Она села и застыла в оцепенении. Невидящими глазами смотрела она на серый пепел в потухшем очаге, не внемля ласковым речам своей госпожи, умолявшей впустить ее и позволить ей утешить свою бедную старую няню. Ко всему безучастная, не в силах пошевелиться, Бриджет просидела более двадцати часов кряду, пока мадам не явилась к ней в третий раз по заснеженной тропинке, что вела в коттедж из господского дома, и не принесла с собой щенка спаниеля – Мэриного любимца, который ночь напролет скулил, и плакал, и тыкался во все углы в поисках своей пропавшей хозяйки. Об этом мадам со слезами на глазах поведала через запертую дверь; она не могла не плакать при виде душераздирающей картины материнского горя, столь несокрушимого, неизбывного, неподвластного бегу дней. Несчастный щенок у нее на руках, дрожа от холода, снова завел свою жалобную песню. И в груди у Бриджет что-то дрогнуло, она впервые слабо шевельнулась – и прислушалась. Вот опять: тот же тоненький протяжный вой. Она сразу догадалась, что это плач по ее дочери, и ее сердце, не раскрывшееся навстречу обожаемой воспитаннице и госпоже, отворилось навстречу бессловесному существу, которое успела полюбить ее Мэри. Бриджет отперла дверь и забрала у мадам щенка. Мадам вошла к ней, поцеловала и приласкала свою убитую горем нянюшку, хотя та была по-прежнему безучастна и к ней, и ко всему на свете. Отослав сына – мастера Патрика – назад в усадьбу, где, как она знала, его и без нее согреют и накормят, добрейшая леди осталась со своей старой няней до утра. Наутро сквайр доставил в коттедж великолепную иностранную картину – образ Богоматери Святого Сердца[15]15
Иконографическая путаница. Судя по описанию, это тип «Божьей Матери Семи Скорбей» – «Our Lady of the Seven Sorrows» (в православной традиции соответствует типу «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная»).
[Закрыть], если воспользоваться папистским названием: изображение Божьей Матери с вонзенными в сердце стрелами – каждая стрела символизирует одну из ее великих скорбей. Картина эта висела в коттедже Бриджет, когда я впервые наведался туда. Теперь она у меня.
Шли годы. Мэри все не возвращалась из своей заграницы. Бриджет, прежде такая деятельная, ни в чем не знавшая удержу, присмирела и ушла в себя. Но к маленькому спаниелю – Миньону – она сильно привязалась и постоянно говорила с ним (я сам слышал), хотя в разговор с людьми вступала неохотно. Сквайр и мадам всячески проявляли заботу о ней, оно и понятно: Бриджет всегда служила им верой и правдой. Мэри исправно писала матери и, по всей вероятности, была довольна своей жизнью. Но потом письма приходить перестали – не знаю, случилось это до или после того, как на дом Старки обрушилась беда: сквайр слег с сыпным тифом и, ухаживая за ним, мадам заразилась и умерла. Бриджет неотлучно была подле нее, не допуская к ней других сиделок. На ее руках эта прелестная, еще молодая женщина испустила дух – на тех самых руках, которые когда-то приняли ее, новорожденную. Сквайр поправился – более или менее. Прежней крепости в нем уже не было, и жизнь его больше не радовала. Он и раньше был набожным, а теперь только и делал, что постился да молился. Ходили слухи, будто бы он добивался отмены майоратного ограничения на право распоряжаться своим имуществом, с тем чтобы завещать его иностранному монастырю, в котором, если бы Господь услышал его молитвы, настоятелем стал бы со временем юный Патрик. Но его усилия пропали втуне из-за строгости английского закона о майорате, тем более когда дело касалось ущемленных в правах католиков. Сквайру ничего другого не оставалось, как назначить опекунами своего малолетнего сына джентльменов одного с ним вероисповедания. Он подробно расписал, как им надлежит заботиться о душе Патрика, но почти не уделил внимания родовым землям и тому, как надлежит распорядиться ими, пока его наследник не достигнет совершеннолетия. Разумеется, Бриджет не была забыта в завещании. Лежа на смертном одре, сквайр послал за ней и спросил, что для нее предпочтительнее: некая денежная сумма сразу или скромное ежегодное содержание. Она без колебаний выбрала первое, поскольку думала о своей дочери, которая после ее кончины сможет унаследовать эти деньги, тогда как содержание исчезнет вместе с нею. Сквайр отписал ей крупную сумму денег и коттедж в пожизненное пользование, а сам отправился в лучший мир с такой готовностью и даже охотой, что ему можно только позавидовать. Молодого сквайра забрали опекуны, и Бриджет осталась совсем одна.
Я уже говорил, что некоторое время она не получала вестей от Мэри. В последнем письме дочь писала, что путешествует вместе с госпожой – англичанкой, вышедшей замуж за важного иностранного сановника, – и намекала на собственные радужные брачные перспективы, не называя имени своего жениха, чтобы сделать матушке сюрприз: по своему положению и состоянию молодой человек, как я впоследствии выяснил, стоял намного выше Мэри – о такой партии девушка могла только мечтать. После этого от дочери не было ни слуху ни духу; и вот уже мадам умерла; умер и сквайр; и материнское сердце извелось от тревоги, а навести справки Бриджет было негде. Сама она писать не умела и в прежние годы сносилась с дочерью через сквайра. Наконец Бриджет пешком пошла в Херст, где жил один добрый священник, знакомый ей еще по Антверпену, чтобы тот написал от ее имени дочери. Но письмо осталось без ответа. Писать в никуда – все равно что надеяться докричаться до безмолвной тьмы ночной.
Однажды соседи, привыкшие видеть, как Бриджет идет по тропе от коттеджа и после возвращается назад, заметили ее отсутствие. Она ни с кем не водила дружбы, но ее приметная фигура давно стала частью их повседневности, и когда утро за утром ее дверь не отворялась, а по вечерам в окне не загорался огонек, в их неповоротливом сознании забрезжил вопрос. Кто-то попробовал открыть ее дверь, но дверь была заперта. Потом двое или трое, посовещавшись, рискнули заглянуть внутрь через окно без ставней – и только когда отважились на эту крайнюю меру, до них дошло, что Бриджет исчезла из их мирка не вследствие несчастья или смерти, а по собственному умыслу. Все небольшие предметы обстановки, которые можно укрыть от разрушительного действия времени и влаги, были аккуратно уложены в короба. Картину с Мадонной сняли со стены и, по-видимому, куда-то спрятали. Иными словами, Бриджет втайне от всех покинула свой дом и удалилась в неизвестном направлении. Много позже я узнал, что она взяла своего спаниеля и отправилась на поиски пропавшей дочери. Как многие малограмотные люди, она не доверяла письмам, даже если сумела бы их написать и разослать по разным адресам. Зато она верила в силу своей любви – в то, что горячее материнское чувство приведет ее к дочери. К тому же ей и раньше доводилось ездить по чужим странам, и она немного говорила по-французски – могла объяснить цель своего путешествия; а самое главное, у нее было преимущество ее религии, и она с полным основанием рассчитывала найти приют в монастырских странноприимных домах. Однако крестьяне, жившие вблизи усадьбы Старки, ничего этого не знали. Они не могли взять в толк, куда она подевалась, их робкое и ленивое воображение не давало ответа, а вскоре они и вовсе забыли думать о ней. Прошло несколько лет. Господский дом и коттедж пустовали. Молодой сквайр жил вдали от родового имения под присмотром опекунов. Усадьба вновь стала превращаться в хранилище зерна и шерсти; и деревенские умники иногда негромко спрашивали друг друга, не сломать ли дверь в заброшенном коттедже – не спасти ли старухино добро от моли и ржавчины, покуда все зазря не пропало. Но смелый порыв угасал от одного воспоминания о ее крутом нраве. Они шепотом пересказывали друг другу предания о непреклонном характере и железной воле Бриджет, и мало-помалу сама мысль о том, чтобы посягнуть на какую-либо принадлежащую ей вещь и тем нанести ей обиду, стала внушать им суеверный ужас: они уверовали в то, что, живая или мертвая, она отомстит обидчику.
Однажды Бриджет вернулась – так же неприметно, как и отбыла. Просто кто-то вдруг заметил, что из трубы коттеджа вьется тоненький голубой дымок; потом – что дверь в дом открыта навстречу полуденному солнцу; а немного спустя еще кто-то увидал, как старая, измученная горем и скитаниями женщина достает воду из колодца и глаза у нее темные, строгие, точь-в-точь как у Бриджет Фицджеральд, но если это и вправду она, то ее, должно быть, опалил огонь преисподней, до того она вся почернела – от страха ли, от злобы, поди знай. Со временем и другие ее увидали, и кто хотя бы раз заглянул ей в глаза, в дальнейшем старался поскорее отвести свой взгляд, пока она его не перехватила. У нее вошло в обычай постоянно разговаривать с собой или, скорее, отвечать самой себе на разные лады в зависимости от того, чью сторону она в эту минуту принимала. Неудивительно, что отчаянные головы, отваживавшиеся в темный час подслушивать под дверью ее бормотание, твердо верили, что она ведет беседы с нечистой силой. Короче говоря, она, сама о том не подозревая, заработала себе ужасную репутацию ведьмы.
Ее спаниель, объехавший с нею вместе пол-Европы, был ее единственным другом, немым свидетелем прежних, лучших дней. Как-то раз он занемог, и она больше трех миль несла его на руках, чтобы спросить совета у сведущего человека, который раньше служил у покойного сквайра конюхом и умел выхаживать разных животных. Что уж он там сделал, никому не известно, но песик поправился; и все, кто слышал, как истово она благодарила и благословляла чудесного лекаря (не столько воздавая хвалу Всевышнему, сколько суля своему спасителю удачу и достаток), с подозрением отнеслись к свалившемуся на него вскоре везенью – на следующий же год его стадо овец удвоилось, а пажити уродились как никогда тучными.
Что же дальше? Году примерно в 1711-м один из опекунов молодого сквайра, а именно сэр Филип Темпест, надумал посмотреть, хороша ли охота в угодьях его подопечного, и в компании четырех или пяти своих друзей приехал в усадьбу Старки с намерением пробыть там неделю-другую. По свидетельствам очевидцев, джентльмены не только поохотились, но и покутили на славу. Из имен гостей до меня дошло только одно – сквайр Гисборн. Тогда он был еще сравнительно молод, хотя успел поездить по свету; вероятно, за границей он и свел знакомство с сэром Филипом Темпестом, оказав ему какую-то услугу. О таких, как он, говорят «бузотер»: бесстрашный, бесшабашный и беспутный, он скорее искал ссоры, нежели старался ее предотвратить. К тому же он был подвержен приступам раздражительности и в гневе не щадил ни человека, ни бессловесную тварь. А в остальном, по отзывам хорошо знавших его, он был славный малый – если только не напивался, не злился и не досадовал. Ко времени нашего знакомства он сильно переменился.