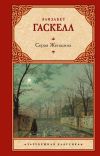Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
– Де Карабас глупеет прямо на глазах. Меня так и подмывает скинуть его сапоги, и пусть обходится как знает. Я рожден для придворной жизни, ко двору и отправлюсь и составлю себе состояние, как составил ему. Император непременно оценит мои таланты.
То ли в согласии с французскими обыкновениями, то ли забыв в гневе о хороших манерах, егерь поминутно сплевывал на паркет.
Тут к моим недавним собеседницам направился мужчина с уродливым и притом очень располагающим лицом, который вел за собой хрупкую миловидную женщину в нежнейшем белом одеянии, словно vouée au blanc[38]38
Букв. «одетый в белое» [ребенок по обету, данному Богоматери] (фр.).
[Закрыть]. Похоже, на ней не было вообще ничего цветного. По дороге она, как мне показалось, выражала свое удовольствие негромкими звуками, не схожими в точности ни с бульканьем кипятка в чайнике, ни с воркованием голубей, однако напоминавшими то и другое одновременно.
– Мадам де Миумиу жаждала с тобой встретиться, – обратился мужчина к даме с розами, – вот я ее и привел, дабы тебя порадовать!
До чего же честное, добродушное лицо! Но до чего же безобразное! И все же его уродство нравилось мне больше, чем иная красота. В этих полных обаяния глазах читались и печальное сознание своего уродства, и упрек наблюдателю за слишком поспешные выводы. Нежная белая дама тем временем не сводила взгляда с моего соседа-егеря, словно знала его раньше, что при такой разнице в их положении очень меня удивляло. Тем не менее был очевиден их одинаковый нервный настрой: когда за стенными шпалерами послышался шорох (скорее всего, пробежала крыса или мышь), оба они, мадам де Миумиу и егерь, встрепенулись и насторожились; все их поведение – частое дыхание мадам, расширенные зрачки и заблестевший взгляд егеря – говорило о том, что они не так, как все прочие, реагируют на самые обычные звуки. Тем временем уродливый супруг дамы с розами обратился ко мне:
– Мы были очень разочарованы, когда узнали, что с месье нет его соотечественника… великого Жана Английского… не знаю, как правильно произнести имя… – Собеседник взглядом попросил у меня помощи.
«Великий Жан Английский»? Кто бы это мог быть? Джон Булль? Джон Расселл? Джон Брайт?
– Жан… Жан… – продолжал джентльмен, видя, что я в затруднении. – Ах, эти ужасные английские имена… Жан де Жанкийёр!
Я все так же недоумевал. Однако мне показалось, что я знаю это имя, только звучать оно должно немного иначе. Я повторил его про себя. Похоже, речь шла о Джоне Джайанткиллере – только приятели этой достойной особы именуют его Джек Истребитель Великанов. Я произнес это имя вслух.
– Ага, вот именно! Но почему же он не пришел с вами на нашу сегодняшнюю встречу?
Я уже не раз испытывал растерянность, но этот серьезный вопрос окончательно сбил меня с толку. Не отрицаю, в свое время Джек Истребитель Великанов побывал у меня в закадычных друзьях, насколько возможна дружба при посредстве типографской краски и бумаги, но все последние годы его имя при мне не упоминалось; насколько мне известно, он разделяет участь рыцарей короля Артура, которые лежат зачарованные и ждут, когда трубы четырех могущественных королей призовут их на помощь Англии. Однако вопрос был задан отнюдь не в шутку, причем джентльменом, доброе мнение которого было для меня более ценно, чем мнение любого другого в этом зале. Поэтому я почтительно ответил, что очень долго ничего не слышал о своем соотечественнике, но не сомневаюсь в том, что участие в нынешнем дружеском собрании доставило бы ему такое же удовольствие, как и мне. Собеседник поклонился, и слово перешло к даме с больными ногами.
– Говорят, эта ночь – единственная в году, когда в дебрях вокруг замка является призрак крестьянской девочки, которая когда-то жила поблизости; согласно преданию, ее съел волк. Прежде мне доводилось видеть ее через вот то окно в конце галереи. Не хочешь ли, ma belle[39]39
Дорогая (фр.).
[Закрыть], показать месье окрестности замка в лунном свете (и призрачное дитя, если выпадет такая возможность), а я бы тем временем немного потолковала наедине с твоим супругом?
Дама с розами ответила на эту просьбу учтивым жестом согласия, и мы пошли к большому окну с видом на лес, где я недавно плутал. Внизу, в том бледном тусклом свете, что позволяет ясно, как днем, видеть форму предметов, но скрадывает цвета, неподвижно лежали раскидистые и густые кроны. Нам открылись бесчисленные аллеи, которые как будто со всех сторон сходились к древней громаде замка, и вдруг в двух шагах от нас одну из них пересекла девочка с накинутым на голову капюшоном, какие маленьким французским крестьянкам заменяют шляпку. Девочка шла, неся в руке корзину и глядя (сужу по повороту головы) на ступавшего рядом волка. Я сказал бы даже, что волк в порыве раскаяния и любви лизал девочке руку, если бы подобные чувства были волкам свойственны. Впрочем, кто знает, ведь это был не живой, а призрачный волк.
– Ну вот, она нам показалась! – воскликнула моя прекрасная спутница. – Пусть она давным-давно мертва, но все, кто о ней слышал, продолжают хранить в сердцах эту незамысловатую историю о домашних добродетелях и простодушной доверчивости; местные деревенские жители рассказывают, что, если увидишь этой ночью призрачную девочку, тебе весь следующий год будет улыбаться удача. Будем и мы надеяться на обещанное преданием счастье. А вот и мадам де Рец – она сохранила за собой фамилию первого мужа, более громкую, чем у нынешнего.
К нам присоединилась наша хозяйка.
– Если вы, месье, неравнодушны к красотам природы и искусства, – начала она, заметив, что я любуюсь видом из окна, – вам, возможно, будет интересно взглянуть на портрет. – Она вздохнула, несколько делано изображая горесть. – Вы ведь знаете, о каком портрете я говорю, – обратилась она к моей спутнице; та склонила голову в знак согласия и, когда я последовал за мадам, не без ехидства усмехнулась.
Сопровождая мадам в дальний конец зала, я заметил, с каким острым любопытством она присматривается и прислушивается ко всему, что творилось вокруг. На противоположной стене я увидел портрет в полный рост, изображавший странного красивого мужчину, в правильных чертах которого проглядывали, однако, злоба и жестокость. Хозяйка сцепила опущенные вниз руки, снова вздохнула и произнесла как бы про себя:
– Он был любовью моей юности, и прежде всего мое сердце тронул его суровый, но мужественный нрав. Когда, когда же утихнет боль от этой потери!
Не будучи настолько хорошо с нею знаком, чтобы ответить на этот вопрос (да и не послужило ли достаточным ответом ее второе замужество?), я ощутил неловкость и, только чтобы не молчать, заметил:
– Это лицо кого-то мне напоминает; наверное, я видел похожее на гравюре с исторической картины, но то был центральный персонаж группы. Он держал за волосы женщину и угрожал ей ятаганом, меж тем как двое кавалеров спешили вверх по лестнице, чтобы в самый последний миг спасти жертву.
– Увы, увы, ваше описание верно, это было несчастнейшее в моей жизни событие, часто его представляют в ложном свете. Даже лучшему из мужей… – Мадам всхлипнула, и речь ее от горя сделалась не вполне членораздельной. – Даже лучшему из мужей изменяет иногда терпение. Я была молода и любопытна, его рассердило мое ослушание… братья слишком поспешили… и вот я сделалась вдовой!
Выждав должное время, я осмелился произнести несколько банальных слов утешения. Хозяйка резко обернулась.
– Нет, месье, у меня есть только одно утешение: я так и не простила их за то, что они столь жестоко и непрошено встали между мною и моим дорогим супругом. Процитирую своего друга месье Сганареля: «Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l’amitié; et cinq ou six coups d’épée entre gens qui s’aiment ne font que ragaillardir l’affection»[40]40
«Подобные размолвки между друзьями не редкость; пять-шесть уколов шпаги только освежают чувства любящих» (фр.).
[Закрыть]. Замечаете, колорит не вполне правилен?
– При этом освещении борода имеет немного странный оттенок.
– Да, художник неверно ее передал. Она была очень мила, благодаря ей он выглядел изысканно, совсем не так, как заурядная толпа. Погодите, я покажу вам настоящий оттенок, встанем только ближе к факелу!
Подойдя к светильнику, хозяйка сняла с запястья волосяной браслет с роскошной жемчужной пряжкой. В самом деле, цвет был ни на что не похож. Я не знал, что сказать.
– Милая, чудная борода! – вздохнула мадам. – И как подходит жемчуг к этой нежной синеве!
К нам подошел ее супруг, дождался, пока жена обратит к нему взгляд, и только после этого осмелился заговорить:
– Странно, что месье Огр заставляет себя ждать!
– Ничего странного, – едким тоном отозвалась жена. – Он туп как пробка, вечно все путает, и это выходит ему боком. И поделом: нечего быть таким легковерным и трусливым. Ничего странного! – Повернувшись к супругу, она заговорила так тихо, что я уловил только заключительные слова: – Тогда каждому будет дано по справедливости и нам не придется больше беспокоиться. Так ведь, месье? – обратилась она ко мне.
– Если бы я был в Англии, то предположил бы, что мадам толкует про билль о реформе или про тысячелетнее Царство Христово… но я пребываю в недоумении.
Едва я замолк, как открылась широкая раздвижная дверь и все вскочили на ноги, чтобы приветствовать маленькую старушку, которая опиралась на тоненькую черную палочку… и…
– Мадам ла Фемаррэн, – провозгласил хор нежных звонких голосов.
И в тот же миг я обнаружил, что лежу в траве у дуплистого дуба, косые рассветные лучи падают прямо мне на лицо и множество мелких птичек и насекомых встречают тысячеголосым пением румяную зарю.
Шесть недель в Хеппенхайме
По окончании Оксфорда, прежде чем устраивать свою дальнейшую жизнь, я намеревался на несколько месяцев отправиться в заграничное путешествие. Отец оставил мне в наследство несколько тысяч фунтов, доход от которых был бы достаточным для подготовки к юридической практике, покрывая связанные с этим траты на жилье в тихой части Лондона и плату за обучение у известного барристера, под чьим руководством мне предстояло осваивать право, но почти ничего не оставляя на удовольствия и развлечения; а поскольку за годы обучения в колледже я вошел в значительные долги, превысив допустимую сумму, и принужден был взять деньги для путешествия из основного капитала, я решил ограничить себя пятьюдесятью фунтами. Поживу за границей, пока есть деньги, а как только они закончатся, закончатся и мои каникулы, я вернусь в Лондон и сниму квартиру где-нибудь в районе Расселл-сквер, поближе к конторе мистера *** в Линкольнс-Инн. В ожидании, пока будет готов мой паспорт, мне пришлось на день задержаться в Лондоне, и я отправился осматривать улицы, на одной из которых предполагал поселиться, выбрав при помощи карты те, что представлялись мне наиболее подходящими, каковыми они и оказались, если судить исключительно с точки зрения разумности; однако вид их привел меня, выросшего на лоне природы и только что приехавшего из Оксфорда с его чудесной архитектурой, в глубокое уныние. Мысль о том, что придется долгие годы жить в таком скучном сером районе с похожими друг на друга домами, укрепила меня в намерении растянуть свои пятьдесят фунтов на возможно более долгий срок. Я полагал, что их должно хватить по меньшей мере на сто дней. Я был привычен к пешей ходьбе, предъявлял весьма скромные требования к жилью и еде, знал немецкий и французский в той мере, в какой знает их любой не выезжавший за пределы своей страны англичанин, и принял твердое решение избегать дорогих отелей, излюбленных моими соотечественниками.
Я столь пространно говорю о себе для того, чтобы было понятно, каким образом со мной приключилась та мало чем примечательная история, которую я собираюсь рассказать, но в которой мне выпала роль не столько участника, сколько сочувствующего наблюдателя. К тому времени я прошел пешком всю Францию и оказался в Швейцарии, где превысил свои силы по части ходьбы пешком и был уже на пути домой, когда однажды вечером подошел к деревушке Хеппенхайм, расположенной вдоль горной дороги Бергштрассе. Весь день я бродил по грязному городку Вормсу и обедал в каком-то отвратительном отеле; потом перешел по мосту через Рейн и, пройдя Лорш, оказался в Хеппенхайме. Чувствуя необычную усталость, я вяло, с трудом передвигая ноги, двигался по плохо вымощенной неровной деревенской улице в сторону рекомендованной мне гостиницы. Гостиница оказалась большим домом с зеленым двором перед ним. Меня встретила сердитая, но безукоризненно опрятная хозяйка и провела в большую комнату с обеденным столом, занимавшим лишь половину ее длины, хотя за ним вполне могли бы разместиться тридцать или сорок человек. В обоих концах комнаты были окна; два из них выходили на улицу перед домом, на которую уже опустилась вечерняя тень; два других с противоположной стороны были частью дверей, открывавшихся в большой сад с тщательно постриженными деревьями и овощными грядками, между которыми по воле хозяев, а не природы росли розы. В каждом конце столовой располагалась печь; вероятно, первоначально это были две комнаты, впоследствии соединенные в одну. Дверь, в которую я вошел, находилась как раз посередине; напротив нее располагалась другая, ведущая в большую спальню, в которой хозяйка предполагала устроить меня на ночь.
Даже будь гостиница менее чистой и располагающей к отдыху, я бы остался в ней; к моему удивлению, меня охватила странная vis inertiae[41]41
Неподвижность (лат.).
[Закрыть]: сидя у выходившего в сад окна в теплом свете последних лучей вечернего солнца, я не испытывал желания ни двигаться, ни разговаривать. Хозяйка приняла мой заказ и оставила меня. Солнце зашло, и меня охватил озноб. Огромная комната представлялась холодной и пустой; из темноты выступили тени, приведшие меня в недоумение, поскольку я долго смотрел на ярко-красный закат и теперь не мог разглядеть, какие предметы их отбрасывают.
В комнату кто-то вошел – оказалось, пришла служанка накрыть для меня стол к ужину. Она принялась расстилать скатерть на одном конце длинного стола. Рядом со мной стоял стол поменьше. Я собрался с силами и еле слышно произнес – голос едва подчинялся мне: «Не позволите ли мне поужинать за этим столом?»
Девушка приблизилась; сейчас она была хорошо освещена, я же оставался в тени. Она была молода, высокого роста, с хорошей сильной фигурой и приятным лицом, свидетельствовавшим о добром сердце и разумном характере, к тому же довольно привлекательна, хотя кожа ее загорела и огрубела от работы на воздухе в любую погоду, утратив природную нежность, а черты не отличались правильностью, как мне впоследствии не единожды представлялась возможность заметить. Однако зубы у нее были белыми, а большие серьезные глаза синими – в них затаилась застарелая печаль, из-за которой она недавно плакала, – пышные светло-каштановые волосы тщательно заплетены в косы и высоко уложены при помощи двух больших серебряных заколок. Вот и все, что я заметил в тот первый вечер. Возможно, я заметил слишком много. Она начала расстилать скатерть там, где я указал. Я вздрогнул от холода; взглянув на меня, она произнесла: «Господин озяб; не разжечь ли огонь?»
Что-то меня раздражило – обычно я более сдержан, сказалась начинавшаяся тяжелая болезнь, – мне не понравилось ее слишком пристальное внимание; я надеялся, что еда вернет мне силы, хотел получить ужин как можно быстрее и боялся, что возня с печью задержит его; но более всего мне в моем лихорадочном состоянии досаждало любое движение. Я ответил резко и грубо: «Нет, быстро несите ужин, и больше ничего не нужно».
Ее спокойные печальные глаза на мгновение встретились с моими, но их выражение не изменилось, словно моя грубость не задела ее, а лицо выражало прежнее терпение и здравый смысл; и больше я почти ничего не помню о Текле в тот первый вечер в Хеппенхайме.
Вероятно, я съел свой ужин или, по крайней мере, попытался это сделать, после чего, должно быть, отправился спать, потому что, очнувшись по прошествии многих дней, понял, что лежу в постели, слабый, будто новорожденный младенец, с ощущением перенесенной боли во всех членах. Когда приходишь в себя после лихорадки, не хочется сопоставлять факты и тем более размышлять о них; так и я не пытался припомнить, как оказался в этой чужой кровати, в этой большой, скудно меблированной комнате, в чьем доме была эта комната, в каком городе и в какой стране. В ту минуту меня значительно больше интересовало, какой из хорошо известных трав пахнут чистые простыни грубого полотна, на которых я лежал. Постепенно я расширил круг наблюдений, не выходя за пределы настоящего. Должно быть, кто-то обо мне неплохо позаботился, причем совсем недавно, потому что занавеси на окне были закрыты, чтобы лучи утреннего солнца не попадали на кровать; в большой белой кафельной печи весело потрескивали поленья, которыми кто-то ее недавно наполнил.
Через некоторое время дверь медленно отворилась. Не знаю уж почему, но мне вдруг захотелось притвориться спящим. Однако я все видел сквозь неплотно прикрытые веки. В комнату на цыпочках вошли двое мужчин; двигались они медленно, стараясь ступать как можно тише, что, впрочем, им не слишком удавалось. Первый, лет тридцати с чем-то, был одет как шварцвальдский крестьянин: в старомодную куртку и штаны до колен из крепкой синей ткани очень высокого качества; за ним шел человек постарше, чье платье, хоть и более изысканного кроя и благородного цвета (он был весь в черном), было, как я нередко отмечал для себя впоследствии, изрядно поношенным.
Вошедшие говорили шепотом, по-немецки, и по первым же словам я понял, что передо мной хозяин гостиницы, в которой я лежал без движения, совершенно беспомощный, и приглашенный им деревенский доктор. Последний проверил мой пульс и несколько раз одобрительно покивал головой. Я и сам чувствовал, что дело пошло на поправку, и не нуждался в его подтверждении, однако оно доставило видимое и самое искреннее удовольствие хозяину гостиницы, который принялся пожимать руку доктора с выражением столь глубокой благодарности, словно я приходился ему родным братом. Они негромко обменялись несколькими фразами, после чего доктор задал вопрос, на который хозяин явно не мог ответить. Он вышел из комнаты и через минуту-другую вернулся в сопровождении Теклы, которую доктор подробно расспросил, получив на все вопросы спокойные и точные ответы, свидетельствовавшие о том, как пристально она наблюдала за ходом моей болезни. Затем она вышла из комнаты, а я, будто с каждой минутой вновь обретая способность сопоставлять события, по какому-то наитию открыл глаза и, призвав на помощь все свои знания, спросил по-немецки, какое сегодня число; я не слишком хорошо помнил, когда именно оказался в Хеппенхайме, зная лишь, что это произошло в начале сентября.
Доктор вновь несколькими быстрыми кивками выразил чувство глубочайшего удовлетворения и ответил по-английски, говоря не слишком уверенно, но вполне понятно; ответ меня несказанно удивил.
– Сегодня двадцать девятое сентября, мой дорогой сэр. Благодарите всемогущего Бога! Вы были без памяти двадцать один день. Теперь необходимы терпение и уход. Ваш добрый хозяин и его домочадцы возьмут на себя уход, а вам следует запастись терпением. Если у вас есть в Англии родственники, я приложу все силы, чтобы известить их о состоянии вашего здоровья.
– У меня нет близких родственников, – ответил я и из-за своей слабости расплакался, вспомнив то время, когда у меня были отец, мать, сестра, теперь казавшееся мне сном.
– Ну-ну, успокойтесь, – произнес доктор и, повернувшись к хозяину, по-немецки сказал ему, что Текла должна принести мне немного ее замечательного мясного бульону, после которого мне следует принять лекарство и спать, и чтобы никто меня не тревожил. Еще он сказал, что мне довольно долго потребуется тщательное наблюдение и строгий режим питания: каждые двадцать минут небольшие порции вина или супа.
В моем затуманенном болезнью мозгу родилась неясная мысль о том, что вся моя предшествующая бережливость, долгая ходьба пешком и скудная еда в конце концов нисколько не помогли мне сэкономить мои пятьдесят фунтов; однако я провалился в полусон-полубеспамятство, не успев додумать ее до конца. Пробудился я от прикосновения ложки к моим губам, когда Текла кормила меня. На ее милом серьезном лице было выражение почти материнской нежности, когда она мягким изящным движением ласково, терпеливо и осторожно подносила ложку за ложкой к моему рту; потом я опять уснул. В следующий раз я проснулся ночью; топилась плита, и горящие поленья приятно потрескивали, хотя сквозь отверстия в небольшой железной дверце мне были видны лишь отблески огня. Незанавешенное окно слева от меня открывало взгляду торжественную лиловую темноту ночи. Слегка повернув голову, я увидел, что у стола сидит Текла, склонившись над большим куском какой-то белой ткани, глубоко погруженная в работу. Время от времени она прерывалась, чтобы снять нагар со свечи; иногда сразу же возвращалась к работе, но пару раз опускала руки на колени и минуты две сидела, глядя в темноту и глубоко о чем-то задумавшись; каждая из этих пауз завершалась чем-то вроде глубокого со всхлипом вздоха, звук которого словно возвращал ее к действительности, и она вновь, с еще бóльшим усердием, принималась за шитье. Наблюдение за ней занимало и убаюкивало меня; ее усердие составляло приятный контраст моему покою, усиливая ощущение сладостной неподвижности. Из-за болезни чувства мои притупились, и ее вызванная воспоминаниями печаль не пробудила во мне ни сострадания, ни интереса.
Некоторое время спустя она слегка вздрогнула, взглянула на лежавшие на столе рядом с нею часы и тихими шагами подошла к кровати, прикрывая рукой пламя свечи. Увидев, что глаза мои открыты, она молча взяла с плиты небольшую миску с супом и покормила меня. Я смутно понимал, что после визита доктора она проделывала это много раз, хотя только теперь я как будто полностью пришел в сознание. Она просунула руку под подушку, на которой покоилась моя голова, и, крепко придерживая, слегка приподняла меня; рука у нее была по-мужски сильной. И вновь она вернулась к своей работе, а я погрузился в дремоту, и за все это время ни один из нас не произнес ни слова.
Когда я вновь проснулся, был ясный день и солнечный свет из сада проникал сквозь бахрому шали, затеняющей окно, – я помнил, что ночью ее там не было. Как же осторожно двигалась моя сиделка, предусмотрительно завесившая окно!
Завтрак мне принесла хозяйка гостиницы, та самая, что встретила меня, когда я пришел в этот гостеприимный дом. Не сомневаюсь, что она хотела сделать все наилучшим образом, но ей явно было не место в комнате больного; я с большим трудом терпел ее неловкость: башмаки ее скрипели, а платье громко шуршало; она задавала множество приведших меня в раздражение вопросов; она поздравляла меня с выздоровлением, а я едва не терял сознание от голода, потому что из-за бесконечных разговоров она не спешила подавать еду. Появившийся чуть позже хозяин проявил значительно больше благоразумия, хотя его башмаки скрипели так же громко. К его приходу я уже несколько пришел в себя и мог немного поговорить, к тому же мне казалось нелюбезным, что я до сих пор не выразил ему признательности.
– Боюсь, я доставил вам много хлопот, – произнес я. – Могу лишь сказать, что я вам искренне признателен.
Его добродушное широкое лицо залилось краской, от смущения он неловко пошевелился и ответил на мягком местном диалекте:
– Не знаю, как бы я – как бы мы могли поступить по-другому. Мы все рады были помочь, чем могли; не то чтобы это было в удовольствие – сейчас ведь самая жаркая пора и работы хоть отбавляй, но и вам, сударь, – тут он смущенно усмехнулся, словно боясь, что я его неверно пойму, – не много удовольствия в том, чтобы свалиться с лихорадкой, да еще так далеко от дома.
– Совсем не много!
– Теперь уж можно сказать, что нам пришлось осмотреть ваши бумаги и вещи. Поначалу, когда вы расхворались, я хотел дать знать вашим родным и думал найти, кому и куда сообщить о вас; да и белье вам нужно было.
– Но ведь на мне ваша рубашка, – заметил я, коснувшись ее рукава.
– Да, сударь, – ответил он, слегка покраснев. – Я велел Текле взять из комода самую лучшую, но, боюсь, вы привыкли к белью потоньше.
Вместо ответа я мог лишь положить свою слабую ладонь на его загорелую ручищу, лежавшую на краю кровати. В ответ он неожиданно крепко сжал ее, едва не переломав мне кости. Лицо мое невольно исказилось от боли.
– Прошу прощения, – сказал он, неверно истолковав его выражение, – но когда видишь, как человек вырвался из-под крыла смерти и вернулся к жизни, проникаешься к нему дружеским чувством.
– Ни один самый старый и близкий из всех моих друзей не мог бы сделать для меня больше, чем вы, и ваша жена, и Текла, и добрый доктор.
– Я вдовец, – ответил он, поворачивая большое венчальное кольцо на безымянном пальце. – Хозяйством и детьми занимается моя сестра, конечно, с помощью Теклы, нашей служанки. Но у меня есть и другие слуги. Благодарение Господу, я человек не бедный. Имею землю, и скот, и виноградники. Скоро начнется сбор винограда, и вы непременно должны увидеть мой виноград, когда его привезут в деревню. И у меня есть chasse[42]42
Право на охоту (фр.).
[Закрыть]; может, когда совсем оправитесь, мы с вами поохотимся на chevreuil[43]43
Косуля (фр.).
[Закрыть] в горах Оденвальда.
Его честному доброму сердцу хотелось, чтобы я почувствовал себя желанным гостем. Некоторое время спустя я узнал от доктора, что, когда мои пятьдесят фунтов подошли к концу, он и мой хозяин решили, что я беден, поскольку тщательное обследование моих вещей и бумаг не дало никаких доказательств противного. Не будучи участником этой истории, я лишь повторяю то, что слышал от других, чтобы описать доброту и честность моего хозяина. Между прочим, звали его Фриц Мюллер, впредь я так и стану его называть. А доктора – Видерман.
Разговор с Фрицем Мюллером меня порядком утомил, однако пришедший доктор Видерман объявил, что мне значительно лучше; но в тот день мои занятия, активные и пассивные, были такими же, как и в предыдущие: меня кормили, я лежал почти без движения и спал. День был солнечным и жарким, мне хотелось на воздух. Фармакопея немецкого врача не включает свежий воздух, тем не менее мое желание было частично удовлетворено. В утренние часы выходившее во дворик перед домом окно, сквозь которое проникали солнечные лучи, слегка приотворяли, и до меня доносились звуки кипучей жизни, доставлявшие мне удовольствие и пробуждавшие значительный интерес. В предметах интереса недостатка не было: квохтанье кур, радостное кукареканье петуха, обнаружившего сокровище – пшеничное зернышко, шаги пасущегося на привязи ослика, голубиное воркование и шум крыльев. Время от времени по дороге поднималась тележка или повозка – я слышал звук их колес на неровной деревенской дороге задолго до того, как они останавливались у «Полумесяца», деревенской гостиницы. Из дома до меня доносились звуки бегущих ног и суматохи и резкий голос, требовательно призывающий Теклу. Иногда я слышал детский топот; однажды кто-то из детей, должно быть, случайно ушибся или поранился, потому что высокий детский голосок без конца жалобно повторял «Текла, Текла, liebe[44]44
Милая, дорогая (нем.).
[Закрыть] Текла!». Несмотря на это, именно Текла заботилась обо всех моих нуждах: кормила меня, давала мне лекарство, прибирала комнату; следила, чтобы в окно не попадало слишком много света, в течение дня передвигая временные занавеси вслед за ходом солнца; при этом она была неизменно спокойна и сосредоточенна, словно забота обо мне составляла ее единственную обязанность. Хозяйка появлялась лишь по утрам. Раза два она, весьма недовольная, заходила в большую столовую, куда открывалась дверь моей комнаты, и раздраженным шепотом требовала Теклу к себе, как бы занята ни была девушка в это время. Помню, однажды она пришла сообщить, что кому-то из постояльцев понадобились простыни, а она не помнит, куда задевала ключи, произнеся это с таким раздражением, будто Текла повинна в забывчивости фройляйн Мюллер.
Наступала ночь; все дневные звуки замирали: не было больше слышно детских голосов, птицы успокаивались на насестах, домашняя скотина – в стойлах, гости – в своих комнатах. И тогда Текла мягкой походкой спокойно входила в мою комнату, устраивала меня поудобнее и занимала свой пост. Я был не в состоянии оставаться один все эти долгие тягостные часы между закатом и рассветом; и все же мне было неловко оттого, что эта молодая женщина, которая провела у моей постели всю прошлую ночь и, насколько мне известно, много ночей до нее, тяжело работала – сбивалась с ног, как сказали бы английские слуги, – целый день, опять пришла ухаживать за мной; поэтому я с облегчением увидел, что голова ее склоняется все ниже и наконец опускается на руки, лежащие на столе поверх белой ткани – ее шитья. Она уснула, уснул и я. Когда я проснулся, в комнату уже проникли первые лучи солнца, в свете которых поблек свет лампы. Текла стояла у плиты, на которой заранее приготовила бульон, чтобы дать его мне, как только я проснусь. Она не заметила, что я приоткрыл глаза, хотя лицо ее было повернуто в мою сторону. Она медленно читала какое-то письмо, будто слова его были ей хорошо знакомы, но она пыталась извлечь из них иной смысл, более глубокий или совершенно новый. Потом она неторопливо и почти беззвучно свернула его и привычным жестом неспешно опустила в карман. Затем подняла взгляд, но смотрела не на меня, а в пространство, заполненное воспоминаниями; и тут, когда, словно по волшебству, перед ее взором предстали события и люди, невидимые мне, глаза ее как будто незаметно для нее самой наполнились слезами, и, когда крупная капля упала ей на руки (которые она, слегка сжав, держала перед собой), она чуть вздрогнула, отерла глаза тыльной стороной ладони и подошла к кровати взглянуть, не проснулся ли я. Не будь я свидетелем ее переживаний, никогда бы не подумал, судя по ее обычному собранному и уравновешенному виду, что ее гнетет какая-то тайная печаль или боль. Мысль об этом письме не оставляла меня, особенно потому, что в последующие ночи я не раз, в полусне или бодрствуя, видел его у нее в руках или подозревал, что она вновь читала его, потому что на лице ее, когда она думала, что на нее никто не смотрит, появлялось то же самое печальное и задумчивое выражение. Вероятно, все замечали, насколько может захватить какая-нибудь идея, если постоянно прикован к одному и тому же месту и одолеваем одними и теми же мыслями. Это письмо приводило меня в сильнейшее раздражение. Не видя его, я подозревал, что оно лежит, забытое, у нее в кармане. О чем оно? Без сомнения, письмо любовное, но, если так, что приключилось с ее любовью? Выздоравливая, я вел себя как избалованный ребенок: все окружавшие меня думали только обо мне, так что, пожалуй, неудивительно, что и сам я не мог думать ни о ком другом; в конце концов пришел к убеждению, что просто обязан удовлетворить одолевающее меня любопытство. Даже полагал, что от этого зависит мое выздоровление. Впрочем, к чести моей, следует признать, что дело было не только в излишнем любопытстве. Текла ухаживала за мной с нежной сестринской заботой, несмотря на все свои многочисленные обязанности. Я частенько слышал, как фройляйн резко выговаривает ей за какой-нибудь непорядок, но Текла никогда не отвечала на эти упреки. Ее на всевозможные лады призывали разные люди, будто бы без нее никто не мог обойтись, и все же она не забывала обо мне и не оставляла меня надолго одного. Доктор был добр и внимателен; мой хозяин – доброжелателен и поистине щедр; его сестра при входе в мою комнату преодолевала свойственную ей резкость обращения; но своим благополучием, если не самóй жизнью, я был обязан Текле. С какой радостью я бы облегчил ее судьбу! (Незначительной суммы было бы вполне достаточно в этой старомодной части Германии с ее простыми нравами.) И вот однажды вечером – необходимости в ночных дежурствах уже не было, и Текла зашла ко мне, чтобы прибрать комнату, – я приступил к делу: