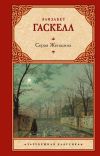Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– Текла, вы ведь не из этих мест?
Она взглянула на меня и слегка покраснела:
– Нет. Почему вы спрашиваете?
– Вы были так добры ко мне, и мне хочется побольше узнать о вас. Я не мог бы не заинтересоваться жизнью человека, который, как вы, ухаживал за мной во время болезни. Где живут ваши друзья? Живы ли ваши родители?
Все эти вопросы подводили меня к разговору о письме.
– Я родилась в Альтенаре. Мой отец там держит гостиницу – «Золотой олень». Матушка умерла, отец женился во второй раз, и у него много детей.
– А ваша мачеха дурно с вами обращается? – спросил я, делая поспешное заключение.
– Кто это сказал? – ответила она с долей негодования. – Она достойная женщина и хорошая жена моему отцу.
– В таком случае почему же вы живете так далеко от дома?
Тут на лице ее вновь появилось выражение, которое я видел в ночные часы, тайком наблюдая за ней! Глаза потемнели от неподдельной печали, а уголки рта едва заметно дрогнули. Но ответила она кратко:
– Так было лучше.
Со свойственным выздоравливающим упрямством я продолжал настаивать. Сейчас мне немного стыдно за себя.
– Почему лучше, Текла? Что там… – Как бы это выразить? Помолчав немного, я безрассудно ринулся к своей цели. – Это как-то связано с письмом, которое вы так часто перечитывали?
Под ее пристальным серьезным взглядом я в конце концов покраснел еще сильнее, чем она, и поспешил несвязно изложить ей свое убеждение, что ее гнетет тайная печаль, и заверить в своей готовности оказать ей помощь, если она оказалась в беде.
– Вы не сможете мне помочь, – ответила она, немного смягченная моим объяснением, хотя в ее голосе и манере все еще сквозило легкое недовольство тем, что за нею наблюдали исподтишка. – Это давняя история, прошлая печаль; по крайней мере, ее следовало бы забыть, но иногда я делаю глупости, и то, что вы это видели, – тут голос ее стал еле слышным, – достаточное наказание за мое безрассудство.
– Будь рядом с вами брат, Текла, вы бы позволили ему посочувствовать вам, если бы он был не в силах вам помочь, и не винили бы себя за то, что не скрыли от него свою печаль, разве не так? Прошу вас, позвольте мне быть вам братом.
– Прежде всего, сударь, – обращение «сударь» подчеркивало, что она даже вообразить ничего подобного не может, – я бы и брату постыдилась открыть свою печаль, которая также моя вина и мой позор.
Слова прозвучали как суровое обвинение, а я невольно придал ему еще более суровый смысл, что, должно быть, отразилось на моем лице; однако honi soit qui mal y pense[45]45
Да устыдится подумавший об этом дурно (фр.).
[Закрыть], потому что она торопливо продолжила, опустив глаза:
– Мой стыд и моя вина состоят в том, что я любила человека, который не любит меня, – она крепко сцепила пальцы, отчего на розовой коже появились белые вмятинки, – и никак не пойму, любил ли он меня вообще когда-нибудь или, может, прежде любил, а теперь переменился; если бы знать, что поначалу любил, я простила бы себе.
Она принялась дрожащими руками поспешно переставлять на столике у кровати приготовленные для меня на ночь травяную настойку и лекарство. Я же, узнав так много, намерен был продолжать.
– Текла, – попросил я, – расскажите мне обо всем, как рассказали бы своей матушке, будь она жива! В жизни нередко случаются недопонимания, которые, если их не разъяснить, приносят несчастье и одиночество до конца дней.
Она помолчала некоторое время. Затем вытащила из кармана письмо и произнесла спокойно и безнадежно:
– Вы ведь читаете по-немецки? Прочтите это и скажите, есть ли у меня причины для недопонимания.
Письмо, подписанное «Франц Вебер», было написано из какого-то швейцарского городка – не помню его названия – примерно за месяц до того, как я его прочел. В самом начале его автор подтверждал получение некоторой суммы, о которой, как явствовало из текста, просил и за которую выражал благодарность в самых возвышенных и льстивых словах; после всего этого с легким сердцем и спокойной совестью он спрашивал, не следует ли ему сочетаться браком с некоей девицей, проживающей в том городке, из которого он пишет, сообщая, что этой Анне-Как-Ее-Там всего восемнадцать лет, что она весьма хороша собой, а отец ее преуспевающий лавочник, и добавляя с неприкрытым самодовольством, что и к самой девице он, Франц Вебер, не вполне равнодушен. Завершалось письмо уверениями в том, что, если эта свадьба состоится, он, вне всякого сомнения, вернет Текле все деньги, которыми она его в разное время ссужала.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы разобрать все это. Текла светила мне, держа свечу ровно и спокойно и не проронив ни слова, пока я не свернул письмо и не передал его ей. Тут наши взоры встретились.
– Все понятно, верно, сударь? – спросила она со слабой улыбкой.
– Нет, – ответил я, – но вы счастливо избавились от недостойного человека.
Она покачала головой:
– В письме видна его плохая сторона. У всех есть плохие стороны. Не судите его строго; я, по крайней мере, не могу. Мы ведь выросли вместе.
– В Альтенаре?
– Да; у его отца тоже была гостиница, вторая в городе, и наши отцы вовсе не соперничали друг с другом, а дружили. Франц чуть помладше меня и был от рождения слабеньким. Мне приходилось водить его в школу, и я так гордилась тем, что мне это поручали, и им тоже. Потом он окреп и вырос самым красивым парнем в деревне. Отцы наши, бывало, сидели рядышком, покуривали и рассуждали о нашей женитьбе, а Франц, как и я, все это слышал. В любой беде он приходил ко мне за советом, и на всех танцах приглашал меня чаще, чем остальных девушек, и всегда приносил мне букетик цветов. А потом отец отправил его в мир поучиться в больших отелях вдоль Рейна, прежде чем перенять его дело. В Германии так уж повелось, сударь. Парни переходят из города в город, работают по найму и, говорят, везде учатся чему-нибудь новенькому.
– Мне известно, что это принято в торговле, – отозвался я.
– О да, и среди владельцев гостиниц тоже. Большинство официантов в больших отелях во Франкфурте, и Гейдельберге, и Майнце, и, осмелюсь сказать, во всех остальных местах, сыновья владельцев гостиниц в маленьких городках, которые покидают родные места, чтобы поднабраться опыта и, может быть, чуть-чуть выучить английский и французский, а иначе, говорят, им ни за что не пробиться. В мае минет четыре года, как Франц покинул Альтенар, а перед уходом принес мне кольцо из Бонна – он там новую одежду себе покупал. Я это кольцо больше не надеваю, но храню его у себя наверху, и оно меня утешает: смотрю на него и думаю, что все это не одни мои глупые домыслы. Наверно, он связался с дурными людьми, так как начал играть в карты – проигрывал больше, чем имел; иногда я ему немного помогала, мы ведь время от времени писали друг другу, потому что обменялись адресами, потому что в доме отца подрастали младшие дети, и я думала, что тоже отправлюсь в люди зарабатывать себе на жизнь – что уж там, скажу все начистоту, – надеялась, что смогу из жалованья скопить достаточно, чтобы купить красивое белье в хозяйство, и всякие горшки и кастрюли для… для того, чему теперь уж не бывать.
– Разве немецкие женщины, выходя замуж, сами покупают горшки и кастрюли, как вы их называете? – спросил я, пытаясь скрыть за этим обыденным вопросом вызванные нанесенными ей обидами негодование и сочувствие, которые мне было неловко выражать.
– О да, невеста покупает все необходимое для кухни и запас белья. Будь моя матушка жива, она бы все приготовила заранее – у нее были на это деньги; а мачехе и без меня нелегко придется: нужно будет все собрать для четырех своих дочек. Хотя, – продолжала она, оживившись, – теперь я смогу ей помочь, раз никогда не выйду замуж; а мой здешний хозяин справедлив и щедр и хорошо мне платит, целых шестьдесят флоринов в год. (Шестьдесят флоринов равны примерно пяти фунтам стерлингов.) А теперь доброй ночи, сударь. В чашке слева настойка, справа – желудевый чай.
Она затенила свечу и направилась к выходу. Приподнявшись на локте, я сказал ей вслед:
– Забудьте этого человека. Он вас недостоин. Лучше уж оставайтесь незамужней.
– Возможно, – серьезно ответила она. – Но вы не можете судить; вы его не знаете.
Несколько минут спустя я вновь услышал ее мягкие, осторожные шаги; она сняла башмаки и в одних чулках подошла к моей кровати, прикрывая свечу рукой. Увидев, что я не сплю, положила на столик рядом с ночником два письма:
– Может быть, сударь, вас не затруднит прочесть эти письма; тогда вы поймете, какой Франц на самом деле умный и благородный. И он ни в чем не виноват – вся вина на мне.
Больше в тот вечер не было сказано ни слова.
В течение следующего утра я прочел эти письма. Они были полны туманных, напыщенных, сентиментальных описаний его внутренней жизни и чувств, абсолютно эгоистичных и время от времени перемежающихся цитатами из второстепенных философов и поэтов. Должен заметить, что они не содержали ничего оскорбительного для нравов или чувства, хотя и заметно грешили против хорошего вкуса. В тот день мне предстояло выйти в соседнюю комнату, впервые после выздоровления покинув ту, что стала мне приютом на время болезни. Все утро я лежал, предаваясь размышлениям. Некоторые из них касались Теклы и Франца Вебера. Она – сильная, добрая, отзывчивая натура; он – слабый и тщеславный; как странно, подумал я, что ее привлек настолько непохожий на нее человек; но затем вспомнил о многих счастливых браках, в которых, с точки зрения постороннего наблюдателя, один из супругов настолько превосходил другого во всех отношениях, что их союз мог показаться заранее обреченным. Мои размышления были прерваны хозяином, который принес большой цветастый халат, подбитый фланелью и напоминающий индийский, и вышитую феску, которую, по его мнению, следовало надевать вместе с этим облачением. Он сообщил, что они принадлежали его отцу; помогая мне одеваться, он посвящал меня в различные семейные и деревенские дела. Гостиница процветает; число посетителей ежегодно растет за счет тех, кто приезжает взглянуть на составлявшую гордость Хеппенхейма местную церковь, которой я еще не видел. Ее построил великий кайзер Карл. А еще есть замок Штаркенбург, который аббаты монастыря в Лорше, верные церкви, частенько защищали от временных властителей – императоров. И до холма Мелибокус тоже недалеко. С гостиницей-то и один человек легко управится, но у него еще есть ферма, а за ней виноградники, где работы вполне достаточно. А сестра вечно недовольна, у нее на посетителей терпения и нервов не хватает, и она бы с радостью вернулась в свой Вормс. А за детишками нужен глаз да глаз. Он уже приготовился услышать от меня выражение искреннего сочувствия, но тут я как раз завершил свой затянувшийся туалет и вынужден был прервать его излияния и опереться на его крепкую руку, чтобы выйти в большую столовую, куда открывалась дверь из моей комнаты. В моем сознании сохранились смутные воспоминания об этом обширном помещении. Но как приятно оно изменилось! Правда, пустая часть комнаты, в которую не проникал солнечный свет, выглядела так же, как в тот первый день: унылой, с пустым длинным столом и стульями, предназначенными для посетителей; но в той части, что выходила окнами в сад, рамами был отгорожен уютный уголок для сушки одежды с накинутыми на них большими кусками синего домотканого полотна, из которого крестьяне Шварцвальда шьют себе платье. Это со всех сторон закрытое пространство обогревалось топившейся печью и низкими лучами октябрьского солнца. Внутри стоял небольшой круглый ореховый стол с цветами на нем и большое мягкое кресло, повернутое в сторону окна и видных из него холмов. Я не сомневался, что все это дело рук Теклы; помню, до той минуты я удивлялся, что почти не видел ее со вчерашнего вечера. Утром она раза два зашла по делу ко мне в комнату, но явно спешила и избегала моего взгляда. Даже когда я возвращал ей письма, доверенные мне с явной целью улучшить мое мнение о написавшем их, Текла не спросила, изменилось ли оно; просто взяла их с негромкими словами благодарности и поспешно убрала в карман. Я подумал, что сейчас, при свете дня, в будничной суете, она стыдится при воспоминании о том, как откровенна была накануне вечером. Кроме того, Текла, как никто другой, была постоянно занята. Мне не нравилось это отдаление, хотя оно и было естественным следствием улучшения моего состояния, благодаря чему я с каждым днем все меньше буду нуждаться в заботе, которая так настоятельно требовалась другим. Более того, после ухода моего хозяина – боюсь, я слишком резко прервал его подробный рассказ о хозяйственных тяготах, но он был достойным и добродушным человеком и не затаил на меня обиды – мне захотелось занять чем-нибудь внимание или развлечься. И я позвонил в колокольчик в надежде, что на звонок придет Текла, а я, не выражая никакой просьбы, поговорю с нею. Вместо Теклы явилась фройляйн, и мне пришлось придумать просьбу – не мог же я, подобно малому ребенку, заявить, что скучаю без няньки. Впрочем, я и фройляйн был рад и попросил ее принести мне винограда, который получал каждый день, за исключением сегодняшнего, потому что он хорошо освежает при температуре. Она была неплохой женщиной, доброй, хотя и не с самым лучшим характером, и с искренними извинениями ответила, что винограда больше нет. Отказ удовлетворить просьбу больного раздражил меня, и я не сдержался:
– Но Текла говорила, что сбор винограда начнется лишь четырнадцатого, а ваш виноградник совсем недалеко, сразу за садом, на склоне холма, разве не так?
– Так, и мы там собираем виноград. Но вы, сударь, наверное, не знаете наших законов. До начала сбора винограда – великий герцог всегда сам определяет этот день, и о нем объявляют в газетах, – так вот, до тех пор можно собирать свой виноград только дважды в неделю, в этом году по вторникам и пятницам, и в эти два дня следует набрать столько, чтобы всем хватило, а уж если кто просчитается и недоберет, приходится терпеть. А в последние пару дней в «Полумесяце» уйма постояльцев, и все хотят винограда. Но завтра день сбора, и господин получит столько, сколько пожелает.
– Что за странные предписания сверху, – недовольно проворчал я. – К чему все эти строгости? Чтобы не крали виноград друг у друга с неогороженных участков?
– Вот уж не знаю, – ответила она. – У крестьян в этих деревнях много странных порядков, как господин изволил заметить. Зато в Вормсе жизнь совсем другая – съездили бы, сударь, и сами бы убедились.
– Но там и вид совсем другой, – отозвался я, заметив внезапную перемену света, когда солнце вышло из-за тучки или облака.
Как я уже не раз говорил, окно смотрело прямо в сад. Постриженные сливовые деревья с золотистой листвой, большие кусты лиловых астр, поздние розы, яблони, с которых уже сняли часть розовых яблок, но ветки все еще были усыпаны ими, и под деревьями стояли подпорки; слева – увитая зеленью беседка, сверху донизу покрытая жимолостью и другими ползучими растениями; а дальше – низкая стена из серого камня, за которой поднимались виноградники, простиравшиеся до дальнего холма, одного из многих, уходивших все выше и выше, в фиолетовую даль.
Вдруг я заметил нечто необычное и спросил:
– Почему у выхода в виноградник протянута веревка с привязанной к ней соломой?
– Здешние люди так дают знать, что там ходить нельзя. Завтра ее уберут, и господин получит виноград. А теперь я пойду приготовить вам кофе.
И она удалилась, сделав книксен, как, вероятно, было принято в Вормсе. Кофе принесла младшая служанка, с которой я ни словом не перемолвился, совершенно не понимая ее ужасного диалекта. Спать я лег рано, утомленный и подавленный. И должно быть, мгновенно уснул, потому что не слышал, чтобы кто-то заходил в комнату, но утром, как обычно, все необходимое мне было аккуратно расставлено на столике у кровати.
Меня разбудил стук в дверь и тоненький детский голосок, на ломаном немецком спрашивающий разрешения войти. Я, по обыкновению, ответил утвердительно, и в комнату вошла Текла с прелестным крупным мальчуганом лет двух на руках, одетым лишь в ночную рубашонку и разрумянившимся после сна. Он крепко сжимал в ручках большую гроздь благородного муската и был похож на маленького Бахуса. Глядя на ребенка с очаровательной нежной гордостью, Текла поднесла его к кровати. Но, оказавшись вблизи от меня – недовольного, истощенного болезнью, заросшего, – он резко отвернулся и уткнулся личиком в ее шею, не выпуская грозди из рук. Она что-то быстро и ласково сказала ему, судя по всему уговаривая, хотя слов я не понял; через пару минут мальчуган послушался ее, повернулся в мою сторону, наклонившись так низко, что едва не выпал у нее из рук, разжал ладони, и гроздь упала на кровать рядом со мной. Затем он вновь прижался к Текле, уткнув лицо в ее шейный платок и ухватив за волосы.
– Это единственный сын хозяина, – проговорила она, мягкими движениями терпеливо высвобождая косы из его пальчиков, которыми он тут же снова их ухватил. – Мой маленький Макс, моя радость, только ему не следует так сильно тянуть. А теперь пусть он скажет «до скорой встречи» и пошлет господину поцелуй – и мы пойдем.
Обещание в самом скором времени унести его из моей темной комнаты сделало свое дело: малыш пролепетал «Auf Wiederseh’n»[46]46
До свидания (нем.).
[Закрыть], пухлой ручкой послал мне воздушный поцелуй, и Текла унесла его, радостно щебечущего что-то на своем детском языке. В следующий раз мы встретились ближе к вечеру, когда она принесла мне кофе. Теперь она совсем не походила на ту цветущую оживленную девушку, которую я видел утром, но была бледна, выглядела измученной заботами и словно постарела на несколько лет.
– Что произошло, Текла? – спросил я, искренне взволнованный тем, что могло приключиться с моей доброй, верной сиделкой.
Прежде чем ответить, она оглянулась.
– Я видела его. Он пришел сюда, и фройляйн так рассердилась! Грозится все рассказать хозяину. Ох, ну и денек выдался!
Обычно такая собранная и сдержанная, бедняжка едва не разрыдалась, но усилием воли взяла себя в руки и принялась передвигать белую фарфоровую чашку, чтобы мне было удобнее ее взять.
– Ну же, Текла, успокойтесь и расскажите мне обо всем. Я слышал громкие голоса и решил, что фройляйн опять вывели из себя, а Лоттхен была сама не своя, когда принесла мне обед. Франц здесь? Как он вас отыскал?
– Здесь. Это точно он, но за четыре года человек сильно меняется, я его совсем не узнаю, но он меня сразу узнал, и вспомнил все слова, которыми мы называли друг друга детьми, и хотел объяснить, почему так и не женился на этой швейцарской Анне. Сказал, что никогда не любил ее, а теперь хочет вернуться домой и остепениться и надеется, что я приеду и… – Тут она замолчала.
– И выйдете за него замуж и станете жить в его гостинице в Альтенаре, – продолжил я с улыбкой, чтобы подбодрить ее, хотя и был весьма разочарован ходом событий.
– Нет, – возразила она. – Старый Вебер, его отец, умер, оставив долги, и Франц не получит никаких денег. А ему всегда нужны были деньги – знаете, есть такие люди, – а пока я раздумывала и он стоял рядом, вошла фройляйн и – ничего удивительного, потому что на бедного Франца теперь жалко смотреть, – она страшно рассердилась, и обозвала меня скверной дерзкой девчонкой, и сказала, что не потерпит ничего подобного в «Полумесяце» и все расскажет хозяину, когда он вернется из лесу.
– Но вы ведь могли объяснить ей, что он ваш давний друг. – Я сомневался, стоит ли произносить слово «возлюбленный», но потом оно все же сорвалось с моих уст.
– Франц бы так и сделал, – нехотя ответила она, – но я не могла; и она выгнала его, и он ушел. В «Орла», что через дорогу, сказал только, что придет за моим ответом завтра утром. Мне кажется, он должен был сам рассказать о нас – что мы жили по соседству и дружили с раннего детства, – а не ждать, что это сделаю я. Ох, ну и распишет она все это хозяину! – воскликнула девушка, сцепив руки.
– Не тревожьтесь, – успокоил ее я, – передайте хозяину, как только он вернется, что я хочу его видеть, и я постараюсь это уладить, пока фройляйн не успела все испортить.
Она благодарно взглянула на меня и молча вышла из комнаты. Через некоторое время у входа в мой уголок появилась крепкая, плотная фигура хозяина. Он стоял с треуголкой в руках, усталый и разгоряченный, как человек после целого дня тяжелой работы, но с обычным добродушным и приветливым выражением лица, на что способен не каждый человек, которого обременяют лишними заботами после такого дня, не позволив ему поесть и отдохнуть.
Я все это время размышлял о рассказе Теклы и никак не мог найти подходящее объяснение ее сегодняшнему поведению; несомненно, любовь, сопровождавшая ее с юности, с появлением возлюбленного вспыхнула с новой силой; я даже был готов отдать ему должное за то, что он разорвал помолвку со швейцарской Анной, представлявшуюся такой выгодной; кроме того, я рассудил, что, хотя он слаб и склонен к сентиментальности, Текла выйдет за него замуж по своей воле и, возможно, ее здравого смысла и твердого характера достанет на них обоих. И все это я в самых общих чертах поведал моему доброму другу и хозяину, добавив, что хотел бы знать его мнение об этом человеке и что, коль скоро Текла, по моему мнению, все еще любит его, я постараюсь, если он не окажется совершенно никчемным, ссудить им деньги на устройство в семейной гостинице в Альтенаре.
Такой романтический способ избавить Теклу от всех ее несчастий занимал мои мысли на протяжении часа. Однако по мере того, как я излагал свой план хозяину, намекая на возможное счастливое завершение истории, лицо его преображалось. Оно почти утратило здоровый румянец и стало едва ли не суровым – во всяком случае, очень серьезным. Его выражение было настолько неприязненным, что я поспешил завершить свой рассказ. Немного помолчав, он сказал:
– Так вы хотите, чтобы я узнал все, что можно, об этом пришлом парне, который сейчас в «Орле», и сообщил вам, что я о нем думаю?
– Именно так. Я хотел бы знать о нем как можно больше ради блага Теклы.
– Ради блага Теклы, – мрачно повторил он, – я готов.
– И зайдете ко мне вечером, даже если я уже лягу?
– Не так скоро. В таких делах требуется время.
– Но он придет за ее ответом завтра утром.
– До его прихода я сообщу вам все, что узнаю.
На следующее утро, когда я отдыхал после утомившей меня процедуры одевания, хозяин постучал в дверь. Таким мрачным и суровым я его прежде не видел. Он сел рядом со мной, едва дождавшись приглашения, и заговорил:
– Он ее недостоин. Он крепко выпивает, хвалится удачей в картах и, – хозяин с трудом сдерживался, – тем, какие женщины его любили. В деревне вроде нашей, сударь, всегда найдутся люди, которые любят вечером посидеть в гостиничном саду, а этот человек, напившись, все им и выболтал. За ним даже следить-то не пришлось, да я бы на это и не согласился.
– Нужно все это рассказать Текле, – решил я. – Она не из тех, кто может любить без уважения.
Герр Мюллер негромко рассмеялся и вопреки обыкновению с горечью ответил:
– А вот об этом, сударь, вы не можете судить; вы молоды и мало знаете женщин. Судя по тому, что рассказала мне сестра, чувства Теклы не вызывают сомнений. Она застала их у окна: он обнимал Теклу за талию и что-то нашептывал ей на ухо; а эта девушка, надо признать, не каждому такое позволит. Вот увидите, – продолжал он все тем же презрительным тоном, – она станет оправдывать его грехи и пороки, а еще вернее, скажет, что все это неправда, хотя я головой ручаюсь за каждое свое слово.
Он резко развернулся и вышел из комнаты. Взглянув через некоторое время в окно, я увидел его крепкую фигуру в винограднике на холме: он широкими шагами взбирался все выше, направляясь в сторону леса. В течение следующего часа я был занят и не мог предаваться наблюдениям. По истечении этого времени он опять вошел в комнату, разгоряченный и слегка уставший, словно от быстрой ходьбы или тяжелой работы; однако лицо его прояснилось, а честные глаза вновь смотрели добродушно.
– Прошу прощения, сударь, снова я вас тревожу. Наверное, утром дьявол в меня вселился. Теперь я все обдумал. Полагаю, нельзя решать за другого, в чем его счастье. Любовь такой… – он запнулся, – такой женщины, как Текла, возвысит любого мужчину. Да и не судья я ни ей, ни ему. Сегодня утром я понял, что сам ее люблю; словом, коль вы, сударь, любезно принимаете в этом деле участие и думаете, что она действительно хочет стать женой этого парня – а уж для него-то это точно будет спасением на земле и на небесах, – я с радостью войду с вами в долю и возьму на себя половину расходов, чтобы обустроить их в этой гостинице в Альтенаре; только позвольте мне распорядиться, чтобы деньги, которые мы дадим, по закону принадлежали ей. И прошу не беспокоиться насчет моих слов о давней любви к ней. Я упомянул об этом в извинение своей утренней резкости и чтобы объяснить, почему не гожусь в судьи.
Он произнес это так быстро, что мне даже при желании не удалось бы остановить его; впрочем, я не испытывал подобного желания, заинтересованный тем, что происходило в его храбром и ранимом сердце. Однако теперь поток слов иссяк, и он с невольным вздохом замолчал.
– Вот только после вашего ухода, – ответил я, – Текла была здесь, и мы долго разговаривали. Теперь она говорит со мною откровенно, как с братом, с прямотой, когда требуется прямота, и со скромной сдержанностью, когда чрезмерная откровенность была бы неуместна. Она пришла спросить, должна ли она, по моему мнению, выходить замуж за этого человека, чья внешность, по ее словам, изменившаяся к худшему с их последней встречи четыре года назад, как будто отвратила ее от него.
– Но вчера-то она позволила ему себя обнять, – заметил герр Мюллер, к которому вернулась его утренняя угрюмость.
– Она станет его женой, если сочтет это своим долгом. Он пытался ее убедить в этом. Сказал, что она его спасет.
– Будто ему недостает собственной силы – будто он совсем ни на что не годен и нуждается в женщине, чтобы тащила его по жизни!
– Так и есть, – ответил я, не сдержав улыбки, – вы ведь пять минут назад уверяли, что брак с нею станет его спасением на земле и на небесах.
– Тогда я думал, она его любит, – не замедлил он с ответом. – И что же – что вы сказали ей, сударь?
– То, в чем ни минуты не сомневаюсь: раз она признает, что ей дороги были воспоминания о нем, а теперь, увидев подлинного Франца Вебера, она его больше не любит, она совершила бы грех, выйдя за него замуж, – совершила бы дурной поступок в надежде на добрые последствия. Я выразился совершенно определенно, хотя затруднялся бы дать совет, если бы ее любовь была еще жива.
– И что же она ответила?
– Еще раз рассказала о его и своей жизни. Против воли защищала его, идя на поводу у своей совести. Сказала, что в детстве он всегда полагался на нее и под ее влиянием не делал зла, а вдали от нее пошел по кривой дорожке.
– Вернее, встал на путь порока, – вставил герр Мюллер.
– А сейчас он пришел к ней раскаявшийся, скорбящий, стремящийся вернуть прошлое, прося ее о любви, которую, по ее мнению, она ему молчаливо обещала в давно прошедшие годы.
– И которую он предал и оскорбил. Надеюсь, вы рассказали ей о его словах и поведении вчера в саду «Орла»?
– Нет, я придерживался главной мысли, которую считаю верной. Повторял ее на разные лады, ведь Текла уверила себя, что ее долг – пожертвовать собой. Возможно, если бы мне не удалось переубедить ее в этом, я мог бы прибегнуть к фактам, что причинило бы ей жестокую боль, но показало бы, что его слова о раскаянии и обещания исправиться ничего не стоят.
– И чем это все закончилось?
– Она полностью убедилась в том, что поступила бы не хорошо, а дурно, став женой человека, которого разлюбила, и что не выйдет добра из действий, основанных на дурном поступке.
– Вот уж точно, – ответил он, и лицо его расплылось в счастливой улыбке.
– Но она уверяет, что должна оставить службу у вас и найти другое место.
– Службу-то у меня она оставит, а вот в другое место ни за что не перейдет.
– Боюсь, не в вашей власти ее заставить, – она настроена весьма решительно.
– С чего бы это? – гневно выпалил он, словно я был в этом повинен.
– Текла утверждает, что ваша сестра недопустимым образом говорила с нею в присутствии других слуг и некоторых местных жителей, а вы своим поведением вчера вечером дали ей понять, что более ее не уважаете. Она же со свойственной ей правдивостью уверяет, что Франц приблизился к ней всего за минуту до того, как ваша сестра вошла в комнату.
– С вашего позволения, сударь, – произнес герр Мюллер, направляясь к двери, – я немедленно все исправлю.
Однако это оказалось непростой задачей. Когда я в следующий раз увидел Теклу, глаза ее припухли от слез, она молчала и была едва ли не враждебна со мной. Лицо ее выражало твердую решимость. Впоследствии мне стало известно, что герр Мюллер в разговоре с нею неточно передал ей некоторые слова из нашей с ним беседы. Я решил не докучать и дать ей время преодолеть чувство необоснованного недовольства мною. Но миновал не один день, прежде чем она вновь заговорила со мной с привычной откровенностью. Задолго до этого герр Мюллер рассказал мне обо всем.
Расставшись со мной, он тут же направился к Текле и в свойственной всем влюбленным бездумной порывистой манере открыл ей свои мысли и намерения в присутствии сестры, которая, напомню, еще не получила объяснений поведения Теклы накануне, вызвавшего ее справедливое негодование. Герр Мюллер намеревался восстановить доброе имя Теклы в глазах сестры, выказав девушке знаки самого высокого уважения и любви. И вот хозяин дома появился в кухне, где фройляйн как раз была занята изготовлением заготовок на зиму, поглощавшим все ее внимание, и резким недовольным тоном отдавала Текле приказания, взял девушку за руку и, к ее несказанному удивлению – и к величайшему неудовольствию своей сестры, – предложил ей свои сердце, состояние и жизнь, попросив ее стать его женой. Из его рассказа я понял, что поначалу Текла совершенно растерялась и задрожала всем телом, потом высвободила свою руку и закрыла лицо фартуком. И тут вмешалась фройляйн со своим «чертовым», как он назвал ее тираду, заявлением. Текла открыла лицо и от начала до конца выслушала перепалку брата и сестры. Затем она подошла вплотную к пылавшей гневом фройляйн и со спокойным, но непреклонным выражением, глубоко поразившим претендента на ее сердце и погрузившим его в состояние полной безнадежности, объявила, что фройляйн не о чем беспокоиться, потому что именно сегодня она думала, не принять ли предложение другого человека, а ее сердце – не комната, которую можно сдать новому жильцу, как только ее освободил прежний. Однако она благодарна хозяину за его доброту. Он всегда хорошо к ней относился, с самого первого дня ее службы у него. И ей будет жаль оставить его и детей, а особенно маленького Макса, да и фройляйн тоже, потому что она добрый человек, только слишком уж строга к другим женщинам. Но все же она еще утром сообщила полиции о своем уходе, время сбора урожая скоро закончится, и первого ноября, в День Всех Святых, она рада будет избавить их от своего присутствия. Тут он подумал, что девушка вот-вот расплачется, потому что она резко выпрямилась, собралась с духом и повторила: да, очень рада, ведь, несмотря на их доброту, она была глубоко несчастна в Хеппенхайме и теперь ненадолго вернется домой повидать своего старого отца, и добрую мачеху, и крошку Иду, свою сводную сестричку, и опять оказаться в кругу семьи.