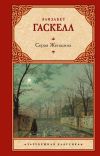Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Ну же, приободрись, приятель! – сказал Эллис, теряя терпение.
Но Оуэн не произнес ни слова и не двинулся с места.
– В чем дело, батюшка? – спросила в растерянности Нест.
Эллис пристально вглядывался в Оуэна минуту или две, а когда Нест повторила свой вопрос, велел ей:
– Спроси у него сама, Нест.
– Скажи мне, что случилось? – повторила она, становясь рядом с ним на колени и приближая свое лицо к его лицу:
– Разве ты не знаешь? – с горечью вымолвил он. – Ты разлюбишь меня, когда узнаешь. Однако вины моей в том нет, такая судьба была мне суждена.
– О чем он, батюшка? – обратилась она к отцу, подняв глаза, но тот жестом приказал ей добиваться ответа у мужа.
– Я никогда не разлюблю тебя, муж мой, что бы ни случилось. Поведай мне, пусть даже самое страшное.
Последовала пауза, Нест и Эллис затаили дыхание.
– Мой отец умер, Нест.
Нест громко ахнула.
– Господи, прости его! – воскликнула она, думая о своем ребенке.
– Господи, прости меня, – сказал Оуэн.
– Ты же не… – начала было Нест и осеклась.
– Да, все так. Теперь ты знаешь. Такая судьба была мне назначена. Что же я мог поделать? Дьявол сыграл со мной злую шутку, он подложил тот самый камень, о который отец размозжил голову. Я прыгнул в воду, надеясь его спасти. Я и правда нырнул за ним, Нест. И чуть было сам не утонул. Но он уже был мертв, мертв, он погиб, ударившись о камень!
– Так, значит, он надежно спрятан на дне моря! – воскликнул Эллис.
– Нет, он лежит у меня в лодке, – ответствовал Оуэн, дрожа не столько от холода, сколько при воспоминании об отце.
– Прошу тебя, переоденься в сухую одежду! – взмолилась Нест, для которой смерть старика была всего-навсего печальным событием, не имевшим к ней прямого отношения, тогда как страдания и тяготы мужа она воспринимала куда более остро.
Пока она помогала Оуэну снять промокшее платье, на что ему недостало бы сил самому, Эллис готовил ужин и смешивал в стакане виски с горячей водой. Он настоял, чтобы несчастный молодой человек поел и выпил, а заодно заставил и Нест проглотить несколько ложек; все это время он обдумывал, как бы понадежнее скрыть последствия этого деяния и самого преступника, при этом мысль о том, что его Нест, вот такая, небрежно одетая, неприбранная в своей скорби и печали, вскоре станет госпожой Бодоуэна, рождала в нем чувство затаенного торжества, поскольку Эллис Притчард не видывал в своей жизни более роскошного дома, хотя и догадывался, что такие бывают.
Пока Оуэн ел и пил, Эллис, задав ему несколько ловких вопросов, узнал все, что хотел. В свою очередь, Оуэн подробно рассказал об ужасном происшествии, надеясь немного смягчить и умерить охвативший его ужас и тем самым облегчить душу. К концу ужина, если так можно именовать эту трапезу, Эллис выведал все, что требовалось.
– А теперь, Нест, надевай плащ и собирай свои пожитки. Вам с мужем до завтрашнего утра надо одолеть полпути в Ливерпуль. Я на своей рыбачьей лодке провезу вас мимо Рил-Сэндс, а вашу лодку возьму на буксир, когда пройдем опасные места, вернусь со своим уловом узнать, большой ли переполох поднялся в Бодоуэне. Вы надежно спрячетесь в Ливерпуле, и никто не догадается, где вы; будете там тихонько жить-поживать, пока не придет время возвращаться.
– Я никогда не вернусь, – возразил Оуэн. – Это место проклято!
– Пустое! Положись на меня, приятель! В конце концов, это был несчастный случай! Мы пристанем к Святому острову, у мыса Ллин, там служит приходским священником один мой старый кузен – Притчарды знавали и лучшие деньки, зять, – и похороним его там. Это был несчастный случай, только и всего. Выше голову! Вы с Нест еще вернетесь, а я доживу до тех времен, когда вы наводните Бодоуэн целым выводком детей!
– Никогда! – промолвил Оуэн. – Я последний мужчина в роде, сын убил своего отца!
Нест вышла в теплом плаще с узлом в руках. Эллис торопил их с отплытием. Они затушили огонь и заперли дверь на замок.
– Нест, душенька моя, давай я понесу твой узел и помогу тебе спуститься по лестнице.
Муж ее лишь склонил голову и не произнес более ни слова. Нест передала отцу узел (в котором были увязаны те вещи, что он распорядился взять), а другой сверток мягко, но решительно прижала к груди.
– А его я никому не отдам, – прошептала она.
Отец не понял ее, но муж догадался и сильной рукой обнял ее за талию и благословил.
– Мы уйдем вместе, Нест, – сказал он. – Но куда?
И посмотрел на терзаемые ветром грозовые тучи, громоздящиеся на мрачном небе.
– Ночь будет ненастная, – предостерег Эллис, обернувшись к спутникам. – Но ничего, шторм мы выдержим!
И направился было к тому месту, где поставил на якорь лодку, но потом замер и призадумался.
– Подождите здесь! – велел он Нест и Оуэну. – Вдруг я кого встречу и мне придется вступить с кем-то в разговор. Посидите здесь тихо, пока я за вами не приду.
И они уселись, прижавшись друг к другу, на повороте тропинки.
– Дай мне взглянуть на него, Нест! – попросил Оуэн.
Она размотала шаль, которой был укутан ее мертвый сын; долго и нежно глядели они на его восковое личико, затем поцеловали младенца и благоговейно снова завернули его в шаль.
– Нест, – наконец заговорил Оуэн, – мне привиделось, будто дух моего отца сейчас пролетел над нами и склонился над нашим бедным малюткой. И будто дух нашего чистого, невинного дитяти благополучно довел дух моего отца путями небесными до райских врат, ускользнув от тех проклятых адских псов, что ринулись с севера, преследуя души умерших.
– Не говори так, Оуэн, – взмолилась Нест, прильнув к нему в темноте рощи. – Кто знает, вдруг сейчас нас слышат призраки?
Они безмолвствовали, охваченные неописуемым ужасом, пока не услышали громкий шепот Эллиса Притчарда:
– Где вы? Идите сюда, но тише, без лишнего шума! Здесь только что были люди, в имении сбились с ног, ищут сквайра, хозяйка напугана.
Они быстро спустились к маленькой гавани и сели в лодку Эллиса. Волны вздымались и опадали даже здесь, под защитой скал, а рваные тучи проносились над головами, взволнованные и беспокойные.
Они вышли в залив, по-прежнему храня молчание; только Эллис время от времени нарушал его, отдавая какой-нибудь приказ, ибо он взял на себя управление лодкой. Они подплыли к скалистому берегу, где Оуэн оставил свой маленький парусник. Но он исчез. Конец развязался, и лодку унесло ветром.
Оуэн сел и закрыл лицо руками. Последнее событие, сколь бы естественным и легко объяснимым оно ни было, произвело на его возбужденный, суеверный ум необычайное впечатление. Он надеялся достичь известного примирения, похоронив отца и своего сына в одной могиле. Однако теперь ему представлялось, что прощение невозможно, что отец его даже в смерти восстал против такого мирного союза. Эллис же смотрел на дело практически. Если тело сквайра обнаружат в плывущей по волнам без руля и без ветрил лодке, которая, как известно, принадлежала его сыну, то на Оуэна падут ужасные подозрения. В какой-то миг Эллису пришла мысль, не убедить ли Оуэна похоронить сквайра в «могиле моряков», иными словами, зашить его тело в парусину и, хорошенько нагрузив этот «саван» камнями, упокоить тело сквайра в пучине. Однако он не решился предложить такие похороны, опасаясь столкнуться с ожесточенным сопротивлением зятя; хотя, если бы тот согласился, они могли бы вернуться в Пен-Морфу и спокойно ожидать, чем кончится дело, будучи уверены, что рано или поздно Оуэн вступит в права наследования; а если бы Оуэна слишком сильно потрясло произошедшее, Эллис посоветовал бы ему ненадолго уехать и вернуться, когда улягутся пересуды и сплетни и вновь воцарится мир.
Но теперь все изменилось. Им необходимо было на время покинуть страну. Этой ночью им придется прокладывать себе путь по бушующим волнам. Эллис не испытывал страха – во всяком случае, перед Оуэном, каким тот был неделю, даже день тому назад, – но как быть с нынешним Оуэном, отчаявшимся, обезумевшим, затравленным судьбой?
То взлетая на гребнях волн, то низвергаясь вниз в своей утлой лодке, они исчезли во тьме, и никто их больше не видел.
Поместье Бодоуэн со временем обратилось в открытые всем ветрам и дождям мрачные руины, а землями Гриффитсов ныне владеют саксы.
Два брата
Моя матушка была замужем дважды. О своем первом муже она ничего не рассказывала, и то немногое, что мне известно о нем, я узнал от других. Она вышла за него совсем юной, едва ей минуло семнадцать; да и он едва достиг двадцати одного года. Он взял в аренду небольшую ферму в Камберленде – в той части, которая лежит ближе к морю, – но, вероятно, был еще слишком молод и неопытен и не умел как следует распорядиться землей и скотом; так или иначе, дела у него не ладились, он занедужил и на третьем году брака умер от чахотки; и матушка в двадцать лет осталась вдовой с маленькой дочкой, которая только училась ходить, и с фермой, за которую еще четыре года нужно было платить аренду, притом что стадо к тому времени сильно уменьшилось: часть коров передохла, а часть пришлось продать одну за другой, чтобы расплатиться с самими неотложными долгами; денег вечно не хватало, и докупить скот было не на что – не на что было купить даже скромное пропитание. Между тем матушка ждала еще одного ребенка – ждала, надо думать, с большой тревогой и печалью. Близилась страшная, одинокая зима, на многие мили окрест ни души; и тогда сестра пожалела ее и приехала к ней пожить, и вместе они как могли растягивали каждый с трудом добытый пенс. Я не знаю, почему судьбе было угодно, чтобы моя малютка-сестра, которую мне не довелось увидеть, внезапно заболела и умерла, только всего за две недели до рождения Грегори кроха слегла со скарлатиной и через несколько дней отдала богу душу. Это несчастье переполнило чашу маминого горя. Тетя Фанни сказывала мне, что мама даже не плакала; тетушка и рада была бы, если бы сестра поплакала, но та все сидела и сидела, словно в оцепенении, не выпуская из рук своих крохотной ручки и не отрывая глаз от милого, бледного мертвого личика, – ни слезинки не проронила. Не заплакала и тогда, когда ее девочку забрали и понесли хоронить. Она молча поцеловала свое дитя и села к окну смотреть, как небольшая вереница людей в черном (соседи, моя тетка да еще какая-то дальняя родственница – вот и все провожатые) удаляется по извилистой тропке на белом снегу, который припорошил минувшей ночью землю.
Вернувшись с похорон, тетя Фанни застала мою матушку на том же месте, и глаза ее по-прежнему были сухи. Так продолжалось, пока не родился Грегори. Его появление на свет словно что-то сдвинуло в ней, и она принялась плакать дни и ночи напролет, так что моя тетка и кто-то из навещавших сестер местных доброхотов растерянно переглядывались, не ведая, как ее унять. А она лишь просила оставить ее и не тревожиться понапрасну, ибо каждая слезинка несет облегчение ее изболевшейся голове, в которой царил кромешный ужас, покуда ей не удалось излить горе в слезах. С тех пор она ни о чем не могла думать, как только о своем новорожденном сыне. Кажется, она вовсе забыла и о муже, и о маленькой дочке, почивших на кладбище в Бритэме, – так говорила тетя Фанни; ну да она была горазда поговорить, моя тетка, тогда как матушка по природе была молчалива; и сдается мне, тетя Фанни, скорее всего, ошибалась, полагая, будто сестра не вспоминает о муже и ребенке, коли не хочет о них говорить. Тетя Фанни была старше мамы и привыкла обращаться с ней как с маленькой. При всем том Господь наделил тетушку добрым сердцем, и она больше пеклась о благе сестры, нежели о своем собственном; и жили они в основном на ее деньги и еще на то, что выручали за работу для торговцев бельем из Глазго. Но мало-помалу зрение у мамы стало сдавать. Не то чтобы она совсем ослепла – могла без труда передвигаться по дому и заниматься хозяйством, но для тонкой работы белошвейки ее глаза уже не годились. Не иначе она их выплакала, когда горевала, ведь она все еще была молода – молода и хороша собой. Я сам слыхал, как в деревне ее называли красавицей. Она очень печалилась оттого, что не может больше зарабатывать на себя и сына. Напрасно тетя Фанни уверяла сестру, что хватит с нее работы по дому и заботы о Грегори: матушка знала, что они едва сводят концы с концами и что тетя Фанни сама не ест вдоволь. Грегори не был крепок телом, но нуждался не столько в пище более обильной – еды ему хватало, если кто и недоедал, то не он, – сколько в более питательной и здоровой, особенно в мясе. И вот однажды (все это много лет спустя после маминой смерти мне рассказывала тетя Фанни) они вместе сидели дома: тетя Фанни шила на заказ, а мама укачивала Грегори; и к ним заглянул Уильям Престон, который впоследствии станет моим отцом. Его считали закоренелым холостяком; думаю, ему было уже хорошо за сорок. Один из самых зажиточных фермеров в округе, он знавал еще моего деда, как и мою тетку, и матушку в те дни, когда они жили в достатке. Гость скромно сидел на стуле и вертел в руках шляпу, стараясь произвести благоприятное впечатление. Тетя Фанни в одиночку поддерживала разговор, а он слушал да поглядывал на мою маму. Сам он почти ни слова не проронил ни в тот первый визит, ни в последующие. И так он все ездил к нам и молчал, пока не решился наконец прямо сказать об истиной цели своих посещений, которую он держал в голове с самого первого раза, как появился в доме. Однажды в воскресенье тетя Фанни не захотела идти в церковь, осталась присматривать за малышом, и мама пошла одна. Воротясь домой, она стремглав кинулась вверх по лестнице, даже не завернула в кухню взглянуть на Грегори и не сказала сестре ни слова, и тетя Фанни услышала, как она плачет навзрыд, словно ее сердце рвется на части. Тетушка пошла наверх и принялась распекать сестру через запертую дверь, так что в конце концов та не выдержала и открыла. Она кинулась на шею моей тетке и призналась, что Уильям Престон сделал ей предложение и обещал радеть о ее сыне, который ни в чем не будет нуждаться и сможет получить образование, – и что она дала согласие. Тетю Фанни это известие неприятно поразило: она, как я уже говорил, мысленно укоряла сестру за то, что та слишком скоро забыла своего первого мужа, и вот теперь ей представили неоспоримое свидетельство ее правоты. Иначе разве стала бы сестра думать о новом браке? А кроме того, тетя Фанни считала, что сама была бы более подходящей партией для мужчины возраста Уильяма Престона, чем Хелен: та хоть и успела овдоветь, ей не исполнилось еще двадцати четырех лет. Впрочем, как говаривала тетушка, ее совета не спросили; и в пользу сестриного решения имелись свои веские доводы. С таким зрением, как у Хелен, много не наработаешь, но жене Уильяма Престона это не помеха – можно хоть день-деньской сидеть сложа руки. А ребенок? Воспитывать сына – тяжкое бремя для вдовой матери, и совсем другое дело, если ребенка берет на попечение порядочный, солидный человек. В общем, принимая во внимание все обстоятельства, тетя Фанни смотрела на предстоящий брак благосклонно, в отличие от моей матушки, которая ходила потупив взор и ни разу не улыбнулась с того самого дня, как дала Уильяму Престону согласие стать его женой. Зато ее любовь к Грегори, и прежде безмерная, целиком ее поглотила. Каждую минуту, что они проводили наедине, она без умолку говорила с ним, хотя он по малолетству не понимал ее горьких сетований и не мог ее утешить иначе как детской лаской.
И вот они с Уильямом Престоном повенчались, и мама вошла хозяйкой в богатый дом, всего в получасе ходьбы от фермы, где жили они с тетей Фанни. Я не сомневаюсь, что матушка изо всех сил старалась угодить моему отцу; другой такой образцовой жены ему было бы вовек не сыскать – это я слышал из его собственных уст. Но она его не любила, как он довольно скоро понял. Она любила Грегори, а его не любила. Возможно, любовь со временем пришла бы к ней, если бы ему хватило терпения ждать; но он ничего не мог с собой поделать и всякий раз испытывал прилив желчи, замечая, как светлеет ее взор и румянятся щеки при виде малыша, тогда как для него, который столько ей дал, у нее было лишь кроткое слово холоднее ледышки. Он все чаще словно бы в шутку начал пенять ей за столь явную разницу в обращении, будто таким образом можно привлечь к себе любовь! И он откровенно не жаловал Грегори – ревниво завидовал неиссякаемому запасу любви, которая ключом била в ней, выплескиваясь на мальчика, стоило тому приблизиться. Моему отцу хотелось, чтобы жена любила его сильнее, и, наверное, в таком желании нет ничего зазорного и противоестественного; однако ему хотелось, чтобы она не так сильно любила свое чадо, а это уже от лукавого. Однажды он не сдержался и начал распекать Грегори за какую-то детскую шалость; мама вступилась за сына; отец сказал, что ему хватает мороки воспитывать чужого ребенка и чем вечно потакать капризам непослушного мальчишки, жене лучше бы знать свое место и не перечить мужу; так, слово за слово, они наговорили друг другу много неприятного; кончилось тем, что мама раньше обычного легла в постель, и в тот же день я появился на свет. Отец был и рад, и горд, и удручен – все сразу: рад и горд оттого, что у него родился сын, и удручен болезненным состоянием своей несчастной жены и тем, что оно вызвано его гневными словами. Но такой уж он был человек – предпочитал гневаться, а не каяться: недолго думая, он заключил, что во всем виноват Грегори, и записал на его счет новую провинность – мое досрочное появление на свет. А вскоре к ней добавилась еще одна. После моего рождения мама начала угасать. Отец послал в Карлайл за лучшими докторами. Он с радостью отдал бы всю кровь своего сердца в обмен на чеканное золото, ежели такой ценой можно было бы купить ей здоровье; но вернуть здоровье было нельзя. Тетя Фанни, помнится, говорила мне, будто сестрица Хелен просто не хотела жить, уступила смерти и не пыталась бороться за жизнь. Однако в ответ на мои расспросы тетка нехотя призналась, что мама послушно выполняла все предписания медиков – с тем покорным терпением, которое уже вошло у нее в привычку. Напоследок она попросила положить маленького Грегори к ней в постель бок о бок со мной. Когда это исполнили, она велела Грегори взять меня за ручку и держать крепко-крепко. Она лежала и смотрела на нас, и тут вошел ее муж. Он ласково склонился над ней справиться о ее самочувствии и задержал свой взгляд на двух маленьких единоутробных братьях с выражением бесконечной печали и доброты. Она подняла глаза и, глядя на его лицо, улыбнулась, подарив его едва ли не первой своей улыбкой – и такой милой, нежной улыбкой! (Тетя Фанни по сей день не в силах ее забыть.) Через час матушки не стало.
Тетя Фанни переехала жить к нам. Это было наилучшее из всех возможных решений. Отец и рад был бы вернуться к своим холостяцким привычкам, но где мужчине управиться с двумя маленькими детьми! В доме нужна была женщина, и кто, как не старшая сестра жены, лучше всех годилась на эту роль? Так я с рождения оказался на попечении тетушки. Конечно, на первых порах я был слаб здоровьем и она не отходила от меня ни на шаг, не оставляла одного ни днем ни ночью. С тем же рвением пекся обо мне мой вдовый отец. Земля, которой он владел больше трехсот лет, переходила от отца к сыну, и он лелеял меня уже потому, что я его плоть и кровь и после него унаследую фамильную землю. Но помимо этого ему нужно было кого-то или что-то любить, хотя многие считали его суровым и бесчувственным; и он привязался ко мне, как, думаю, в жизни своей не привязывался ни к одному живому существу; он мог бы, правда, привязаться к моей матери, если бы не ее прошлое, к которому он ее ревновал. И я тоже любил его всем сердцем. Я всех вокруг любил, мне кажется, потому что все были ко мне добры. Со временем я окреп и рос пригожим и здоровым на вид мальчиком, и всякий встречный одобрительно смотрел на нас, когда отец брал меня с собой в город.
Дома все носились со мной: для тетки я был свет в окошке, для отца – обожаемый сын, для старых слуг – любимец и забава, для батраков – «молодой господин». И уж как я пыжился, строя из себя поместного лорда: представляю, насколько потешно я выглядел, ведь у важного «господина» тогда еще молоко на губах не обсохло!
Грегори был на три года старше. Тетя Фанни всегда относилась к нему по-доброму, не обижала ни словом, ни делом, но он не слишком занимал ее мысли: тетушка была полностью поглощена мной – так повелось с самого первого дня, едва я попал под ее крыло и ей пришлось выхаживать слабенького младенца. Отец же не сумел совладать с ревнивой неприязнью к пасынку, который, сам того не ведая, стал его соперником в борьбе за сердце моей матери. Рискну также предположить, что отец всегда считал его виновником маминой безвременной кончины и моей младенческой немощи; и, как ни странно это прозвучит, отец, по моим наблюдениям, возомнил своим долгом скорее распалять в себе враждебное чувство к моему брату, нежели пытаться с ним совладать. В то же время отец не давал повода для упреков, будто он что-то пожалел для Грегори, если это что-то можно было купить за деньги. Как видно, так он понимал их с мамой брачный уговор.
Грегори был толстый увалень, на редкость нескладный, неповоротливый и неловкий; работники на ферме взяли манеру на него покрикивать, а то и ругать почем зря; при отце они еще сдерживались, но стоило хозяину отвернуться, как на его пасынка обрушивались попреки и брань. Стыдно! У меня на душе кошки скребут, как вспомню, что и я тоже поддался общему правилу и стал относиться к брату-сироте пренебрежительно. Не то чтобы я насмехался над ним или нарочно обходился с ним дурно, но привычка быть всегда в центре внимания и внушенное мне домочадцами чувство собственной исключительности привели к тому, что я зазнался и требовал от брата того, чего он дать не мог, а после досадовал и, случалось, повторял нелестные замечания, которые другие отпускали по его адресу, сам не вполне еще понимая их обидный смысл. Понимал ли Грегори, бог весть. Боюсь, что понимал. Он надолго замыкался в себе – «дулся как мышь на крупу», выражаясь словами отца, или «дурел», пользуясь простодушным определением тетушки. Не только она, все вокруг считали его тупицей и букой, и оттого он становился как будто еще глупее и нелюдимее и мог часами сидеть, уставившись в одну точку, словно язык проглотил. В конце концов отец заставлял его встать и заняться каким-нибудь делом, как правило – на скотном дворе. Обычно он шел только после третьего или четвертого напоминания. И когда нас отдали в школу, там была точно такая же картина. Как с ним ни бились, он не мог выучить урок – не помогали ни выговоры, ни розги; и учителю ничего не оставалось, как посоветовать отцу забрать его из школы и приспособить для какой-нибудь нехитрой работы, доступной его разумению. Мне кажется, с тех пор он окончательно замкнулся и поглупел, но не озлобился. Он вообще был малый незлой и терпеливый, любому старался услужить, даже если всего минуту назад тот же человек наградил его бранью или затрещиной. К несчастью, его благие намерения чаще всего выходили боком для тех, кому он пытался подсобить, уж очень он был неуклюж и нерасторопен. Я же, судя по всему, обладал живым умом, во всяком случае, меня хвалили и считали, как тогда выражались, «украшением» нашей школы. Если верить учителю, я бы мог выучиться всему, чему пожелал бы; но отец, сам не особенно образованный, не видел прока в науках и, поставив точку на моей учебе, держал меня при себе на ферме. Грегори определили в пастухи. В этом деле его наставлял старый Адам, который сам уже едва справлялся. Кажется, старик едва ли не первый одобрительно отзывался о Грегори. Он упрямо твердил, что у Грегори много достоинств, только парень не умеет ими пользоваться; а уж что касается здешних мест, то он, Адам, в жизни своей не встречал никого, кто так хорошо бы знал все склоны и тропы. Отец не раз пытался вызвать Адама на откровенный разговор о недостатках и провинностях Грегори, но в ответ старик, угадав отцовский замысел, принимался с удвоенным жаром нахваливать своего помощника.
Однажды зимой – мне тогда было шестнадцать, а Грегори девятнадцать – отец послал меня с каким-то поручением за семь миль от дома: семь миль, если считать по дороге, а напрямик, через холмы, всего четыре. Отец заклинал меня на обратном пути не сходить с дороги, даже если туда я благополучно пройду по холмам: в эту пору дни короткие, темнеет рано и по вечерам на склоны часто ложится тяжелый, плотный туман. И, кроме того, старый Адам, уже прикованный к постели параличом, предрек снегопад. Я быстро добрался до места и управился с делами на час раньше, чем рассчитывал отец, и потому принял решение не тратить время на кружной путь. На землю ложились первые вечерние тени, вокруг было сумрачно и тоскливо, но вместе с тем очень тихо, безветренно – у меня сомнений не было, что я успею вернуться домой задолго до снегопада. Я быстро двинулся в путь. Однако ночь спускалась быстрее. При свете дня найти дорогу труда не составляло, хотя в нескольких местах тропа разветвлялась и нужно было выбрать одну из двух, а то и трех одинаковых с виду тропинок; ну да когда кругом светло, на помощь приходят разные издалека заметные приметы – тут камень, там овраг, – которые в полумраке сделались неразличимы. Но я приказал себе не трусить и бодро пошел вперед правильной, как мне казалось, дорогой. Однако на поверку мне это только казалось, и я забрел невесть куда, в какую-то глушь, куда, верно, еще не ступала нога человека и где ничто не нарушало гнетущей тишины, и там, в сырой, заросшей вереском болотине, мне сделалось вдруг так одиноко и жутко, хоть плачь! Я попытался было кричать – без всякой надежды, что меня услышат, а только чтобы звук собственного голоса немного меня ободрил; но от испуга голос срывался на сип, и я совсем пал духом. Странно и страшно звучал мой слабый крик посреди бескрайней черной пустыни!.. Внезапно воздух подернулся мутной пеленой, заполнился бесшумными хлопьями, и мое лицо и руки повлажнели от снега. Теперь я совершенно утратил представление о том, куда меня занесло и как отсюда выбраться: я ничего не видел вокруг, не мог даже надеяться найти собственные следы. С каждой минутой вокруг все плотнее смыкалась густая, ватная тьма. Болотная почва начинала проседать и колыхаться подо мной, стоило мне замереть на месте, и все же я не решался далеко отходить. Куда девалась моя молодая бесшабашная заносчивость – ее как ветром сдуло! Я чуть не плакал, и заплакал бы, если бы не стыдился своей слабости. Сдерживая слезы, я стал кричать – надрывно, истошно, как зовет на помощь утопающий. Когда я остановился перевести дух и прислушался, у меня с тоской сжалось сердце: ни звука в ответ, только гулкое равнодушное эхо; только бесшумный безжалостный снег, который валил все сильнее и сильнее – быстрее и быстрее! Я начал коченеть от холода и с трудом стряхивал с себя сонное оцепенение. Я старался двигаться, но, немного пройдя вперед, снова возвращался: не ровён час сорвешься с обрыва – здешние склоны местами очень коварны, тут и там выступают голые скалы. Временами я замирал и снова принимался кричать, но голос мой прерывался, меня душили слезы при мысли о том, какую жалкую, бесславную смерть мне суждено принять и как в эту самую минуту мои домашние, сидя вкруг жаркого, красного, веселого огня в камине, ведать не ведают, что со мной приключилось… И как будет убиваться по мне мой бедный батюшка… ему не пережить такого горя… Бедный, бедный мой отец!.. И тетя Фанни – неужто пришел конец ее неустанным заботам о своем питомце? Словно сон наяву, передо мной прошла моя жизнь, призрачными видениями промелькнули обрывки детских лет. В отчаянном порыве, вызванном воспоминаниями, я собрал всю свою волю и вновь закричал что есть мочи. Какой это был долгий, пронзительный, жалобный крик! Но я не надеялся услышать в ответ ничего, кроме эха, приглушенного снегопадом. К своему удивлению, я услышал крик – такой же протяжный, истошный, как и мой собственный, дикий, словно нездешний вопль, от которого я содрогнулся, невольно припомнив местные поверья о духах-пересмешниках, населяющих наши горы. Сердце мое вдруг часто и громко застучало. Минуту-другую я не в силах был отвечать, у меня даже закралось сомнение: уж не лишился ли я навсегда голоса и дара речи? И тут вдалеке залаяла собака. Неужто Лэсси? Так звали собаку брата – большую неказистую колли с нелепой белой мордой. Отец не упускал случая пнуть ее мимоходом, отчасти за ее неприглядность, отчасти за то, что она принадлежала моему брату; и всякий раз Грегори свистом подзывал Лэсси к себе, и они на пару отсиживались где-нибудь в сарае. На моей памяти отец раз или два все-таки устыдился своего поступка, когда бедная колли взвыла от неожиданного удара, но, чтобы не корить самого себя, он вымещал досаду на брате, который, по его мнению, не умел научить собаку простейшим правилам. Такому олуху доверь лучшую в мире овчарку – он и ее испортит: где это видано, чтобы собака грелась в кухне у очага! Грегори ничего на это не отвечал, будто и не слышал, и лицо его оставалось неподвижным, отсутствующим, сумеречным.
Да! Вот опять! Сомнений нет, это Лэсси! Теперь или никогда! Я снова обрел голос и закричал: «Лэсси! Лэсси! Ко мне, Лэсси, ради бога!..» Один миг – и огромная беломордая псина уже радостно кружила и скакала у моих ног, с опаской заглядывая снизу вверх мне в лицо своими умными, настороженными глазами, словно побаиваясь, не вздумаю ли я приветствовать ее пинком, как случалось прежде. Заливаясь счастливыми слезами, я наклонился и ласково потрепал ее. Мой разум, как и тело, с трудом мне подчинялся, и я не мог рассуждать здраво, но одно я понял: помощь на подходе. Неясная серая фигура все отчетливее проступала на фоне сомкнувшейся вокруг меня темноты. Это был Грегори, закутанный в походный плед.
– Грегори! – только и вымолвил я и повис у него на шее, не в силах больше выдавить ни слова.
Он всегда говорил неохотно и сейчас тоже не сразу мне ответил. Помолчав, он сказал, что нам надо идти, если жизнь дорога, – надо постараться отыскать дорогу к дому, но главное – идти, а не то мы насмерть замерзнем.
– Ты разве не знаешь дорогу домой?
– Да знал вроде, пока шел вперед, но теперь сомневаюсь. Снег слепит глаза, а под конец я много кружил, боюсь, заплутал.
У него был пастуший посох, и, прежде чем сделать шаг, он втыкал его впереди, и мы, крепко прижавшись друг к другу, довольно благополучно одолели небольшое расстояние – во всяком случае, не сорвались вниз со скалы, – но до чего же медленно, нога за ногу, мы с ним шли! Я заметил, что брат больше полагается на Лэсси и, доверяя ее инстинкту, просто следует за ней. В темноте различить что-то можно было лишь в нескольких шагах, и он все время подзывал собаку, примечая, откуда она бежит, – туда и мы шли мучительно медленно. Это томительное продвижение меня не согревало, и я чувствовал, что кровь буквально стынет в жилах. Каждая косточка, каждая поджилка сперва ныла, потом как будто набухала и немела от пронизывающего холода. Брат переносил стужу лучше – сказывалась привычка ходить по холмам в любую погоду. Он ничего не говорил, только часто окликал Лэсси. Я очень старался держаться стойко и не ныть, но скоро на меня стала наваливаться смертельная, роковая сонливость.