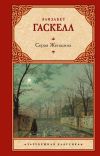Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– Но если все забудут о них? – разволновался я. – Что же, они станут покорно дожидаться голодной смерти и никого не известят о своей крайней нужде?
– Если того требовал бы монастырский устав, клариссинки не отклонились бы от него ни на йоту, будьте покойны; но на такой крайний случай их основательница предусмотрела спасительное средство. В обители есть колокол – по слухам, совсем маленький, и на памяти здешних жителей он ни разу не звонил; так вот, если сестры остались без еды более чем на двадцать четыре часа, им дозволено позвонить в колокол – и тогда благочестивые антверпенцы кинутся спасать своих клариссинок, которые в трудную минуту всегда приходят нам на помощь.
Мне подумалось, что спасение может ведь и запоздать; но свои мысли я оставил при себе и свернул разговор на интересующий меня предмет, спросив хозяина, не слыхал ли он о некой сестре Магдалене.
– Как не слыхать, – ответил он, понизив голос до шепота, – слухами земля полнится, даже из обители клариссинок кое-что нет-нет да и просочится. Сестра Магдалена либо великая грешница, либо святая. Говорят, она трудится больше, чем все прочие сестры, вместе взятые; в прошлом месяце ее хотели сделать настоятельницей, так она принялась умолять, чтобы ее поставили не выше, а ниже всех и обращались бы с ней как с недостойной служанкой.
– А вам не доводилось видеть ее?
– Нет.
Я истомился в ожидании отца Бернарда, но неведомо почему медлил и не покидал Антверпен. Между тем политическая обстановка здесь осложнилась как никогда прежде из-за нехватки продовольствия, вызванной сильным неурожаем. На каждом углу мне встречались компании озлобленных оборванцев, у которых при виде моей гладкой кожи и дорогой одежды по-волчьи загорались глаза.
Наконец отец Бернард объявился и в ходе состоявшейся у нас долгой беседы рассказал об удивительном стечении обстоятельств: в одном из австрийских полков, расквартированных в Антверпене, служит мистер Гисборн! Я попросил отца Бернарда познакомить нас и получил его согласие. Но уже через день он сообщил мне, что, услышав мое имя, мистер Гисборн наотрез отказался иметь со мной дело – якобы он давно отрекся от своей страны и не желает знаться с соотечественниками. Вероятно, мистер Гисборн припомнил, что я как-то связан с его дочерью Люси. Так или иначе, он не оставил мне шанса свести знакомство с ним.
Отец Бернард подтвердил мои предчувствия – да, атмосфера в Антверпене день ото дня накаляется, в среде рабочего люда началось брожение, того и гляди грянет гроза. Он настоятельно советовал мне уехать, но я заупрямился – близость опасности возбуждала меня.
Однажды мы с ним прогуливались по Грунплац[23]23
Грунплац, или Зеленая площадь, – самая известная в Антверпене.
[Закрыть], и он поклонился австрийскому офицеру, направлявшемуся в собор[24]24
Имеется в виду кафедральный собор Антверпенской Богоматери.
[Закрыть].
– Ваш мистер Гисборн, – пояснил он, едва офицер проследовал мимо.
Я проводил взглядом высокую подобранную фигуру в военной форме. В глаза мне бросилась безупречная выправка, хотя офицер был уже немолод и никто не упрекнул бы его за чуть менее горделивую осанку. Он обернулся, и я увидел его лицо – изборожденное глубокими морщинами, усталое, желчное, опаленное огнем войны и страстей. Наши глаза на мгновение встретились, но каждый тотчас отвернулся и пошел своей дорогой.
Его внешний вид произвел на меня неизгладимое впечатление. Тщательность в одежде, откровенная забота о своем облике так мало вязались с неприветливым и сумеречным выражением лица! Узнав, как выглядит отец Люси, я с того дня инстинктивно высматривал его в толпе. В конце концов он заметил мой интерес к своей персоне и всякий раз, когда я оказывался поблизости, обжигал меня высокомерно-недовольным взглядом. Впрочем, во время одной из наших встреч мне выпал случай услужить ему. Свернув за угол, он неожиданно столкнулся с компанией воинственно настроенных фламандцев. После короткой перепалки мистер Гисборн выхватил шпагу и легким, но точным движением царапнул одного из смутьянов, прочертив у него на щеке кровавую полосу. Вероятно, Гисборн счел, что ему нанесли оскорбление; я был далеко и слов не расслышал. Если бы фламандцы навалились на него всей гурьбой, ему бы не поздоровилось. Но я кинулся вперед и стал громко звать на помощь австрийских солдат (в Антверпене хорошо знали тогда этот призыв!), постоянно патрулировавших улицы, и те отовсюду сбежались на мой крик. Боюсь, ни гордец мистер Гисборн, ни бунтовщики-простолюдины не испытывали благодарности за мое непрошеное вмешательство. Старый офицер занял наилучшую позицию для обороны – спиной к стене; в руке у него сверкала шпага, и он готов был дать бой всем шестерым или семерым крепким, разъяренным, но безоружным противникам. Увидев австрийских солдат, он убрал шпагу в ножны и скомандовал им разойтись, после чего сам неторопливо пошел по улице прочь. Фламандцы злобно ворчали ему вослед и, кажется, подумывали разделаться со мной за мой крик. Мне было все равно – я влачил свою жизнь как постылое бремя; и, возможно, моя бесшабашная смелость – то, что я не пытался унести ноги, покуда мог, – остудила их горячие головы. Они даже снизошли до беседы со мной и рассказали про свои беды. Поистине, на их долю выпало столько лишений, что после этого немудрено было впасть в отчаяние и злобу.
Человек, которому Гисборн оцарапал шпагой лицо, добивался от меня имени своего обидчика, но я отказался назвать его. Вместо меня ему ответил один из его товарищей:
– Я знаю его. Это Гисборн, адъютант генерал-коменданта. Я хорошо его знаю!..
И он начал рассказывать им про Гисборна, нарочно понизив голос. Я видел, что от его слов в них закипает дурная кровь и что рассказ не предназначен для моих ушей. Я молча оставил их и пошел к себе на квартиру.
Той ночью в Антверпене вспыхнул бунт. Горожане восстали против своих австрийских хозяев. Австрийцы охраняли городские ворота и поначалу спокойно отсиживались за крепостными стенами; только время от времени над городом грозно ухала пушка. Но если они ожидали, что фламандцам нужно просто выпустить пар и через несколько часов волнение уляжется само собой, то они просчитались. За пару дней восставшие захватили все главные муниципальные здания. Тогда австрийцы пошли в наступление. Самоуверенно усмехаясь, демонстрируя образцовый боевой порядок, они маршировали по городу и занимали позиции с таким видом, словно гнев разъяренной черни для них не более чем жужжание мух в летний день. Их хорошо отрепетированные маневры и меткие выстрелы достигали своей ужасной цели, но на месте одного убитого мятежника тотчас возникало трое других, жаждущих отомстить за товарища. Однако фламандцам пришлось столкнуться с еще одним страшным врагом, вступившим в смертельный союз с оккупантами. Еда, дорогая и скудная все последние месяцы, стала практически недоступной – за любую цену. Восставшие прилагали все силы, чтобы доставить в город продовольствие, полагаясь на помощь друзей за пределами Антверпена. Неподалеку от порта, в районе, прилегающем к Шельде, разыгралась жестокая битва. Я был там, сражаясь вместе с фламандцами, которым искренне сочувствовал. Мы яростно схлестнулись с австрияками. Обе стороны несли тяжелые потери. Я видел, как окровавленные люди валились наземь. В следующее мгновение ухал очередной залп, и все заволакивало густым дымом. Когда же дым рассеивался, упавшие были уже мертвы – их затаптывали живые, на них падали новые раненые, скошенные последними залпами, снова и снова… Посреди этого дыма и огня то тут, то там возникала женская фигура в сером облачении, с серым покрывалом на голове. Женщины склонялись над теми, кто истекал кровью, – одному давали напиться из пристегнутой к поясу фляги; над другим, умирающим, поднимали крест и быстро читали молитву, не слышную никому в этом грохочущем аду, но слышную Тому, кто взирает на нас с небес. Все это я видел, словно во сне. Наяву в те ужасные часы царила кровавая бойня. Но я догадался, что фигуры в сером, с мокрыми от крови босыми ногами, с лицами, скрытыми под вуалью, – затворницы-клариссинки, которым приказано было покинуть стены обители и идти на поле брани, в гущу кромешной муки и ежесекундной опасности.
В какой-то миг рядом со мной оказался – вернее, мелькнул, увлекаемый прочь волной рукопашной схватки, – знакомый антверпенец со свежим шрамом на лице; под натиском тел он потерял равновесие и, падая, сшиб с ног австрийского офицера – Гисборна! Прежде чем каждый из них сообразил, что происходит, антверпенец узнал своего обидчика.
– Вот те на! Англичанин Гисборн! – вскричал он и с удвоенной яростью бросился на врага.
От его сокрушительного удара англичанин рухнул, и тут из облака дыма выступила фигура в сером. Она склонилась над поверженным офицером, бесстрашно нырнув под выставленный вперед сверкающий клинок. Фламандец, уже занесший руку для смертельного удара, застыл на месте. Ни австрийцы, ни антверпенцы не причиняли вреда клариссинкам, разве что нечаянно.
– Оставь его мне, – послышался негромкий строгий голос. – Он мой заклятый враг!
Это было последнее, что я слышал. Меня самого сразила пуля, и несколько дней я провел в беспамятстве. А когда очнулся, то ощутил полное бессилие и зверский голод. Подле меня сидел мой антверпенский хозяин; узнав о моем ранении, он разыскал меня. Вид у него был изможденный. Да, битва за город продолжалась, но в нем свирепствовал голод – по слухам, некоторых эта напасть уже скосила. Пока хозяин рассказывал мне о положении дел, в его глазах стояли слезы. Но он преодолел свою слабость, и к нему вернулось природное жизнелюбие. Обо мне справлялся отец Бернард – и больше никто. (Кто еще мог справляться обо мне, в самом деле?) Отец Бернард обещал снова заглянуть после обеда. Но он не пришел, хотя я встал с постели и оделся, предвкушая нашу встречу.
Хозяин принес мне поесть, собственноручно приготовив какое-то блюдо; из чего он его сотворил, я так и не узнал, но на вкус оно было восхитительно, и с каждой ложкой силы возвращались ко мне. Добрый малый смотрел на мой восторг с благодушной, участливой улыбкой, хотя потом я заметил грусть в его глазах, и мне подумалось, что он сам с жадностью съел бы мой обед. Тогда я еще не осознал, насколько все изголодались. Внезапно за окном послышался топот множества бегущих ног. Хозяин открыл одну створку, чтобы узнать, что происходит. Снаружи донеслось слабое, надтреснутое звяканье колокола – звук этот резко выделялся на фоне привычного городского шума.
– Пресвятая Богородица! – всплеснул руками мой хозяин. – Клариссинки!
Он сгреб со стола остатки моего обеда, сунул сверток мне в руки и призвал следовать за ним. Он кинулся вниз по лестнице, хватая на ходу еще какие-то куски съестного, которые из всех дверей протягивали ему сердобольные соседки; в мгновение ока мы выскочили на улицу и присоединились к потоку людей, устремившихся к обители клариссинок. Все время, пока мы шли, в ушах раздавался пронзительный набатный звон. В этом странном людском сборище были трясущиеся, всхлипывающие старики, пожелавшие отдать последние крохи со своего стола; обливавшиеся слезами женщины, которые впопыхах вынесли из дому все свои припасы вместе с ларями, в которых они хранились, так что тяжесть ноши во многих случаях оказывалась куда больше, нежели вес содержимого; дети с красными от волнения лицами, сжимавшие в кулачках надкусанный пирожок или ломоть хлеба – свое угощение для бедных сестер; закаленные мужчины – антверпенцы и австрияки, все вперемешку, – которые размашистым шагом, сцепив зубы, не говоря ни слова, шли вперед, словно в атаку… И над всеми, отдаваясь в каждом сердце, непрерывно бренчал колокол – надрывный крик о помощи в отчаянной, крайней нужде.
Потом навстречу нам потекли ручейки людей с бледными, несчастными лицами – тех, кто уже вышел из обители, уступив место новым жертвователям.
– Скорее, скорее! – подгоняли они нас. – Сестра-клариссинка при смерти! Помирает с голоду! Господи, прости нас, прости наш город!
Мы все прибавили шагу. Толпа сама несла нас – через голые, давно не видевшие даже крошек на столах трапезные к кельям с именами насельниц на дверях. Меня вместе с другими втолкнули в келью сестры Магдалены. На ее узкой койке лежал Гисборн, белый как смерть, но еще живой. На полу стояла чашка с водой и валялась краюшка заплесневелого хлеба, которую он оттолкнул, а после не имел уже силы поднять. На стене напротив постели было начертано на латыни (с переводом на английский): «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его»[25]25
Рим. 12: 20.
[Закрыть].
Мы дали ему немного еды, и он набросился на нее, как голодный волк, а мы поспешно вышли из кельи. Резкое, надрывное треньканье прекратилось, и раздался один торжественный гулкий удар, который во всех христианских землях означает, что душа покинула земную юдоль и отлетела в вечность. По толпе пробежал то ли вздох, то ли стон – охваченные благоговейным страхом люди на разные голоса повторяли одно и то же:
– Сестра-клариссинка при смерти!.. Сестра-клариссинка преставилась!
Толпа вновь понесла нас – теперь уже в монастырский храм. На катафалке пред алтарем лежала женщина – сестра Магдалена – Бриджет Фицджеральд. Сбоку от нее стоял отец Бернард в богослужебном облачении. Воздев над головой распятие, он именем Святой Церкви торжественно даровал умирающей полное отпущение, как если бы она только что исповедалась ему в смертном грехе. Я стал энергично проталкиваться вперед, пока не очутился близ умирающей, которая приняла последнее причастие в окружении великого множества затаивших дыхание людей. Глаза ее уже начали стекленеть, конечности деревенели; но когда обряд причащения был завершен, она вдруг приподняла голову и медленно села. От нее остались кожа да кости, но ее затухающий взор озарился непонятной радостью, и она словно в трансе указала пальцем на что-то никому не видимое: казалось, она с ликованием следит за бегством омерзительного чудовища.
– Проклятие снято с нее! – изрекла она и замертво упала навзничь.
Проклятие Гриффитсов
Глава первая
Меня всегда весьма интересовали бытующие по всему Северному Уэльсу предания и легенды об Оуэне Глендауре (или, как именуют его соотечественники, Овейне Глендуре), и я вполне разделяю чувство, которое питают к нему валлийские крестьяне, до сих пор почитающие его как национального героя. Великая радость и ликование охватили жителей валлийской земли, когда в Оксфордском университете темой конкурсного валлийского стихотворения, за которое назначался особый приз, пятнадцать или шестнадцать лет тому назад был объявлен Овейн Глендур. Ни одна тема за много лет не польстила так национальной гордости валлийцев.
Возможно, некоторые не знают, что даже ныне, когда восторжествовало просвещение, этот грозный вождь славится среди своих необразованных соотечественников не только патриотизмом, но и магическими способностями. Он сам говорит о себе – или Шекспир говорит о нем, что, в общем-то, сводится к одному и тому же:
И не много найдется валлийцев низкого звания, которые решились бы, подобно Хотсперу, откликнуться на это утверждение циническим вопросом[27]27
В пьесе на утверждение Глендаура Хотспер откликается так: «И я могу, и каждый это может. / Вопрос лишь, явятся ль они на зов».
[Закрыть].
Среди различных легенд, сохранивших для нас память о Глендауре-волшебнике, есть и старинное пророчество, касающееся судьбы одного валлийского семейства и давшее название этому рассказу. Когда сэр Дэвид Гэм, «предатель столь коварный, словно родился он в Билте», злоумышлял на самую жизнь Оуэна в Махинллете, к сему изменнику примкнул некто, кого Оуэну и не мнилось увидеть среди своих врагов. Лишить его жизни пытался его «старый, испытанный друг», его родич, который был ему ближе брата, – Рис ап Грифидд. Оуэн мог простить измену сэру Дэвиду Гэму, но не тому, кого любил и кем был предан. Оуэн слишком хорошо ведал тайны человеческого сердца, чтобы обречь Грифидда на смерть. Нет, Оуэн даровал ему жизнь, дабы тот влачил жалкое существование, пробуждая в своих соплеменниках отвращение и гнев и мучаясь горьким раскаянием. Отныне чело Грифидда отмечала каинова печать.
Однако, прежде чем отпустить его, валлийский вождь, пока тот стоял перед ним в оковах, склонив голову под бременем вины и не смея поднять глаз, изрек приговор ему и всем его потомкам:
«Обрекаю тебя на жизнь, ибо знаю, что ты станешь молить о казни. Тебе будет отпущен долгий век, ты будешь жить дольше, чем положено смертному, и до конца дней твоих тебя будут презирать все добрые люди. Даже дети станут показывать на тебя пальцем, язвительно повторяя: „Вот идет тот, кто хотел пролить кровь брата!“ Ведь я любил тебя больше, чем брата, о Рис ап Грифидд! Ты узришь, как весь род твой, кроме беспомощного младенца, погибнет от меча. На всех родичей твоих падет проклятие. Каждому поколению твоих потомков суждено будет увидеть, как все их земли тают, точно снег; более того, самое достояние их рассеется, как бы ни тщились они приумножить его, трудясь не покладая рук днем и ночью! А когда исчезнут с лица земли девять поколений, не останется никого, в чьих жилах текла бы твоя кровь. Тогда последний мужчина в твоем роде отмстит за меня. Сын убьет отца».
Такой приговор, по легенде, произнес Овейн Глендур своему некогда доверенному другу. А затем Уэльс облетела весть, что мрачное пророчество сбылось, что, как ни пытались Гриффитсы достичь богатства и процветания, отказывая себе в малом и живя в скудости, все было напрасно, и все их достояние уменьшалось без видимых причин.
Однако по прошествии многих лет из памяти людской почти изгладилось, что проклятие обладало волшебной силой. Оно всплывало из-под спуда воспоминаний, лишь когда с кем-нибудь из Гриффитсов случалось какое-нибудь несчастье, а в восьмом поколении вера в пророчество и вовсе угасла, когда очередной Гриффитс женился на некоей мисс Оуэн, которая после внезапной смерти брата сделалась наследницей состояния не столь уж великого, но достаточного, чтобы убедить валлийцев, будто проклятие утратило силу. Наследница и ее супруг перебрались из его маленького родового поместья в графстве Мерионетшир в ее имение в Карнарвоншире, и какое-то время проклятие никак о себе не напоминало.
Если вы отправитесь из Тремадога в Криккит, то пройдете мимо Инисинханарнской приходской церкви, расположенной в заболоченной долине, что отходит от гор, отрогов Эр-Эйвел, и ведет прямо к заливу Кардиган. Судя по всему, этот участок земли был отвоеван у моря в не столь отдаленные времена и, опустелый, безлюдный, весь зарос непроходимым лесом, как часто случается в заболоченных местах. Однако долина, которая раскинулась позади этого участка и весьма его напоминала, в ту пору, о которой я пишу, представляла собою еще более мрачное зрелище. В возвышенной своей части она была засажена хвойными деревьями так тесно, что они не могли достичь высоты, назначенной им природой, и оставались малорослыми и невзрачными. Кроме того, многие деревья из тех, что пониже и послабее, захирели и засохли, их кора упала на бурую землю, оставленную без ухода и внимания. В тусклом свете, едва пробивающемся сквозь густые ветви наверху, эти деревья, с их белыми стволами, имели мертвенный, призрачный облик. Ближе к морю чащоба редела, но долина не делалась от этого приветнее; она по-прежнему оставалась темной, большую часть года ее заволакивал морской туман, и даже фермерский дом, обыкновенно придающий пейзажу радостный, веселый вид, никак не развеивал царящего здесь уныния. Эта долина составляла большую часть поместья, права на которое Оуэн Гриффитс получил после женитьбы. В более возвышенной части долины располагался помещичий особняк; впрочем, слово «особняк» мало подходило к грубому, но прочному Бодоуэну. Это было квадратное, массивное и приземистое здание, которое могло похвастаться лишь самыми скудными украшениями, призванными выделять его среди простых фермерских домов.
В этом доме миссис Оуэн Гриффитс родила супругу двоих сыновей – Луэллина, будущего сквайра, и Роберта, которого сызмальства готовили к церковному поприщу. До тех пор пока имя Роберта не было внесено в списки студентов колледжа Иисуса, единственная разница в их положении заключалась в том, что если старшего окружающие баловали непрерывно, то Роберта держали в строгости и баловали лишь от случая к случаю, а также в том, что если Луэллин так и не почерпнул никаких познаний у бедного валлийского приходского священника, формально состоявшего при нем в должности домашнего учителя, то сквайр Гриффитс по временам всеми силами старался принудить Роберта к усердию, говоря, что поскольку тому предстоит самостоятельно заботиться о своем пропитании, то и учиться ему надлежит прилежно. Трудно сказать, в какой мере это весьма бессистемное образование, полученное Робертом, помогло бы ему сдать экзамены в колледже, но, к счастью для него, прежде чем его ученость подверглась испытанию, он услышал о смерти брата, последовавшей после короткой болезни, вызванной запоем. Роберта призвали домой, и, само собою, теперь, когда ему уже не было нужды «заботиться о своем пропитании», отпала и необходимость возвращаться в Оксфорд. Так полуобразованный, но неглупый молодой человек оставался дома до самой смерти родителя, приключившейся вскоре после внезапной перемены его участи.
Характер Роберта принадлежал к числу весьма обыкновенных. В целом он был мягок, склонен к лености и праздности и легко подчинялся чужой воле, однако, по-настоящему вспылив, делался подвержен приступам ярости поистине устрашающим. Впрочем, он словно страшился себя самого и, как правило, не отваживался предаваться даже справедливому гневу – до того боялся он утратить самообладание. Если бы он получил серьезное образование, то мог бы отличиться в тех сферах литературной деятельности, что требуют скорее вкуса и воображения, нежели глубоких размышлений или ясного суждения. Впрочем, его литературный вкус проявился в создании коллекции всевозможных кимрских древностей, в том числе валлийских рукописей, столь впечатляющей, что ей позавидовал бы сам доктор Пью[28]28
Пью Уильям Оуэн (1759–1835) – лексикограф и антикварий; составил первый валлийско-английский словарь, издавал «Кимрскую летопись», собрание фактов валлийской истории и валлийских литературных произведений.
[Закрыть], живи он в те годы, о которых я пишу.
Я забыла упомянуть об одной особенности его нрава, весьма выделявшей Роберта среди представителей его класса. Он не предавался неумеренному питию, потому ли, что от винных паров быстро затуманивался его рассудок, потому ли, что вкус его, хотя отчасти утонченный, оскорбляло опьянение и его последствия, – мне не дано знать точно, однако двадцати пяти лет от роду Роберт Гриффитс обыкновенно бывал трезв, что считалось на полуострове Ллин великой редкостью и снискало ему славу угрюмого, необщительного человека, по каковой причине его едва ли не пытались избегать, и он стал проводить много времени в одиночестве.
Примерно в эту пору ему пришлось по какому-то судебному делу отправиться на ассизы в Карнарвон; там он остановился в доме своего поверенного, хитрого, расчетливого валлийского адвоката, единственная дочь которого оказалась достаточно привлекательной, чтобы пленить Роберта Гриффитса. Хотя он пробыл в доме ее отца всего несколько дней, этого хватило, судьба его была решена, и спустя недолгое время он привел в Бодоуэн новую госпожу. Молодая миссис Гриффитс была мягкой и уступчивой и искренне любила супруга, который, однако, внушал ей трепет, порождаемый отчасти разницей в летах, отчасти его склонностью к ученым занятиям, недоступным ее разумению.
Вскоре она подарила ему здоровенькую девочку, которую в честь матери нарекли Аухарад. Затем дни в поместье Бодоуэн потекли, не нарушаемые никакими достопамятными событиями, год за годом, а когда старые знахарки и повитухи единодушно объявили, что колыбель никогда более не закачается, миссис Гриффитс родила сквайру сына и наследника. Его рождение стоило жизни матери: она недужила и грустила все то время, что носила под сердцем дитя, и, по-видимому, совершенно лишилась телесных и душевных сил, потребных для восстановления после мучительных испытаний. Мужа, который любил ее тем сильнее, что мало к кому на этом свете испытывал привязанность, глубоко опечалила ее ранняя кончина, и единственным утешителем в скорби стал для него маленький мальчик, оставленный ему супругой. Почти женственная нежность, свойственная характеру сквайра, пробудилась при взгляде на беспомощное дитя, что протягивало ручки к отцу с тем радостным лепетом, каким более счастливые дети встречают только своих матерей. Об Аухарад почти забыли, а малютка Оуэн сделался полновластным правителем в доме, однако, за исключением отца, никто не обращался с младенцем с такой любовью, как она. Она так привыкла во всем уступать ему, что это уже вовсе ее не тяготило. Оуэн не расставался с отцом ни днем ни ночью, и с годами их взаимная привязанность лишь росла и крепла. Негоже было дитяте вести такую жизнь, не зреть вокруг веселых детских лиц (ведь Аухарад была старше пятью или шестью годами, а лицо бедной девочки, лишившейся матери, редко сияло весельем!), не внимать звонким радостным крикам, но лишь день за днем делить одиночество с отцом либо в его мрачном кабинете, заполненном таинственными, словно колдовскими, древностями, либо в горах, во время долгих прогулок или охоты на дичь, когда малютка изо всех сил старался не отстать от отца, усердно перебирая маленькими ножками. Если отцу и сыну приходилось переправляться через какой-нибудь пенящийся ручей с «мостиком» из далеко отстоящих друг от друга камней, сквайр переносил малыша с нежностью и заботой; если дитя уставало, то они отдыхали и отец укачивал сына на груди или брал на руки и относил домой. Мальчика баловали, позволяя ему трапезничать вместе с отцом и вставать и ложиться в одно время с отцом, поскольку тому льстило желание ребенка не разлучаться с ним. Оттого что Оуэну неизменно потакали, он сделался пусть не угрюмым и неприветливым, но своенравным и печальным. На всем его облике лежала печать задумчивости, не свойственной маленьким детям. Он не знал ни игр, ни веселых забав, а развлекали его только такими историями, что способны пробудить воображение и подвигнуть к размышлениям. Отец рад был увлечь его своими учеными занятиями, нимало не заботясь о том, полезны ли они столь юному уму.
Разумеется, сквайр Гриффитс не забывал о пророчестве, которому надлежало исполниться в его поколении. По временам он упоминал о нем в кругу друзей скептически небрежно, но на деле оно волновало его куда больше, чем он готов был признать. Его богатое воображение делало его весьма восприимчивым ко всему зловещему и загадочному, а поскольку рассудительность не принадлежала к числу его добродетелей и фантазия его не умерялась суровой логикой, то мысленно он невольно возвращался к пророчеству снова и снова. Он часто неотрывно и подолгу глядел на меланхолическое лицо своего мальчика, устремившего на него взор больших темных глаз, нежный, но одновременно испытующий, пока в конце концов старинная легенда не овладевала его умом и сердцем и его не переполняло желание поделиться с кем-нибудь своими страхами и опасениями. Кроме того, его всепоглощающая любовь к сыну, видимо, не ограничивалась ласковыми речами и тщилась выразиться с большей полнотой и глубиной; движимый отцовской любовью, он и хотел бы упрекнуть сына в каких-либо проступках, и ужасался последствиям, которые, согласно пророчеству, могла бы вызвать их размолвка. И все же сквайр Гриффитс полушутливо поведал легенду своему маленькому сыну, когда они бродили по диким вересковым пустошам однажды осенью, «в самые печальные дни года»[29]29
Аллюзия на стихотворение американского поэта-романтика Уильяма Каллена Брайента (1794–1878) «Смерть цветов»: «The Melancholy days are come, the saddest of the year».
[Закрыть], и потом вновь обратился к ней, когда они сидели в отделанной дубовыми панелями комнате в окружении таинственных редкостей, загадочно поблескивавших в мерцающем свете камина. Легенда запечатлелась в сознании ребенка, и, хотя она и вселяла в него страх, он стал требовать, чтобы ему рассказывали ее снова и снова, а по временам прерывал повествование, заключая отца в объятия и вопрошая, любит ли он его. Случалось, отец заставлял его замолчать и отойти, повторяя словно вскользь, но не без горечи: «Ступай, мальчик мой, ты и сам не ведаешь, чем кончится вся эта любовь».
Когда Аухарад исполнилось семнадцать, а Оуэну – одиннадцать или двенадцать, священник того прихода, в который входило поместье Бодоуэн, попытался уговорить сквайра Гриффитса отправить мальчика в школу. Дело в том, что священник этот во многом разделял вкусы своего прихожанина и был единственным поверенным его тайн и потому, постоянно возвращаясь к своим доводам, сумел убедить сквайра, что образ жизни Оуэна способен лишь нанести ему всяческий вред. С большой неохотой согласился сквайр расстаться с сыном, но в конце концов послал его в грамматическую школу в Бангоре, в ту пору возглавляемую великолепным знатоком латыни и древнегреческого. Здесь Оуэн доказал, что более талантлив, чем полагал приходский священник, объявивший, что мальчик совершенно отупел от того существования, что ведет в поместье. Судя по всему, ему предстояло добиться немалых успехов в той сфере познаний, которыми особенно славилась школа. Впрочем, он не снискал любви однокашников. Он был своенравен, хотя до определенной степени великодушен и самоотвержен, необщителен, но кроток, за исключением тех случаев, когда оказывался во власти вспышек гнева, которым был подвержен, подобно своему отцу.
Проучившись в школе примерно год и возвратившись домой на рождественские вакации, Оуэн был поражен известием, что Аухарад, о которой, казалось, все забыли и которой все пренебрегали, выходит замуж за джентльмена из Южного Уэльса и переезжает в его имение неподалеку от Абериствита. Мальчики редко ценят по достоинству своих сестер, но Оуэн стал вспоминать многочисленные обиды, которыми отвечал прежде на добро долготерпеливой Аухарад, предался горькому раскаянию и, не щадя в своем эгоизме чувств отца, принялся сетовать на предстоящую разлуку с сестрой, изрядно задев и раздосадовав сквайра непрерывными восклицаниями вроде: «Что же мы будем делать, когда Аухарад уедет?», «Как же у нас сделается скучно без Аухарад!». Каникулы Оуэна продлили на несколько недель, дабы он мог присутствовать на венчании, а когда празднества завершились и новобрачные уехали из Бодоуэна, мальчик и его отец воистину ощутили, как не хватает им тихой, ласковой Аухарад. Безмолвно и заботливо хлопотала она по хозяйству, угождая им и изо дня в день окружая их вниманием, а теперь, когда она покинула отца и брата, дом словно лишился своего благого духа-хранителя: слуги бродили потерянные, тщетно ожидая приказов и распоряжений, комнаты обрели облик неряшливый, заброшенный и печальный, утратив прежнее, лишенное всякой претенциозности изящество, даже самые огни в каминах горели тускло, неизменно обращаясь просто в кучу холодной золы. Потому-то Оуэн и не стал сожалеть о возвращении в Бангор, и это не ускользнуло от его глубоко уязвленного родителя. Сквайр Гриффитс был самолюбивым отцом.