Читать книгу "Золотой теленок"
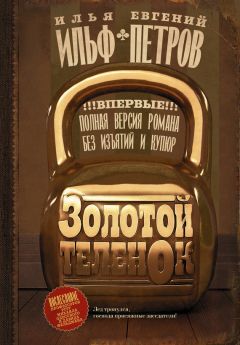
Автор книги: Евгений Петров
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Разумеется, сатирический еженедельник «Чудак», где работали Ильф и Петров, тоже поддержал сотрудников. В тридцать шестом – сентябрьском – номере помещена рецензия на опубликованную в серии «Библиотека “Огонька”» брошюру «Двенадцать стульев» – сокращенный вариант второго зифовского издания.
Отзыв, конечно же, панегирический. Рецензент утверждал: «Это – лучшие главы из недавно вышедшего романа, имеющего выдающийся успех и уже переведенного на несколько иностранных языков. Как в советской, так и в иностранной критике роман И. Ильфа и Е. Петрова признан лучшим юмористическим произведением, изданным в СССР. Действительно “Двенадцать стульев” изобилуют таким количеством остроумных положений, так ярко разработан сюжет, так полно и точно очерчены типы, что успех романа следует считать вполне заслуженным. Книжка, изданная в “Библиотеке «Огонька»”, дает читателям полное представление о талантливом произведении молодых авторов»[87]87
В библиотеке «Огонек» вышла книжка … // Чудак. 1929. № 36. – С. 14.
[Закрыть].
Характеризуя роман «Двенадцать стульев» как «недавно вышедший», рецензент явно привирал. Зато следовал правилу, введенному «Литературной газетой»: не полагалось упоминать о журнальной публикации 1928 года и первом зифовском издании. Потому и непонятно было, когда же новинку перевели на иностранные языки. Но автор рецензии ориентировался на осведомленных читателей.
Вполне благожелателен был и рапповский ленинградский ежемесячник «Звезда». Рецензию на роман Ильфа и Петрова поместили в десятом номере[88]88
Далее цит. по: Кашинцев А. Ильф Ильф и Евг. Петров. 12 стульев. Роман. 2-е изд. ЗИФ. 1929. // Звезда. 1929. № 10. – С. 204–205.
[Закрыть].
Автор тоже не солидаризовался с Блюмом. Зато специально оговорил: «Гиперболический бытовизм “12 стульев” еще не сатира, но эта талантливая книга интересна как один из первых шагов на пути к советской сатирической литературе».
Не обошлось, конечно, без упрека, ставшего традиционным. Рецензент утверждал: «Книга Ильфа и Петрова, вышедшая уже во французском переводе и вызвавшая восхищение парижской прессы, прошла у нас совершенно незамеченной».
О каком издании шла речь, можно было лишь догадываться. Ни первое зифовское издание, ни журнальная публикация опять не упоминались.
Аналогичных примеров немало. Тут, еще раз подчеркнем, не случайность, а проявление тенденции. Журналы старательно популяризовали официальную версию: «книга, о которой не пишут».
Эта версия была обязательной до второй половины 1980-х годов. Вот почему ее воспроизвела даже Л. М. Яновская – в двух изданиях монографии об Ильфе и Петрове. Так поступали и другие советские литературоведы.
Версия, предложенная Тарасенковым, ныне выглядит алогичной. Но в 1929 году ее прагматика была вполне актуальна. Критик выполнял задание, предложенное редакцией – по указанию вышестоящих инстанций.
Петров, на исходе 1930-х годов планировавший книгу о друге и соавторе, не забыл критические отклики на первое издание «Двенадцати стульев». Отметив, что рецензия в «вечорке» была единственной, он следовал правилам игры, предложенной «Литературной газетой». Они и не менялись еще полвека.
Эти правила оба соавтора приняли. Своеобразной поддержкой Тарасенкову был их фельетон «Мала куча – крыши нет», опубликованный в четвертом – январском – номере «Чудака» за 1930 год[89]89
Здесь и далее цит. по: Ильф И., Петров Е. Мала куча – крыши нет // Собр. соч. – М.: Гослитиздат, 1961. – Т. 2. – С. 28–29.
[Закрыть].
Ильф и Петров неявно ссылались на общеизвестное тогда название детской игры. Она была популярна в начальных и средних учебных заведениях Российской империи. Каждый из группы участников, сбившихся в толпу, пытался каким-либо образом повалить соседей и оказаться сверху. Что и сопровождалось возгласами: «Мала куча – крыши нет!».
Ильф и Петров сравнивали с детской игрой критические кампании в прессе. Соответственно, отмечали, что «стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами».
Агрессия рецензентов нарастает. Уже и политические обвинения подразумеваются: «“Автор, – пишет критик Ив. Аллегро, – в своем романе «Жена партийца» ни единым словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нужны ли нам такие романы, где нет ни слова о мелиоративных работах в Средней Азии?”».
Подразумевалось, что начало положено. Кампания началась. Соответственно, критик, укрывшийся за псевдонимом «Гав. Цепной, прочитав рецензию Ив. Аллегро, присаживается к столу и, издав крик: “Мала куча – крыши нет”, – пишет так:
“Молодой, но уже развязный автор в своем пошловатом романе «Жена партийца» ни единым, видите ли, словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нам не нужны такие романы”».
Дальше – больше. А наиболее «свирепый из критиков т. Столпнер-Столпник в то же время и самый осторожный. Он пишет после всех, года через полтора после появления книги. Но зато и пишет же!
“Грязный автор навозного романа «Жена партийца» позволил себе в наше волнующее время оклеветать мелиоративные работы в Средней Азии, ни единым словом о них не обмолвившись. На дыбу такого автора!”».
Таков, согласно фельетону, обычный алгоритм. Характеризуется и другой:
«Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора.
Молчит Ив. Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.
– Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение!
И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована главполитпросветом даже для сельских библиотек.
Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое верное перо?
И верные перья начинают скрипеть.
“Как это ни странно, – пишет Ив. Аллегро, – но превосходный роман «Дитя эпохи» прошел мимо нашей критики”.
“Как это ни странно, – надсаживается Гав. Цепной, – но исключительный по глубине своего замысла роман «Дитя эпохи» прошел мимо ушей нашей критики”».
Затем приходит время самого предусмотрительного рецензента. И Столпнер-Столпник сообщает, что роман «Дитя эпохи» – «“книга, которую преступно замолчали Ив. Аллегро и Гав. Цепной, является величайшим документом эпохи. Она взяла свое, хотя и прошла мимо нашей критики”».
Правда, отмечали авторы фельетона, у рецензентских атак есть и другая специфическая черта. Своего рода избирательность:
«Однако самым забавным в работе критиков является неписаный закон, закон пошлый и неизвестно кем установленный. Сводится этот закон к тому, чтобы замечать только то, что печатается в толстых журналах.
Отчаянная, потная дискуссия развивается вокруг хорошего или плохого рассказа, напечатанного в “Красной нови” либо в “Новом мире”.
Но появись этот самый рассказ в “Прожекторе”, “Огоньке” или “Красной ниве”, ни Столпнер-Столпник, ни Ив. Аллегро, ни Гав. Цепной не нарушат своего закона – не напишут о нем ни строки.
Эти аристократы духа не спускаются до таких “демократических” низин, как грандиозные массовые журналы».
Осведомленных читателей термин «аристократы духа» отсылал к немецкой литературной традиции XIX века, когда он использовался при характеристике идеологов романтизма. Тем комичнее было противопоставление дерзости прежних бунтарей – рептильности журнальных поденщиков.
Связь фельетона с историей критического приема романа «Двенадцать стульев» была очевидна современникам. На что, несомненно, рассчитывали соавторы.
К истории критической рецепции «Двенадцати стульев» непосредственно отсылала читателей и ссылка на «“демократические” низины» – «грандиозные массовые журналы». Роман публиковался в иллюстрированном ежемесячнике «30 дней», а такого рода изданиями критики, по словам Ильфа и Петрова, пренебрегали. Не считали публикации там хоть сколько-нибудь престижными.
Тридцать лет спустя отечественные мемуаристы и литературоведы не вышли за рамки легенды, предложенной «Литературной газетой» и поддержанной авторами «Двенадцати стульев». При осмыслении критической рецензии она стала, можно сказать, фундаментом.
Неважно, в какой мере вариант осмысления, предложенный Ильфом и Петровым, соответствовал реальной ситуации. Важно, что он соответствовал тарасенковской интерпретации. Обозначившей правительственную установку.
Еще раз подчеркнем: установка была в силе до второй половины 1980-х годов. Потому что позволяла соблюдать все еще актуальные запреты на упоминания об антитроцкистских и антибухаринских кампаниях.
Очередные мели
На исходе лета 1929 года Ильф и Петров официально признаны вполне лояльными сатириками. И даже весьма полезными.
Роман «Двенадцать стульев» уже издан во Франции, а 2 августа там опубликована и «Двойная автобиография». В этот день, согласно датировке рукописи, соавторы принялись за первую часть «Великого комбинатора».
Если верить датировке, работа завершена с рекордной скоростью. Понадобились всего три недели. Даже меньше, чем на первую часть «Двенадцати стульев».
Но, как выше отмечено, не 2 августа Ильф и Петров приступили к работе. Они тогда начали переписывать и заново редактировать черновые рукописи. Автограф, считавшийся тогда итоговым, подготовили к публикации. Через три недели уже готовый машинописный экземпляр размечен по журнальным номерам. В конце августа должен был начаться редакционный цикл.
Однако тогда он не начался. Если верить Петрову, из-за того, что «Ильф купил фотоаппарат».
Верить, как отмечено выше, не следует. Другая была причина. Вновь изменилась политическая ситуация.
По обыкновению, тон задала «Правда». 24 августа – на следующий день после того как Ильф и Петров закончили редактуру первой части нового романа – там была опубликована статья «Об ошибках и уклоне тов. Бухарина»[90]90
Об ошибках и уклоне тов. Бухарина // Правда. 1929. 24 авг.
[Закрыть].
Обвинения, выдвинутые «Правдой», повторили почти все газеты и журналы. Бухаринские установки в области экономики и политики были объявлены «уклонистскими», необычайно опасными в период декларированного Сталиным «обострения классовой борьбы».
Принципиальной новизны тут не было. Да и Бухарин уже покаялся. Однако нэповского идеолога вновь объявили лидером «правых уклонистов».
Теперь это непосредственно соотносилось с литературным процессом. Готовилась новая резолюция «О политике партии в области художественной литературы».
Прежнюю резолюцию, стараниями Бухарина принятую в 1925 году, рапповцы признали устаревшей. Там не предусматривалась монополизация ими власти. Сама идея монополии была отвергнута. Декларировалась необходимость единения всех литературных группировок, «тесного товарищеского сотрудничества»[91]91
См.: Постановление ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» // Правда. 1925. 1 июл.
[Закрыть].
Новая резолюция должна была утвердить и узаконить первенство рапповцев, отдать под их контроль всю печать. Цель – создание единого Союза советских писателей. Что и означало бы окончание в литературе периода «бухаринского либерализма».
Вот эту концепцию литературного процесса надлежало обосновать посредством соответствующей пропагандистской кампании. Планировался некий аналог «шахтинского дела» – в литературе. Объекты нападения выбирались заранее.
Первый – по старшинству – Е. И. Замятин, добившийся известности еще в досоветскую эпоху. Он и раньше был объектом рапповских нападок.
Замятин стал большевиком еще в 1905 году, прошел тюрьму, ссылку, и, хотя политическую деятельность он вскоре прекратил, связи остались. Ироническое отношение к литературной политике Замятин не скрывал. Его не раз арестовывали чекисты, выручали же давние товарищи, сделавшие функционерскую карьеру[92]92
См., напр.: Файман Г. «И всадили его в темницу…» Замятин в 1919, в 1922–1924 гг. // Новое о Замятине. Сборник материалов. – М.: Изд-во «МИК», 1998. – С. 78–88; Галушкин А. Ю. Письмо Е. Замятина А. Воронскому: К истории ареста и несостоявшейся высылки Замятина в 1922–1923 гг. // DeVisu. 1992. № 0 («нулевой»). – С. 12–23; См. также: Михайлов О. Гроссмейстер литературы // Замятин Е. И. Полн. собр. соч. в одном томе. – М.: Альфа-Книга, 2011. – С. 1231–1254.
[Закрыть].
Второй – Б. А. Пильняк. Тоже многократно бранимый рапповскими критиками. Ему особенно доставалось за дружбу с Воронским[93]93
См., напр.: Киянская О. И., Фельдман Д. М. Очерки истории советской литературы и журналистики 1920-х – 1930-х годов. Портреты и скандалы. – М.: Форум. – С. 105–132.
[Закрыть].
Формально скандал начался 26 августа 1929 года. В этот день «Литературная газета» напечатала статью близкого к рапповскому начальству Б. М. Волина «Недопустимые явления»[94]94
Здесь и далее цит. по: Волин Б. Недопустимые явления // Литературная газета. 1929. 26 авг.
[Закрыть].
Речь шла об изданиях за границей романа Замятина «Мы» и повести Пильняка «Красное дерево». Вот это Волин и именовал «недопустимыми явлениями».
Существенно, что с начала 1920-х годов советское правительство заигрывало с эмиграцией. Провоцировались конфликты убежденных противников нового режима и беженцев, готовых примириться с ним. Последних привлекали различными способами[95]95
См., напр.: Агурский М. Идеология национал-большевизма. – Paris: YMCA-PRESS, 1980. – С. 201–223.
[Закрыть].
В борьбе за раскол эмиграции литература играла особо важную роль. Практиковались негласные субсидии невраждебным издательствам, равным образом – периодическим изданиям. Советским писателям там не запрещалось печататься, эмигрантов тоже публиковали на родине[96]96
См., напр.: Струве Г. П. Русская литература в изгнании. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. – С. 15–49; 191–246.
[Закрыть].
Иностранные публикации советских писателей, даже и в эмигрантских издательствах, были тогда вполне обычны. Политическая оценка на родине зависела от содержания опубликованного.
Характерно, что в СССР иностранцев, паче того эмигрантов, издавали без ограничений. Международные конвенции об авторских правах не были подписаны, и гонорары выплачивались по издательскому произволу.
Такая практика могла бы обусловить и нарушения авторских прав советских писателей заграничными издателями. Однако за границей такое случалось крайне редко. Издательские организации, как правило, испрашивали согласие, гонорары выплачивали.
Кстати, советские писатели в 1920-е годы весьма опасливо относились к предложениям иностранных, особенно же эмигрантских издателей. Памятуя о специфике уголовного законодательства, лишь то и публиковали, что было бы нельзя интерпретировать в соответствии с пунктом 10 статьи 58 действовавшего УК.
Волин обострил ситуацию. Преступлением он объявил сам факт сотрудничества с эмигрантами: «Борис Пильняк напечатал свой роман “Красное дерево” в берлинском издательстве “Петрополис”. Как мог Пильняк этот роман туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом входит в контакт с организацией, злобно враждебной Стране Советов?».
Разумеется, вопрос был риторическим. Ответ подразумевался. Далее же Волин сформулировал главный тезис: Пильняк напечатал роман за границей, потому как не нашлось «оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей советской литературы».
Так была обозначена базовая пропагандистская установка: все, что советский литератор опубликует за границей без предварительной санкции, надлежит считать антисоветским. Вне зависимости от содержания публикации. Если разрешения не спросил, значит, действовал «с контрреволюционной целью». Как Пильняк.
Отсюда следовало, что аналогичное преступление совершил и Замятин. Статью Волина завершал призыв: «Мы обращаем внимание на этот ряд совершенно неприемлемых явлений, компрометирующих советскую литературу, и надеемся, что в их осуждении нас поддержит вся советская общественность».
Другие периодические издания поддержали Волина. И на первой полосе следующего номера «Литературной газеты», вышедшего 2 сентября, были помещены аннотации статей, авторы которых рассуждали о «недопустимых явлениях». Каждый заголовок – лозунг: «Против переклички с белой эмиграцией», «Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пильняка»[97]97
См.: Литературная газета. 1929. 2 сент.
[Закрыть].
Авторы нападали, главным образом, на Пильняка. Далеко не каждый упоминал Замятина. Причина – различие литературных репутаций.
Вопреки рапповским стараниям, Пильняк, ставший знаменитостью в начале 1920-х годов, считался писателем именно и только советским. Что он и сам акцентировал в многочисленных интервью[98]98
Подробнее см., напр.: Киянская О. И., Фельдман Д. М. Указ. изд. – С. 113–119.
[Закрыть].
Соответственно, критики инкриминировали ему лицемерие, предательство, клевету на советский режим. Это не удивляло большинство читателей, не знакомых с повестью «Красное дерево».
Замятину же инкриминировать лицемерие, паче того предательство, было бы странно. Советским писателем его именовали не без оговорок. Называли порой и «внутренним эмигрантом».
Атаковать Пильняка было удобно. К примеру, о Замятине упоминать не стал и Маяковский. 2 сентября «Литературная газета» поместила его статью «Наше отношение»[99]99
Здесь и далее цит. по изд.: Маяковский В. Наше отношение // Литературная газета. 1929. 2 сент.
[Закрыть].
Имелось в виду «отношение» не только автора статьи. Он выступал от имени возглавлявшегося им литературного объединения – «Революционного фронта искусств».
Ранее эта группировка именовала себя «Левым фронтом искусств». Но после разгрома и высылки Троцкого «левизна» ассоциировалась с оппозиционностью. Пришлось, как говорится, сменить вывеску.
Свое «отношение» Маяковский обозначил сразу. В привычной манере, издевательски, что на этот раз контексту соответствовало: «Повесть о “Красном дереве” Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других, не читал».
Маяковский четко обозначил, что даже заглавие крамольной повести ему незнакомо. Значит, о не прочитанном взялся рассуждать. Уместность подхода обосновал: «К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов».
Ну а далее – вывод. Обусловленное контекстом обвинение: «В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».
Подчеркнем, что инвектива была все же смягчена. Маяковский оговорил: возможно, причина сотрудничества с эмигрантами – ошибка Пильняка, считавшего литературу «оружием надклассовым».
Оговорка непринципиальна. Автор следовал правительственной установке. Сформулировал ее секретариат РАПП в том же номере «Литературной газеты». Функционеры требовали, чтобы все литераторы «определили свое отношение к поступкам Е. Замятина и Б. Пильняка»[100]100
См.: Секретариат РАПП. Ко всем членам Всероссийского союза писателей. // Там же.
[Закрыть].
Каждому надлежало высказаться – в печати либо на собрании какой-либо писательской организации. Рапповцы предложили выбор: «либо за Пильняка и его покрывателей (sic! – М.О., Д.Ф.), либо против них».
Пильняк стал, можно сказать, олицетворением лицемерия. Ну а Замятин, соответственно, – «внутренней эмиграции».
Выбор объектов травли отнюдь не случаен. Замятин и Пильняк – знаменитости. В заданном диапазоне – от абсолютно лояльного советского классика до «внутреннего эмигранта» – мог бы определить свое положение каждый литератор.
У Замятина и Пильняка в партийной элите были давние приятели и покровители, о чем знали многие. Соответственно, всем и каждому объяснили, что ситуация изменилась. Опасность, во-первых, постоянна. А во-вторых, ни известность, ни связи не помогут. Ясно обозначено: вопрос о заграничных публикациях решается теперь без участия писателей, зато они обязаны участвовать в травле любого коллеги, объявленного врагом режима.
Отказавшиеся выступить против Замятина и Пильняка рисковали. Последствия угадывались: обвинения в «пособничестве».
Участвовать в травле согласились, как известно, не все писатели. Но – большинство. Согласившиеся выступали на различных собраниях и в печати. Обвиняли, дистанцировались.
Истерия нарастала стремительно. 9 сентября «Литературная газета» сообщила на первой полосе: «Писательская общественность единодушно осудила антиобщественный поступок Пильняка»[101]101
Литературная газета. 1929. 9 сентября.
[Закрыть].
16 сентября «Литературная газета» продолжила тему. На первой полосе – лозунг-аннотация: «Против обывательских привычек прикрывать и замазывать антисоветский характер перекличек с белой эмиграцией и сведения их к “ошибкам” и “недоразумениям”»[102]102
Там же. 16 сентября.
[Закрыть].
Редакция лишь конкретизировала тематику и проблематику материалов, поступивших из различных литературных сообществ и от не состоявших в них писателей. Многие спешили публично отречься. Заголовки были красноречивы: «Повесть Пильняка – клевета на Советский Союз и его строительство», «Не только ошибка, но и преступление».
В данном случае не требовалось пояснять, что за «преступление». Речь шла о «контрреволюционной пропаганде». Коль так, в лучшем случае – «косвенный умысел».
Попытка уклониться от участия в травле становилась все более опасной. Литераторов буквально вынуждали осудить Пильняка и Замятина, грозя в случае отказа уголовным преследованием.
Скандал разрастался. 20 сентября журнал «Книга и революция» поместил очередную статью Волина. Пафос ее обозначал заголовок: «Вылазки классового врага в литературе»[103]103
Здесь и далее цит. по: Волин Б. Вылазки классового врага в литературе // Книга и революция. 1929. № 18. – С. 4–7.
[Закрыть].
Тут рапповец и предложил актуальные реформы. По его словам, резолюция ЦК ВКП (б), принятая в 1925 году, «должна быть внимательно просмотрена и дополнена директивами, которые соответствовали бы эпохе социалистического наступления, выкорчевывания остатков капитализма и все более и более обостряющейся классовой борьбе в нашей стране и, следовательно, в литературе».
Не отставал и журнал «Земля Советская». В десятом номере опубликована статья И. А. Батрака «В лагере попутчиков»[104]104
Здесь и далее цит. по: Батрак И. В лагере попутчиков // Земля Советская. 1929. №. 10. – С. 44–46.
[Закрыть].
Заголовком обозначалось, что лагерь чуть ли не вражеский. Это и акцентировал Батрак, предлагая эффектную параллель: «Здесь примерно шахтинское дело литературного порядка».
Правда, тезис был не нов. Обличаемых уже сравнивали с «вредителями». Через три года Замятин вспоминал: «Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы – все уравнялось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний»[105]105
Подробнее см.: Галушкин А. Ю. «Дело Пильняка и Замятина». Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. Сборник материалов. – М.: Изд-во «МИК», 1997. – С. 89–146.
[Закрыть].
О своем раскаянии первым заявил Пильняк. Был даже прощен – до поры.
Замятин пытался оправдываться, а вот каяться не спешил. В итоге с помощью Горького добился разрешения выехать за границу.
На убыль истерия пошла в конце октября 1929 года. Партийное руководство, не отрицая рапповские мнения о заграничных публикациях, объявило, что все же допущены «перегибы».
К ним были отнесены проявления агрессивности по отношению ко всем литераторам, дистанцировавшимся от рапповцев. Эта проблема и ранее обсуждалась в периодике. Ну а вину, как водится, возложили на исполнителей. Так, виноватым оказался и Волин. Ему пришлось продолжать функционерскую деятельность вне Москвы.
Однако «перегибы» – не случайность. Нет оснований полагать, что это не планировалось. Во всяком случае – заранее допускалось.
Нэповская издательская модель отменялась явочным порядком. Советскому литератору надлежало получать гонорары лишь в контролируемых правительством организациях. В 1929 году были закрыты многие частные издательства. Итог не вызывал сомнений. Планировалась монополизация печати. Соответственно, не санкционированные заранее иностранные публикации – способ обретения писателями финансовой независимости. Вот и решено было такой фактор исключить.
Конечно, рапповские лидеры преследовали другую цель – локальную. Пытались обосновать необходимость новой резолюции «О политике партии в области художественной литературы». К тому дело и шло. Но кампания была прекращена именно тогда, когда Сталин уже решил свои задачи. А планами литературных функционеров он – по обыкновению – пренебрег.
«Дело Пильняка и Замятина», во-первых, дискредитировало Троцкого. Опять демонстрировалось, что основа его доктрины – свободная конкуренция всех литературных сообществ – ошибочна.
Во-вторых, вновь дискредитировали Бухарина. Он ведь оказался покровителем «литературных шахтинцев».
Наконец, советское правительство было избавлено от необходимости законодательно воспретить несанкционированные публикации за границей. Литераторы и так уяснили: запрет введен. Негласный, зато строжайшим образом контролируемый.
Почти полвека спустя Л. С. Флейшман подвел итоги в фундаментальной монографии о Б. Л. Пастернаке. Он отметил, что трехмесячная истерия – «первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом, ее автономного от государства существования»[106]106
См.: Флейшман Л. С. Борис Пастернак в двадцатые годы. – Munchen: Wilhelm Fink, 1980. – С. 124.
[Закрыть].
Ильф и Петров, конечно, уяснили прагматику кампании. Благодаря июньскому вмешательству «Литературной газеты» они были избавлены от нападок, однако на фоне вялотекущей полемики о допустимости сатиры «дело Пильняка и Замятина» могло бы привлечь нежелательное внимание к авторам опубликованного за границей сатирического романа.
Осторожностью Ильф и Петров не пренебрегали. И в очередной раз отложили подготовку нового романа к публикации. Оставалась актуальной дежурная шутка советской эпохи: «Лучше попасть под трамвай, чем под кампанию».
Именно поэтому соавторам пришлось откликнуться на «дело Пильняка и Замятина». Фельетон Ильфа и Петрова «Три с минусом» журнал «Чудак» опубликовал в сорок первом – ноябрьском – номере[107]107
Здесь и далее цит. по изд.: Ильф И. А., Петров ЕП. Три с минусом // Ильф И., Петров Е. Полн. собр. соч. в одном томе. – М.: Издательство «Альфа-книга», 2017. – С. 574–575.
[Закрыть].
Ильф и Петров описывали там собрание литераторов в связи с «делом Пильняка и Замятина», – описывали как школьный урок. Высмеяли, главным образом, коллег, невпопад каявшихся. Но больше всего досталось азартному рапповцу, со статьи которого и началась кампания в прессе. Соавторы почти откровенно издевались над ним:
«И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью.
Он вызвался отвечать первым и бойко говорил целый час. За это время ему удалось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка.
На него приятно было смотреть.
Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из “Красного дерева”».
Намек был ясен. Подразумевалось, что остальные писатели не имели возможности ознакомиться с крамольными сочинениями, но все-таки каялись, пусть и с разной степенью усердия.
Ильфу и Петрову азартный «первый ученик» был уже не опасен, – Волин до поры утратил влияние. Соавторы закончили свой фельетон иронически: «В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом. Но так как пишут они на три с плюсом, то публика была очень довольна, что увидела всех в лицо».
Получилось, что Ильф и Петров подвели итог, значит, кампания прекращена. И высмеяли сатирики не Пильняка и Замятина, а тех, кто вольно или невольно принял участие в травле.
Ильф и Петров не бранили Пильняка и Замятина. От участия в травле уклонились, использовав уловку примитивную, даже, можно сказать, неуклюжую. По сути – дерзили.
Но авторам «Двенадцати стульев» гарантировалась защита. Вот они и позволяли себе некоторые вольности. Разумеется, не выходя за пределы допустимого.
Своевременное крушение
Осенью 1929 Ильф и Петров были вроде бы в безопасности. Зато карьера их нового покровителя – Кольцова – оказалась под угрозой.
Тогда провинился именно он. А историю конфликта анализировал семьдесят два года спустя В. М. Фрадкин в книге «Дело Кольцова»[108]108
Здесь и далее цит. по: Фрадкин В. М. Дело Кольцова. – М.: Вагриус, 2002. – С. 139–146.
[Закрыть].
Конфликт начался после выпуска тридцать шестого – сентябрьского – номера «Чудака». Там был опубликован материал «Семейный альбом. Ленинградская карусель» с портретами ленинградских функционеров. «В тексте, напечатанном под фотографиями, сообщалось, что вопрос, который должен был решить первый из этих деятелей, он переправил для решения вышестоящему, а тот – в еще более высокую инстанцию. И так до пятого – самого высокостоящего, который… немедленно вернул вопрос тому, с которого все это началось. Так замкнулся “заколдованный” круг бюрократической волокиты – самая настоящая “карусель”. Этот материал привел в ярость партийных вельмож».
Допустимо, что «привел в ярость». Только неясно, о каких «вельможах» речь. Существенно же, что Фрадкин, анализируя историю фельетона, подчеркнул: сведения «о безобразиях ленинградских чиновников еще до “Чудака” опубликовали многие газеты, включая “Правду”».
Главная партийная газета и в самом деле печатала такого рода статьи. Тем не менее претензии были к «Чудаку». И, как отметил Фрадкин, «заговорили о подрыве партийного авторитета, о публикации антисоветских материалов».
Кольцов стал жертвой контринтриги. Ее инициировали союзники осмеянных им функционеров. Опять же, в ЦК партии обсуждался вопрос о целесообразности выпуска двух сатирических журналов всесоюзного значения – «Крокодила» и «Чудака». Подразумевалось, что хватит и одного.
До закрытия «Чудака» дело тогда не дошло. Как отметил Фрадкин, 20 сентября Кольцов по решению ЦК партии «схлопотал “строгий выговор с предупреждением” и был отстранен от редактирования журнала. “Крамольный” 36-й номер был конфискован и уничтожен».
Провинившийся обратился к давнему покровителю – наркомвоенмору К. Е. Ворошилову. Следуя его совету, отправил в ЦК ВКП (б) письмо, где признал, что допустил «грубую политическую ошибку».
Кольцов не только каялся. Руководитель журнала «Чудак» утверждал, что «Правда» с лета громила ленинградских функционеров, а он лишь присоединился к уже начатой кампании: «Под гипнозом этой общей горячки я и допустил появление злосчастной странички в “ЧУДАКЕ”. Исправить ошибку позднее я уже не мог, так как по техническим причинам журнал печатается за 16 дней вперед. Результат получился самый худший».
На самом деле – ситуация обычная. По указанию Сталина была инициирована антиленинградская кампания в прессе, нанесен урон авторитету руководства городской и областной парторганизаций, а затем генсек распорядился нападки прекратить. Разговор пошел о «перегибах», виновными признали исполнителей. Тут и развернулась контринтрига. Крайним оказался журнал «Чудак». На уровне ЦК партии вариант приемлемый: не с «Правды» же начинать.
Кольцов и каялся, и оправдывался. Доказывал, что его отстранение от должности «прервет большую, и, в общем, за вычетом данного случая, успешную работу по созданию нового типа литературно-сатирического журнала с новыми, советскими кадрами. Работу эту, в которую я вложил уйму сил и энергии, жаль прерывать. Жаль, конечно, не со стороны моих интересов – а потому, что связанная со мной и ныне растерявшаяся группа молодых сотрудников ЧУДАКА могла бы совместно со мной не только загладить ошибку журнала, но и в дальнейшем еще принести партии ощутимую пользу».
Взыскание с Кольцова сняли. Он все же остался руководителем журнала «Чудак»: инцидент с «Ленинградской каруселью» был признан исчерпанным.
Меж тем завершалось «сворачивание нэпа» и продолжалась так называемая коллективизация сельского хозяйства. В ноябре 1929 года Бухарина вывели из состава Политбюро ЦК партии. А в декабре с небывалым размахом отмечался день рождения Сталина, к пятидесятилетию ставшего полновластным хозяином СССР.
Реорганизация печати тоже шла своим чередом. 30 января 1930 года Кольцов отправил письмо Ворошилову: «Мне стыдно опять обращаться к Вам по тому же делу, но право, не я виноват сейчас в тяжелом и ОЧЕНЬ обидном положении, в которое меня ставят».
Кольцов лишился должности. На этот раз – не за провинность. «Чудак» был закрыт в феврале 1930 года: его объединили с журналом «Крокодил.
Судя по письму, бывший редактор «Чудака» рассчитывал возглавить объединенную редакцию. Но такое назначение уже не планировалось. Соответственно, Кольцов утверждал, что с ним поступили несправедливо и просил Ворошилова: «Покажите, К<лимент> Е<фремович>, эту записку тов. Сталину! Я верю, что его тронет этот маленький, но не пустой вопрос».






























