Читать книгу "Золотой теленок"
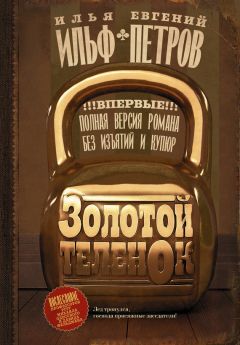
Автор книги: Евгений Петров
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Очерки частично вошли в роман «Золотой теленок». К нему Ильф и Петров уже приступили в 1930 году.
Подчеркнем, что в цитировавшейся выше «юмористической автобиографии» соавторы имитировали ответ на давно уже подразумевавшийся читательский вопрос. Читателей интересовало, почему столь велик срок между публикациями романов. Три года все-таки. Соответственно, Ильф и Петров объяснили: всему виной – трудности, обусловленные исключительно природой соавторства. Других вроде бы и не было.
Подобного рода объяснений нет в предисловии к «Золотому теленку». Там соавторы формировали свой «биографический миф», ссылаясь на гонкуровский.
Но в предисловии к «Золотому теленку» решалась и другая задача. Она была по-прежнему актуальной.
Можно сказать, что предисловие к «Золотому теленку» – образец изощреннейшей политической риторики. И адресовано оно прежде всего коллегам-литераторам, наизусть знавшим газетно-журнальный контекст эпохи.
Тактика и стратегия
Прагматику романного предисловия Ильф и Петров обозначили первой же фразой. Когда упомянули о читательском любопытстве в связи с природой соавторства: «Обычно по поводу нашего обобществленного хозяйства к нам обращаются с вопросами…»
Ключевые слова – «обобществленное хозяйство». Современникам этот оборот был уже привычен. На исходе 1920-х годов он часто употреблялся в официальных документах.
«Обобществленное» в подобных случаях – окказиональный синоним определения «социалистическое». Потому и создание колхозов официально именовалось «обобществлением крестьянских хозяйств».
Сталин, как известно, настаивал на полной ликвидации частного предпринимательства. В цитировавшемся выше отчете генсек требовал обеспечить «победу обобществленного сектора промышленности над сектором частнохозяйственным».
Ильф и Петров выстраивали синонимический ряд. Если «хозяйство» принадлежит коллективу, значит, оно уже обобществленное, стало быть, социалистическое. Тогда и продукция безупречна в аспекте идеологии.
Доля шутки в каламбуре невелика. Соавторы напоминали – в первую очередь критикам – политические итоги дискуссии о сатире. И, разумеется, оценки, данные «Литературной газетой» роману «Двенадцать стульев».
Напомнив о политическом контексте, соавторы перешли к инвективам. Поиздевались над критиками:
«И вдруг единообразие вопросов было нарушено.
– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете смешное? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?».
Намек был понятен современникам. Подразумевалась дискуссия о допустимости сатиры.
Конечно, далеко не каждый тогда помнил, что Англия признала СССР 1 февраля 1924 года, а Греция – 8 марта. Но читатели-современники вряд ли успели забыть, как эти события интерпретировала пропаганда. Решение британского правительства было осмыслено в качестве триумфа советской дипломатии. На то имелись основания: едва ли не самая мощная европейская держава, победившая в мировой войне, согласилась считать законным большевистский режим.
Вскоре СССР признали Италия, Норвегия, Австрия. Ну а греческое правительство лишь запоздало согласилось с мнением других, куда более авторитетных. Проявление конформизма.
Аналогично оценивались и высказывания «строгого гражданина». Как проявления конформизма, переходящие чуть ли не в истерику. Весьма комичные попытки казаться верноподданным, свойственные конформистам в любую эпоху.
Это относилось прежде всего к Блюму. Ему, в отличие от Ильфа и Петрова, уже перевалило за пятьдесят, так что начало карьеры литератора пришлось на годы отнюдь не революционные.
Примечательна изначальная формулировка вопроса «строгого гражданина» – «почему вы пишете смешное?». Она в последующих публикациях несколько изменилась. Казалось бы, незначительно – «почему вы пишете смешно?».
На самом деле правка здесь не только стилистическая. Изменился смысл вопроса.
В первом варианте «строгий гражданин» выяснял, на каком основании Ильф и Петров позволяют себе описывать в советской действительности именно то, что вызывает смех. Речь шла о принципиальной допустимости сатиры. Подтекст – соотнесенность публикаций с «антисоветской агитацией».
Ну а во втором варианте «строгий гражданин» спрашивал, в силу каких причин соавторы позволяют себе публиковать то, что смешит читателей. Значит, он ставил в упрек Ильфу и Петрову лишь недостаточно серьезное отношение к советской действительности.
В переизданиях тема принципиальной допустимости сатиры завуалирована. Получилось, что политического обвинения не было.
Отметим, что в предисловии к «Золотому теленку» не случайно упомянут «реконструктивный период». Современникам было уже привычно понятие, образованное от латинского re-construo – восстанавливать.
В советской политической лексике 1920-х – 1930-х годов постоянно соседствуют термины «восстановительный период» и «реконструктивный период». Но они вовсе не синонимичны.
Первую половину 1920-х годов принято было характеризовать как «восстановительный период». Это означало, что политическая цель – восстановление экономики после войны.
«Реконструктивным» же называли период «сворачивания нэпа», вытеснения частного предпринимательства. В связи с этим само слово «реконструкция» получило новое значение.
Имелось в виду уже не восстановление, а коренное переустройство. Так, V Съезд Советов СССР, утверждая в мае 1929 года пятилетний план, характеризовал его как «развернутую программу социалистический реконструкции народного хозяйства».
Сталин задал правила словоупотребления. Выступая с отчетом XVI съезду ВКП (б), он утверждал: «Если при восстановительном периоде речь шла о загрузке старых заводов и помощи сельскому хозяйству на его старой базе, то теперь дело идет о том, чтобы коренным образом перестроить, реконструировать и промышленность, и сельское хозяйство, изменив их техническую базу, вооружив их современной техникой».
Потому термин «реконструктивный период» вызывал, главным образом, политические ассоциации. Сталин подчеркивал, что главная задача пресловутой реконструкции – «усилить процесс вытеснения капиталистических элементов».
Спор с незадачливым «строгим гражданином» был понятной аллюзией. Инкриминировав оппоненту попытки запретить «смешки в реконструктивный период», Ильф и Петров пародировали блюмовские тезисы:
«После этого он долго убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.
– Смеяться грешно! – говорил он. – Да, смеяться нельзя. И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь и эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира, сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода».
Тут опять ссылка на актуальные директивы. Сталин в цитировавшемся выше отчете утверждал: «Опасность представляют не только и не столько старые бюрократы, застрявшие в наших учреждениях, но и – особенно – новые бюрократы, бюрократы советские, среди которых “коммунисты”-бюрократы играют далеко не последнюю роль».
Ильф и Петров интерпретировали предложенный генсеком лозунг «усиления самокритики». Пресловутые бюрократы – один из важнейших объектов сатирического описания в романе «Золотой теленок».
Полемика в предисловии завершалась очередной ссылкой на актуальные материалы периодики. И, соответственно, издевкой:
«– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ, и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.
Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: “А паразиты никогда!”».
Для читателей-современников тезис «строгого товарища» – вовсе не парадокс. Это напоминание о блюмовском противопоставлении сатиры «адресной» и «обобщающей».
Что до «кустаря-баптиста», принятого «за стопроцентного пролетария», то очередная оплошность «строгого товарища» неслучайна. У современников она вызывала ассоциации с антирелигиозными кампаниями рубежа 1920-х – 1930-х годов, особенно – гонениями на баптизм.
В Российской империи, где православная церковь не была отделена от государства, баптисты, или, как они еще именовали себя, евангельские христиане, оказались дискриминируемыми. Потому большевики считали их почти союзниками – в противостоянии монархии.
Сравнительно терпимо партийное руководство относилось к баптистам и после установления советского режима, что обусловливалось борьбой с православной церковью. Однако на исходе 1920-х годов начались гонения.
Пресса инкриминировала баптистам использование советских лозунгов для нужд религиозной пропаганды и проникновение в официальные организации с той же целью. Характерный пример – статья Н. А. Ассанова «Корпуса, которые не сдают». Ее опубликовал «Новый мир» в февральском номере 1929 года[130]130
Здесь и далее цит. по: Ассанов Ник. Корпуса, которые не сдают // Новый мир. 1929. № 2. – С. 166.
[Закрыть].
Статья позже часто цитировалась. Автор обосновывал стандартные тогда обвинения в адрес баптистов. Описывал, в частности, проповедника, утверждавшего, что «Ленин и Маркс – истинные христиане, только теперь идет извращение их линии».
Был изображен, в частности, баптист, вербовавший паству среди заводской молодежи. Автор сетовал: «Дети евангелистов идут в пионеры. Дети евангелистов идут в комсомол. Отцы евангелистов пытаются проникнуть в партию. И те и другие довольны собой, когда им это удается».
Рассуждения о баптистских уловках типичны. Авторы других статей тоже доказывали, что лишь меньшинство баптистов – рабочие промышленных предприятий, то есть «стопроцентные пролетарии».
Официально было заявлено, что большинство евангельских христиан составляют не заводские рабочие, а ремесленники, иначе говоря, «кустари». Вот они и завлекают обманом в баптистские общины «стопроцентных пролетариев».
Эту пропагандистскую установку обыгрывают Ильф и Петров, иронизируя по поводу оплошности «строгого гражданина». Тот, доказывая, что нужен режиму, пишет роман о «кустаре-баптисте».
Таким образом Ильф и Петров опять намекают, что «строгий гражданин» – лишь неумелый конъюнктурщик. И это еще раз подчеркивается упоминанием «шеститомного романа», аллюзией на развернувшиеся во второй половине 1920-х годов дискуссии о возможности возрождения традиций русского реализма XIX века.
Главным пропагандистом этой идеи первоначально считался А. В. Луначарский. Но вскоре известность получили выступления рапповских теоретиков. Осенью 1926 года они предложили лозунг «учебы у классиков».
Как известно, рапповцы пошли гораздо дальше наркома. Образцом эпопеи объявили роман Л. Н. Толстого «Война и мир».
Это весьма иронически воспринимались многими писателями. Типичный пример – С. М. Третьяков. Его статья, впервые опубликованная в 1927 году, так и была озаглавлена: «Новый Лев Толстой»[131]131
Здесь и далее цит. по изд.: Третьяков С. Новый Лев Толстой // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. – М.: Федерация, 1929. – С. 29–33.
[Закрыть].
Над рапповцами Третьяков откровенно издевался. Утверждал, что они фанатически верят в «пришествие “красного Толстого”, который развернет “полотно” революционного эпоса и сделает философское обобщение всей эпохи».
Соответственно, оппонент Ильфа и Петрова пишет роман «шеститомный». Еще и превзойти намерен четырехтомную толстовскую эпопею.
Далее – опять издевка. Современники не могли не догадаться, почему конъюнктурщик использовал для заглавия романа одну из строф русского переложения «Интернационала», гимна коммунистических партий, а с 1918 года – еще и Советского Союза: «Лишь мы, работники всемирной / Великой армии труда, / Владеть землей имеем право, / Но паразиты – никогда!».
Именно баптистам инкриминировалась переделка советских песен в религиозные гимны. О том рассуждал и Ассанов в упомянутой выше статье. Изображенные журналистом прихожане поют, можно сказать, баптистский «Интернационал»: «Вставай, грехом порабощенный // Весь мир беспомощных рабов, // Иди на бой непримиримый // И будь на смерть и жизнь готов!».
Ну а «строгий гражданин» собрался описывать в романе именно «кустаря-баптиста», принятого за «стопроцентного пролетария». Так что современникам была вполне очевидна связь заглавия романа с часто цитировавшейся новомировской статьей.
Ильф и Петров окончательно скомпрометировали условного оппонента. Да еще и нарекли его «аллилуйщиком».
Подразумевалась соотнесенность с молитвенным хвалебным возгласом в православном богослужении. Церковнославянский эквивалент – «Слава Тебе, Боже».
В советском обиходе термин был политической характеристикой. «Аллилуйщиной» именовали тогда не славословия как таковые, а наивные или же злокозненные попытки заменить конкретные результаты предписанной деятельности – восторженными рассуждениями об «успехах социалистического строительства».
На это и намекают Ильф и Петров. Подразумевается, что наивный или же злокозненный оппонент и сам не выполняет партийное задание, и другим мешает. Сознательно ли пытается создать препятствия, нет ли, – уже не важно. Главное, что такая деятельность противоречит актуальной политической установке.
Авторы романа отметили, что полемика с противником сатиры – не выдумка. И далее заявили: если «строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, – просить прокурора республики т. Крыленко привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом».
Намек был понятен современникам. Доля шутки и здесь невелика.
В служебной иерархии того времени «прокурор республики» – официальное именование служебного ранга, аналог досоветского чина. А еще так именовалась должность главы прокуратуры в союзной республике.
Упомянутый соавторами Н. В. Крыленко в 1928 году возглавил прокуратуру РСФСР, трех лет не минуло – союзный наркомат юстиции. При смене должностей официальный ранг не менялся: «прокурор республики».
Фамилия этого «прокурора республики» была тогда памятна. Крыленко – государственный обвинитель на показательных судебных процессах. Особую известность принесло ему «шахтинское дело». Затем – «процесс Промпартии» в ноябре – декабре 1930 года.
Группе инженеров инкриминировали тогда создании «Промышленной партии». Цель, конечно же, «вредительство». Подсудимые каялись, пресса же превозносила Крыленко.
Заявление о готовности обратиться к нему значимо в контексте «вредительских» процессов. Да, статью «головотяпство со взломом» не содержали кодексы, однако читателям-современникам намек был понятен.
Как известно, «головотяпы» – этноним, придуманный М. Е. Салтыковым-Щедриным. В «Истории одного города» сказано, что прозваны так «эти люди оттого, что имели привычку “тяпать” головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется – об стену тяпают, богу молиться начнут – об пол тяпают»[132]132
См.: Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. – М.: Художественная литература, 1969. – Т. 8. – С. 270.
[Закрыть].
Сатирик намекал на две русские поговорки. В первом случае – «дурак стену лбом прошибает». А во втором, соответственно, – «заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет».
В советскую эпоху термин «головотяпство» стал особенно популярным, когда была опубликована упомянутая статья генсека. Там Сталин и сформулировал риторический вопрос: «Как могли возникнуть в нашей среде эти головотяпские упражнения по части “обобществления”, эти смехотворные попытки перепрыгнуть через самих себя, попытки, имеющие своей целью обойти классы и классовую борьбу, а на деле льющие воду на мельницу наших классовых врагов?»
Сам же и ответил. По его словам, так получилось «в результате головотяпских настроений в рядах одной части партии: “Мы все можем!”, “Нам все нипочем!”».
Кстати, Пришвин в марте 1930 года фиксировал в дневнике, что термин становится все более популярным. Его уже используют «все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики»[133]133
См.: Пришвин М. М. Указ. изд.
[Закрыть].
Ильф и Петров несколько расширили область словоупотребления. Дополнили термин – «головотяпство со взломом».
Это аллюзия на оборот, используемый в юридической литературе. Подразумевалась «кража со взломом».
Конечно, речь не шла о сопоставлении полемических уловок «строгого гражданина» с кражей. В юридических терминах – «тайным похищением чужого имущества».
Ответственность за такое деяние предусматривалось статьей 162 УК РСФСР. Соавторы же напоминали, что «взлом» был отягощающим вину обстоятельством, соответственно, речь шла о преступлении, которое считалось более опасным. Его именовали «квалифицированной кражей».
Ильф и Петров использовали тот же прием, что в фельетоне «Волшебная палка». Не только шутили, но и грозили инкриминировать противникам сатиры «вредительство». Совершенное умышленно, однако маскируемое ссылками на благие намерения. В общем, «головотяпство со взломом». Серьезность намерения подтвердили ссылкой на Крыленко.
Отметим, что соавторы были не первыми, кто в литературной полемике грозил оппонентам апелляцией к популярному юристу. Такого рода угрозы использовал, в частности, Маяковский[134]134
См, напр.: Маяковский В.В Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели // Маяковский В. В. Полн. собр. соч. – М.: Худ. лит., 1955–1961. – Т. 8. – С. 28.
[Закрыть].
Ссылка на «т. Крыленко» воспроизводилась в переизданиях «Золотого теленка» до 1938 года, когда за участие в деятельности «антисоветской организации» «прокурор республики» был осужден и расстрелян. Его оправдали семнадцать лет спустя, но редакторы уже не вернулись к исходному варианту предисловия.
Мы упоминали, что такой подход обусловлен советской эдиционной практикой, осмысленной позже в качестве традиции. Переиздания надлежало готовить, исходя из «последней прижизненной воли автора»[135]135
Одесский М. П., Фельдман Д. М. История легенды: роман «Двенадцать стульев» в литературно-политическом контексте эпохи // Указ. изд. – С. 590–597.
[Закрыть].
Это, конечно, нарушало логику предисловия. С 1938 года читателям оставалось лишь гадать, почему Ильф и Петров стращают оппонента безымянным прокурором неизвестно какой республики. Опять же непонятно было, кто вынуждает классиков советской литературы решать проблему на республиканском, а не на союзном уровне.
Административные маневры
В августе 1931 года редакция журнала «30 дней» изрядно удивила читателей. Публикация романа «Золотой теленок была прервана.
Читатели не обнаружили новые главы. Вместо этого – портреты авторов романа и статья Луначарского о них: «Ильф и Петров»[136]136
Здесь и далее цит. по: Луначарский А. Ильф и Петров // 30 дней. 1931. № 8. – С. 62–65.
[Закрыть].
Объяснение вроде бы предлагал редакционный врез. Читателей уведомляли: «Статья тов. А. Луначарского является предисловием к американскому изданию книги И. Ильфа и Е. Петрова».
На самом деле, объяснения не было. Если бы статья предваряла роман или печаталась в качестве послесловия, тогда хоть что-то стало бы понятным. Но весьма странное решение – поставить ее вместо очередных глав в восьмом номере, не планируя завершить публикацию. Так обычно не делалось.
Статья в целом тоже не объясняла, почему вдруг публикация романа прервана. Да и начинал Луначарский издалека: «Наше время чрезвычайно серьезно. Оно серьезно в своей радости потому, что основание нашей радости – это сознание постепенной победы на трудных и решающих путях, по которым идет наша страна. Оно серьезно в своем труде потому, что труд этот – напряженный и целью его является не только заработок куска хлеба, а построение нового мира, разрешение задачи, важной для всего человечества. Оно серьезно в своих скорбях опять-таки потому, что скорби наши – не мелкие обывательские огорчения, а какие-нибудь “неприятности”, большие промашки, препятствия или потери на этом тяжелом и славном пути».
Но современники сразу догадались, к чему клонит нарком. Подразумевалась дискуссия о сатире: «При таких обстоятельствах, при серьезности даже нашего веселья спрашивается: возможна ли у нас смешащая, смешная литература?».
Далее Луначарский воспроизвел основные тезисы противников не только сатиры, но и юмора. Подчеркнул: «Между тем у нас выходят книги сатирические и сатирические комедии. У нас существуют также и юмористические произведения».
Согласно Луначарскому, такие публикации популярны не только в СССР. Их переводят за границей, например, в Германии. Далее он утверждал: «Это значит, что наша юмористическая литература, которая у нас самих вызывает только беглую улыбку, оказывается на самом деле для окружающего мира настолько смешной, что делается одним из центров их общественного смеха».
Затем Луначарский перешел к заявленной теме. По его словам, наиболее результативны «наши юмористы Ильф и Петров, совместно создавшие такой блещущий весельем роман, как “Двенадцать стульев”».
Терминологическая уловка Луначарского была понятна современникам. По итогам цепи рассуждений Ильф и Петров оказались уже не сатириками. Они – «юмористы». Значит, к ним и не относились инвективы противников «обобщающей» сатиры.
Далее Луначарский констатировал читательский успех «Двенадцати стульев». Как в СССР, так и за границей: «Роман этот переведен почти на все европейские языки. В некоторых случаях, например, в той же Германии, он произвел впечатление настоящего события на рынке смеха».
Отсюда следовало, что авторы «Двенадцати стульев» способствовали росту престижа советской литературы. Решили задачу государственной важности. Тезису соответствовала характеристика: «Ильф и Петров очень веселые люди. В них много молодости и силы. Им всякая пошлость жизни не импонирует, им, что называется, море по колено. Они сознают не только свою внутреннюю силу, а стало быть, свое превосходство над окружающей обывательщиной, над жизненной мелюзгой, над мелочным бытом, но они знают – эта сторона советского быта, эта мелочь, обывательщина являются только подонками нашего общества, только испачканным подолом одежд революции».
Согласно Луначарскому, намерения авторов романа не сводимы только к юмору. Ильф и Петров – истинно советские писатели, талантливые пропагандисты, сознающие, что «за пеленой этих масок, курьезных событий, страстишек, жалких пороков и т. д. имеется совершенно другая жизнь героического напряжения. Поэтому они и веселы, поэтому они позволяют себе позубоскальствовать над всякими жизненными явлениями того мизерного и карликового порядка, которых у нас, правда, сколько угодно».
Луначарский не только и не столько характеризовал Ильфа и Петрова, сколько полемизировал с их критиками, не называя, как уж повелось, имена. Зато вывод не оставлял места сомнениям: «Конечно, сама мысль “Двенадцати стульев” по существу советская».
Политическая характеристика однозначна. Авторы романа «Двенадцать стульев» не раз в статье названы юмористами: «Пусть придут другие, которые напишут сатиру на остатки старого человека, копошащегося под нами, но Ильф и Петров пишут об этом человеке юмористически. Беды в этом никакой нет. Уверенность подлинного советского человека только крепнет от этого. Но, повторяю, и иностранцу не следует упускать из виду перспективы. Было бы огромной ошибкой либо принять картины Ильфа и Петрова всерьез, как характеристику нашей жизни, или принять беззаботный смех Ильфа и Петрова за действительную готовность нашу примириться со всей этой разноцветной грязью».
Луначарский отметил, что его цель – не только характеристика первой книги Ильфа и Петрова. Характеризуется дилогия в целом: «Все это я говорю о романе “Двенадцать стульев”, но все это относится с кое-какими переменами и оговорками и к роману “Золотой теленок”».
Вторая книга дилогии, согласно Луначарскому, еще более удачна. Например, сообщалось: «“Золотой теленок” глубже, чем “Двенадцать стульев”. В этом смысле он серьезнее, но он также богат неистощимым количеством курьезных случаев (большей частью записанных в памятную книжку в процессе бродяжничества по лицу нашей страны), богат также и потоками шуток, в самой неожиданной форме высмеивающих все стороны этого мелкотравчатого существования».
Луначарский настаивал по-прежнему, что Ильф и Петров – юмористы. Вот и в «Золотом теленке» соавторы «отпиливают для себя только ту часть жизни, которая является смешной, как бы отрезая именно тот грязный подол одежд революции, о которых я говорил выше. (А это опять чревато все теми же возможностями: принять этот человеческий отрезок за целое и подумать, что мы к его существованию относимся равнодушно и даже радостно)».
Сказанное не противоречило исходной оценке второй книги. Луначарский утверждал: «Но в “Золотом теленке” есть много положительных сторон, которые приводят всю систему романа в большее равновесие, чем это было в “Двенадцати стульях”. Замысел здесь стройнее».
Далее тезис конкретизирован. Луначарский отметил: «К числу положительных сторон романа, увлекающего своей буйной веселостью, беззаботной атмосферой смеха, нужно отнести проявление рядом с обывательщиной некоторых моментов настоящей жизни».
Самое важное Луначарский приберег напоследок. Он декларировал, что привлекательность дилогии обусловлена характером главного героя: «Этот необыкновенно ловкий и смелый, находчивый, по-своему великодушный, обливающий насмешками, афоризмами, парадоксами все вокруг себя плут Бендер кажется единственным подлинным человеком среди этих микроскопических гадов».
Луначарский не случайно выбрал термин – «плут». Таким образом, была определена и жанровая специфика дилогии: «плутовской роман».
Ну а далее – рассуждения о традиции. С выводом, подразумевающим значимость дилогии Ильфа и Петрова: «Огромным явлением был плутовской роман в европейской литературе».
Бендера называли плутом и раньше. Но Луначарский первым сформировал, можно сказать, теоретическую базу такой характеристики. И обосновал главный тезис: юмористы Ильф и Петров создали не сатирические, а юмористические плутовские романы.
Отсюда следовало, что к ним не имеют отношения все споры о допустимости сатиры. Затем – ключевой вопрос. Он сформулирован предельно жестко: «Почему Остап Бендер не кажется нам отвратительным?»
Луначарский отвечал критикам. Суть их претензий была ясна: Бендер – герой отнюдь не положительный, вовсе не образец для советских читателей, значит, ему не положено вызывать симпатии, а коль так, Ильф и Петров не выполнили «социальный заказ», поступили вопреки директивам партии. Вот эти упреки заранее отвергались. Как неуместные и даже «политически вредные».
На вопрос о Бендере ответ был дан. Великий комбинатор постольку обаятелен, поскольку «Ильф и Петров перенесли его в атмосферу советского “подола”, в атмосферу обывательского советского дна. Там он фигурирует как величина, а если он соприкоснется с настоящей жизнью, настоящая жизнь должна будет его раздавить, как личность, тем более вредную, чем он способнее и чем более он “свободен от принципов”».
Ильф и Петров, согласно Луначарскому, обязаны довести главного героя до полного и окончательного поражения. Выбора нет: «При этих условиях Остап Бендер, который все разлагает своей философией беспринципности, своим организмом очень умного комбинатора, начинает нас тревожить, как бы не вообразил кто-нибудь, что это – герой нашего времени, как бы Остап Бендер не оказался образчиком для юнцов, не перепрыгнувших еще своего болота».
Этот тезис – самый важный. И Луначарский акцентировал: «На авторах лежит большая ответственность».
Бендеру, как настаивал Луначарский, положено не только проиграть. Само поражение героя – не итог. Великий комбинатор должен измениться: «Думаю, что оказаться ему строителем нового будущего очень и очень трудно, хотя при гигантской очищающей силе революционного огня подобные факты и возможны».
Завершалась статья подведением своего рода баланса. Согласно Луначарскому, убытки практически незаметны, а вот прибыль велика. «Предостерегая читателей от неверных выводов, мы не можем не подчеркнуть еще вопроса о том, что “Золотой теленок” – роман, не только блещущий весельем, но роман, в котором много жизненной правды и который ставит серьезные жизненные проблемы и является шагом вперед по сравнению с “Двенадцатью стульями”, уже приобретшими мировой интерес».
Луначарский последовательно и умело защищал Ильфа и Петрова. Да, в 1931 году он уже не возглавлял Наркомпрос. Работал в ЦИК СССР. Однако был не только представителем высшей партийной элиты. Еще и академиком.
Из редакционного вреза следовало, что вопрос о заграничной публикации романа Ильфа и Петрова решен. Так что статья Луначарского трансформировалась в установочное – правительственное – мнение.
Это был ответ цензорам. Конкретно – Волину, ставшему в конце июня 1931 года руководителем Главного управления по делам литературы и издательств Народного комиссариата просвещения.
С учетом такого фактора понятно, в силу какой причины именно в августе 1931 года журнальная публикация «Золотого теленка» была прервана. Главный цензор распорядился. А проследить этапы волинской интриги можно по материалам Российского государственного архива социально-политической истории[137]137
См., напр.: Волин Б. В Оргбюро ЦК ВКП (б) // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 272. Л. 35–38. Опубликовано в кн.: Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 210.
[Закрыть].
Июльский номер журнала «30 дней» был подписан к печати до того, как новый главлитовский руководитель приступил к своим обязанностям. Волин запретил публикацию романа с августа.
Конечно, «ответственный редактор» журнала «30 дней» на уровне вышестоящих партийных инстанций мог бы обжаловать главлитовский запрет. Но Соловьев, надо полагать, обсудив проблему с Кольцовым, нашел другое решение.
Соловьев ответил Волину в августовском номере – посредством статьи Луначарского. Это было не менее весомое мнение. Сыграла важную роль и ссылка на уже санкционированное заграничное издание «Золотого теленка».
Можно сказать, что Соловьев послал главлитовского руководителя к Луначарскому. Провел административный маневр, намекнув, с кем бы литератору Волину следовало поспорить в печати.
Журнальную публикацию романа Соловьев продолжил, не дожидаясь отмены главлитовского запрета. Формально имел право самостоятельно принимать такие решения. Вместе с ответственностью за них – в случае ошибки. На то и «ответственный редактор».
Волин тоже провел свой административный маневр, направив 7 декабря 1931 года в Организационное бюро ЦК ВКП (б) обзор периодики. О журнале «30 дней» там сказано: «В ряде номеров печатался “Золотой теленок” Ильфа и Петрова – пасквиль на Советский союз, где банда жуликов совершенно безнаказанно обделывает свои дела. Дальнейшее печатание этого пасквиля было прекращено Главлитом. Редакция ответила на это помещением во всю страницу портретов авторов и возмутительной статьей Луначарского…».
Так что с Луначарским спорить Волин не стал. Нашел другое средство.
Оно было вполне эффективным. И оказало существенное влияние на дальнейшую карьеру руководителя журнала «30 дней», что отмечено Т. М. Горяевой – в монографии, посвященной истории советской политической цензуры[138]138
См.: Горяева Т. М. Указ. соч. – С. 211.
[Закрыть].
Но Соловьев был «ветераном партии», влиятельные друзья за него заступились. И хоть должность «ответственного редактора» журнала «30 дней» он утратил, вскоре получил аналогичную – в другом издании.
Два решения
Статья Луначарского была объяснением того, что журнальная публикация «Золотого теленка» уместна именно с политической точки зрения. И все же выпуск книги надолго задержался.






























