Читать книгу "Названец. Камер-юнгфера"
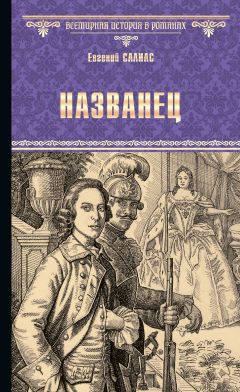
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
X
На другой день молодой малый все еще чувствовал на себе кулак регентского гайдука, все еще слегка бесился. В первый раз в жизни его побили, да еще вдобавок холопы, вдобавок без всякой вины с его стороны.
«Пойду к дядюшке», – вдруг пришло на ум Кудаеву.
И чтобы отвести душу в рассказе о приключении, рядовой отпросился у капрала со двора и отправился на Петербургскую сторону.
Петр Михайлович Калачов встретил племянника так же ласково, как и всегда.
– Что ты долго глаз не кажешь, Васька? – сказал он. – Забыл меня.
И снова, как всегда, Калачов тотчас же велел подать племяннику закусить и выпить. На этот раз появился великолепный жирный расстегай [25]25
Расстегай – печеный пирожок в форме лодочки с отверстием сверху.
[Закрыть]и бутылка совершенно иного вида. Это был не квас, а какая-то заморская романея.
– Небось, пей, – говорил Петр Михайлович. – Это мне подарок приятель вчера принес, купец московский. Славный человек, да горе горькое мыкает, сидит вот два года под арестом без всякой вины. Вот у тебя есть придворная барынька при энтой немецкой принцессе. Коли можешь, пособи.
– Да в чем, дядюшка? Я готов.
– А вот как-нибудь позову я его к себе да за тобой пришлю. Он тебе все свое дело толком расскажет. Ты сам будешь знать, чем пособить.
– Ладно, – отозвался Кудаев. – Что же? Я, пожалуй, скажу Стефаниде Адальбертовне, совета попрошу. Она со мною теперь ласковее. Будь у меня деньги, так я бы теперь уж и прямо женихом был.
– Деньги? – проговорил Калачов. – Что деньги, деньги – прах. Вот у меня, по правде сказать, деньга есть. Десять лет копил я, откладывал. Теперь столько лежит в сундуке, что я бы мог еще два таких дома купить. Да что проку в них? Что же мне в двух домах жить разве? А тебе, Васька, денег я ни гроша не дам. И не проси. И удочку эту не закидывай.
– Да я не прошу, я так, к слову, – слегка смутился Кудаев. – Разве я просил?
– Нет, не дам, и не проси. Потому не дам, что люблю тебя. Дай тебе денег, начнешь ты глупить. Все вы, молодцы, так-то. Теперь вот сидишь в ротном дворе, а тогда пойдешь по трактирам да по гербергам болтаться, да с разными шведками пьянствовать, даже и жениться не захочешь. Будут у тебя на уме одни эти дьяволицы-шведки. А вот помру я, Васька, все твое и будет! Вот не ноне, завтра будет у меня стрекулист, приказная строка, и мы с ним на бумагу все это положим и распишем все в твою пользу. Так ты и знай, Васька. И дом с садом, и огород, и деньги мои, и всякая-то рухлядь до последней то-ись ложки и плошки. Все это, Васька, будет твое. Как я помру, так, ты сюда хозяином и переезжай. Живи, владей и меня в храме за упокой поминай.
И вдруг по лицу Калачова полились слезы. Он задрожал всем телом, переступил на больных ногах три шага и опустился в кресло.
Кудаев изумился, смутился, не знал, что сказать и что сделать.
– Покорно благодарю, – решился он наконец произнести.
Но слова эти он сказал холодно, глупо.
Калачов вздохнул.
– Покорно благодарю, – прошептал он как бы сам себе. – Отчего же не поблагодарить? Есть за что. Только, вишь, нет в тебе того, что у меня есть. Нет, Васька, ответствуй прямо, нет?
– Я не понимаю, дядюшка.
– А вот вишь ли, – произнес, утирая слезы, Калачов, – был я веки вечные один-одинешенек. Ни друга, ни приятеля, ни родственника. А уж о семье собственной и думать забыл. Не потрафилось мне обвенчаться с моей любушкой, когда мне было всего еще годов с двадцать, с тех пор я и мысли о женитьбе бросил. Своих, стало быть, у меня никого. И вот сижу я так-то в Питере после отставки десять годов, один как перст. Собаки, которая пришла бы хвостом вильнуть да лизнуть мне руку, и той нет. Выискался вот ты, полюбил я тебя шибко, только не сказывал этого, а ты не примечал. Вот теперь я говорю, все свое иждивение отдам я тебе по смерти. Стал я сказывать, глупая слеза меня прошибла. Что делать? Старость пришла. Прежде в походах и баталиях не случалось плакать, а теперь, бывает, им раз в год захнычешь, как баба. А на мои те слова ты, Васька, ответствуешь хладными словами: покорно благодарю. Вот так солдат на ученьи ротном капрала своего благодарит. Вот я и говорю, нет в тебе, Васька, в сердце твоем, того, что во мне есть, нет ко мне чувствия никакого, а у меня-то к тебе есть.
– Что вы, дядюшка, помилуйте? Я, право…
– Ну, ладно, ладно, Бог с тобой. Теперь нет, после будет. Коли женишься, я тебе рублей сто подарю. А остальное после смерти. Да и ждать недолго. Гляди, я годика два, больше не протяну. Вот уже второй месяц и сна у меня нет. Как в постель, так ноги загудят, хоть кричи. Недолго, брат, ждать.
– Что вы, дядюшка? – повторял на разные лады Кудаев. И в молодом человеке совершалась какая-то борьба. Ему хотелось встать, подойти к старику, обнять его и поцеловать, а вместе с тем было совестно.
«Что же это такое? – думалось ему. – В голове все как-то перепуталось. Он мне по духовной все имущество оставить хочет, а я его Стефаниде Адальбертовне чуть-чуть с головой не выдал. Да и Новоклюеву проболтался. Что ж, я эдак подлец выхожу».
Капитан успокоился совсем, перевел разговор на своего приятеля, купца Егунова, и затем дядя с племянником порешили, что на днях капитан пригласит приятеля и Кудаева для обсуждения вопроса, как помочь горю московского купца, сидящего под арестом.
Кудаев вышел от дяди задумчивый. Все та же мысль неотвязно преследовала его.
«Добрый он человек, – думалось Кудаеву, – совсем хороший, сердечный человек. И вот все иждивение свое мне почет отдать, а за что? Чем я ему свою любовь доказал? Ничем. Я его два раза болтовней чуть в беду не ввел. Спасибо, даром с рук сошло. Все-таки, однако, надо будет с Новоклюевым да с госпожою Минк опять беседу эту завести да сознаться, что все то я про дядюшку врал. Так-таки прямо и скажу, все, мол, наврал. Сам-де я измыслил такое…»
Едва только вернулся Кудаев на ротный двор, как за ним прибежал мальчик из Зимнего дворца и объяснил, что г-жа Минк просит господина рядового пожаловать вечером в гости.
«Вот как нынче, – подумал Кудаев, – а все спасибо капралу».
XI
Разумеется, часов около шести Кудаев был на подъезде Зимнего дворца и, пройдя уже знакомым коридором, очутился в той же горнице г-жи Минк.
Помимо хозяйки и хорошенькой Мальхен, которая принарядилась и весело встретила своего возлюбленного, были еще в горнице две личности, которых Кудаев никогда прежде не видал. Около Мальхен сидела маленькая худенькая барынька, подслеповатая, с большим красным носом. Рядом с хозяйкой сидел человек лет пятидесяти, в кафтане, который не раз видал Кудаев, но не знал положительно, что это была за форма; это было, очевидно, не военное обмундирование.
Однако Кудаев знал хорошо, что люди в этих кафтанах говорят исключительно по-немецки, не понимая ни слова по-русски.
Про одного такого господина в таком же кафтане Новоклюев сказал однажды Кудаеву тихо и вразумительно:
– Это, братец мой, люди важные. Через эдаких людей все можно сделать, в воеводы можно попасть. Только ты, братец мой, подальше от них держись. С ними один в люди выйдет в одно мгновение ока, а десять человек в Пелым и Березов улетят в ссылку. Так что же пробовать? Держись от них подальше.
Больше ничего Кудаев не узнал от капрала.
Разумеется, теперь, при виде такого кафтана в гостиной госпожи камер-юнгферы, Кудаев недоверчиво огляделся и слегка струхнул.
– Вот господин преображенец Василий Кудаев! – сказала гостям хозяйка по-немецки.
Затем Минк объяснила молодому человеку, что господин – ее большой приятель, а его супруга – большая приятельница, но что по-русски они почти не говорят, а поэтому и разговаривать с ним не могут.
Кудаев сел. Хозяйка стала угощать его разными сластями, которые стояли на столе, затем предложила чашку кофе. Но Кудаев, пробовавший как-то раз этот кофе, уже не отваживался с тех пор проглатывать эту удивительную черную бурду.
Напиток этот появлялся все больше в столице во всех домах, большею частью у немцев. Но русские люди еще не могли привыкнуть к заморскому питью. Многих, а Кудаева в том числе, тошнило от этого питья. Многие сказывали, что это не что иное, как крепкий настой голландской махорки.
Разговор, который застал Кудаев и который продолжался при нем, шел по-немецки. Поэтому он немного мог понять. Изредка только ловил он знакомые слова и по ним вдруг замечал и соображал, что речь идет о нем.
Этой догадке помогло и то обстоятельство, что господин в подозрительном кафтане, изредка обращаясь к госпоже Минк и к Мальхен, взглядывал и на него, но взглядывал как совершенно на неодушевленный предмет, как если бы Кудаев был не живой человек и преображенец, а стол, комод или какой иной предмет.
Наконец сомнительный гость замолчал, выразительно взглянул на госпожу камер-юнгферу и стал как бы ждать, передавая ей право речи.
Стефанида Адальбертовна обернулась в Кудаеву и начала говорить. Но, видно, материя разговора была мудреная и слов русских у немки на сей раз положительно не оказывалось в запасе.
Сказав несколько фраз, госпожа Минк обернулась к Мальхен и произнесла что-то по-немецки.
– Что же, пожалуй, я знаю. Я все могу сказать, – отозвалась весело Мальхен. – Хорошо. Слушайте. Тетушка велит мне все вам рассказать. Ей мудрено ведь по-руски говорить. Это я совсем стала русская! Да я и говорить по-русски больше люблю, чем по-немецки, – рассмеялась Мальхен.
Господин в кафтане погрозил молодой девушке пальцем, на котором засиял большой золотой перстень. Он хотел ласково при этом улыбнуться, но вышла какая-то скверная гримаса.
– А-а, господин Шмец, вы, стало быть, притворяетесь. Вы, стало быть, понимаете изрядно по-русски! – воскликнула Мальхен.
Господин Шмец хитро ухмыльнулся и снова погрозился.
– Как же вы сказываете, что ни единого слова не понимаете? – смеялась Мальхен.
– Ну ну, – проговорил Шмец. – Dummes Kind!..[26]26
Неразумное дитя (нем.).
[Закрыть]
И тем же пальцем с перстнем показал на Кудаева, как бы приглашая приступить к делу.
Мальхен обернулась к возлюбленному и затараторила быстро, перемешивая речь улыбками. Однако ее взгляд ясно говорил Кудаеву, что дело поворачивается в серьезную сторону.
– Видите ли, тетушка просит меня вам разъяснить… Если вы хотите…
Мальхен рассмеялась звонко и зарумянилась…
– Не знаю, как сказать! Если вы хотите, чтобы меня отдали за вас замуж, – с запинкой проговорила девушка, – то вы должны свои обстоятельства переменить. Вы теперь рядовой, солдат, за вас мне замуж выходить нельзя. Так говорит тетушка! Так говорит господин Шмец. Не я говорю. Вам надобно быть капралом и надобно иметь деньги! Вот что они говорят.
– Это от меня не зависит!
– Знаю… Надо это устроить.
– Да как же это сделать? – выговорил Кудаев, обращаясь к присутствующим.
– Слушаит, слушаит, Мальхен, – произнесла Стефанида Адальбертовна, – не говариваит ничего, слушаит.
– Да, слушайте. Я вам все разъясню, – продолжала Мальхен. – Вы вот говорите, что у вас есть дядюшка богатый, живущий в столице. Правда это?
– Да, – смутился Кудаев.
– Вы сказывали в прошлый раз тетушке, что ваш дядюшка… Как его прозвание?
Кудаев хотел произнести фамилию, но запнулся, и в нем началась мгновенная, но страшная борьба, произносить ли имя старика-дяди.
– Как его звание и прозвание? – повторила Мальхен. – Что же вы? Забыли разве?
Кудаев молчал и, оглянувшись, увидал, что все четверо присутствующих впились в него глазами.
– Что же вы? – проговорила Стефанида Адальбертовна. – Фамил я помниваит сам. Он капитан Калачов.
– Капитан Петр Михайлович Калачов? – с акцентом, но чисто и правильно произнес вдруг господин Шмец.
– Да, – со вздохом прошептал Кудаев, изумляясь, что этот барин знает даже имя и отечество его старика-дяди.
– Ну вот, капитан Калачов, – продолжала Мальхен, – хочет вам передать свое состояние, а оно у него хорошее. Ну вот, если вы хотите со мною венчаться, то сделайте одно простое дело, и все будет хорошо и счастливо. А дело самое простое.
– Какое же дело? – вымолвил Кудаев.
– Да вот вы сказывали тетушке, что господин Калачов недоволен тем, что на престоле император Иван Антонович. Правда ли это?
Кудаев молчал.
– А, да он не хочет разговариваит! – воскликнула камер-юнгфера. – Если не хочет, не надо. Ступайте, зачем сидеть? Не надо. Ступайте. Зачем у нас сидеть?
Кудаев смутился.
– Да, – прибавила Мальхен, и голос ее сразу упал. – Если вы не хотите беседовать об этом деле, то, конечно, что же? Нечего вам у нас и делать.
И на глазах Мальхен выступили слезы.
– Да что вы, помилуйте! – воскликнул Кудаев. – Я совсем не то. Я не понимаю, вы скажите, в чем дело.
– Говорил ли вам дядюшка, что не император Иван Антонович, а цесаревна Елизавета Петровна должна на престоле быть?
– Говорил, – произнес Кудаев глухим сдавленным голосом, чувствуя, что беседа переходит на какую-то страшную дорогу, с которой уже нет возврата, нет спасения ни ему, ни добряку-капитану.
В эту самую минуту господин Шмец встал с места, подошел к двери горницы, ведущей в корридор, отворил ее, оглянулся направо и налево, потом снова припер и вернулся на свое место. При этом он сказал что-то по-немецки шепотом, а затем странно впился глазами в молодого человека.
«Сущий волк!» – подумал Кудаев и почувствовал дрожь в спине.
– Ну, слушайте внимательно, что я вам скажу по приказанию тетушки и господина Шмеца, – продолжала Мальхен. – Если вы хотите, чтобы я была вашей женой, то сделайте так, чтобы состояние вашего дядюшки все перешло к вам сейчас же.
– Каким образом? – воскликнул молодой малый во все горло.
– А дело самое простое. Вы отправляйтесь завтра к господину Шмецу, у него будет ждать вас дьяк. Так вы изложите на бумаге все, что слышали от вашего дядюшки насчет его недовольства, насчет его разных противных императору речей, и эту бумагу вы возьмете и подадите господину Ушакову. А там уже все само собою пойдет.
С этой минуты Кудаев, как бы притиснутый, как бы чувствуя себя в какой-то западне, в которую он попал совершенно неожиданно и из которой нет спасения, сидел и молчал как убитый.
Господин Шмец стал объясняться тихо и мерно, по-немецки, обращаясь к госпоже Минк и к Мальхен.
Девушка, в свою очередь, передавала все своему возлюбленному, и в конце концов Кудаев понял, что он еще в прошлый раз выдал с головою Калачова этим пиявкам и что теперь они требуют от него лишь подтверждения письменного. Требуют, чтобы он подал донос на своего дядю в канцелярию.
Но этого мало было… Главное – не было выбора!
Если Кудаев откажется от намерения предать дядю в руки палачей и воспользоваться всем его имуществом тотчас же, то эти люди, в особенности господин Шмец, берутся сделать то же самое.
В таком случае преображенец Кудаев являлся уже не лицом, которое может от всего дела выиграть, а виновным и причастным к «противному разговору» и изменническому поведению своего дяди, Калачова.
Кудаев сидел совершенно оглушенный и ошеломленный всем, что произошло. Он отвечал своим собеседникам:
– Да! Непременно! Завтра же!
Но сам он как бы не понимал, что слышал и что говорил.
Когда молодого человека отпустили, и он вышел на воздух и очутился за несколько десятков шагов от Зимнего дворца, то остановился и взял себя за голову.
– Господи, помилуй! Да что же это такое? – громко проговорил он. – Что же такое? Как тут быть! Что тут делать? Или в доносчики, иуды-предатели, или самому в плети, к палачам. Ах ты, собака! Ах ты, тварь подлая! возопил Кудаев со слезами на глазах, от ярости на самого себя.
XII
Однажды, в сумерки, между преображенцами того ротного двора, где жил Кудаев, было всеобщее недовольство и ропот. Вообще гвардейцы столицы, избалованные всячески и начальством, и обывателями, при малейшем поводе громко выражали свое недовольство.
Иностранцы, бывавшие в Петербурге, имевшие понятие о дисциплине в войсках прусских или австрийских, изумлялись распущенности, которая была отличительной чертой столичного солдата. Даже слово «дисциплина» было еще совершенно неизвестно среди русского войска.
В казармах и ротных дворах гвардии жили не солдаты, а дерзкая, разнузданная орава.
Вдобавок между разными полками было постоянное соперничество и маленькая междоусобица. Постоянно на улицах возникали драки между солдатами разных полков, товарищи, конечно, присоединялись, и возникали кулачные побоища без всякого важного повода, которые кончались часто смертоубийством.
В эти дни было такое соперничество между преображенцами и измайловцами, что оба полка ненавидели огульно друг дружку. Соперничество это началось с той минуты, как брат герцога Бирона, Густав, стал подполковником и командиром Измайловского полка.
Императрица за последние годы своего царствования стала более покровительствовать полку, в котором был младший Бирон. Преображенцы, бывшие всегда как бы на первом месте, негодовали. Ими командовал, с чином подполковника гвардии, сам фельдмаршал граф Миних, герой и победитель турок.
В этот день, 8 ноября, на ротном дворе было особенное волнение вследствие того, что пришел указ выходить в караул на ночь двум командам в оба дворца зараз, и в Зимний, и в Летний.
Сменять караул с полуночи в Зимнем дворце преображенцы собирались и знали свой черед заранее. Но высылать людей в Летний дворец, где жил регент и где стояло еще выставленным парадно тело покойной императрицы, надлежало измайловцам. Теперь же предписывалось не в очередь идти туда преображенцам. Это была новая льгота или поблажка измайловцам.
– Это потому, ребята, – ворчали солдаты, – что их подполковник – братец правителя империи. Теперь совсем заленятся и будут только на печи лежать.
– Скоро совсем должны измайловцы освободиться от всяких караулов и от всякой работы. А мы будем и за себя, и за них отбиваться. Будут нас и день и ночь гонять.
Вечером, к досадному для всех приказанию прибавилось и еще нечто, уже совсем необыкновенное.
Адъютант фельдмаршала, подполковник Манштейн, явился на ротный двор и по личному приказанию их командира перетасовал офицеров и капралов.
Кудаев, бывший всегда в одном взводе с Новоклюевым, был переведен под команду другого капрала. Офицеры обменялись местами. Вообще, весь ротный двор перепутался.
– Это уже зачем, никому неизвестно, – говорили солдаты.
– Диковинно, да и глупо.
Когда Манштейн уехал, то офицер Грюнштейн объявил солдатам, что приказание это, по словам адъютанта фельдмаршала, было дано ради отличия. Но, конечно, никто из рядовых или офицеров этому объяснению не поверил.
– Какое же отличие? – говорили даже офицеры.
– У нас всякая команда одинакова. Нет ни хуже, ни лучше – все равны. Каждому в отдельности сказывают, что его перемещают якобы ради награды, а со стороны выходит якобы ради наказания.
– Да, – заметил Грюнштейн, отличенных, а стало быть, благодарных и довольных что-то неприметно.
– Полно вам! Галдите зря! – заметил один старый капрал, которого все уважали за его дальновидность и проницательность. – Завтра шумите и болтайте. А ноне помолчите. Может, это глупое – умным за утро обернется!
Ввечеру с ротного двора двинулись два отряда в две разные стороны, и солдаты, перестав уже роптать, только подшучивали друг над дружкой.
– Прощай, брат! – кричал Новоклюев Кудаеву. – Где придется свидеться, неведомо. Может, мы на шведов в сражение пойдем, а вы в Туретчину.
Точно так же из разных взводов раздавались шутки. Солдаты и капралы прощались, просили обоюдно отпущения грехов, как перед Великим постом, желали друг дружке доброго пути, отличия и удачи, вообще смеялись и балагурили на разные лады.
Над Новоклюевым подшучивали рядовые, что его опять поставят в залу, где стоит тело императрицы. Всем было известно, что капрал до страсти боится мертвецов.
Отряд, направленный в Зимний дворец, сменил своих же из другой роты. В Летнем дворце пришлось заменить караул измайловцев.
Смена произошла немирно. Два преображенца налетели на одного измайловца и поколотили его. Началось побоище, и если бы не хитрость офицера Грюнштейна, то в эту ночь в резиденции герцога Бирона непременно произошли бы кулачный бой и сумятица.
По счастью, в минуту смены караула подали к подъезду карету графини Миних, невестки фельдмаршала, которая, пообедав в этот день вместе с своим свекром у регента, осталась в гостях у герцогини Бирон до вечера. Только теперь, перед полуночью, собиралась она уезжать домой.
Грюнштейн, видя, что может начаться жестокая драка, крикнул солдатам, что к подъезду подали карету самого регента.
– Выйдет садиться, услышит шум, беда вам всем будет. Помилуй Бог, улетят виновные, куда Макар телят не гонял, – схитрил Грюнштейн.
И этим маневром он предупредил побоище. Между тем Кудаев вместе со своею командой, но под начальством другого офицера очутился во внутренних покоях Зимнего дворца, на часах у дверей опочивальни младенца императора.
В той же комнате, в углу, на деревянном ларе, была постель, на которой спал главный камергер императора Миних, сын фельдмаршала.
Расставив часовых у ворот двора, на крыльце и у некоторых дверей внутренних апартаментов, две трети команды расположились в караульной. Большинство улеглось спать в ожидании своей очереди сменять часовых.
Около двух часов ночи среди тишины и безмолвия спавшего дворца началось движение. Все встрепенулись. На дворе, а затем в караульной показался сам фельдмаршал Миних в сопровождении Манштейна. Он прошел в верхний этаж прямо к камер-фрейлине принцессы, Иулиане Менгден и велел ее разбудить. Приказание получила и исполнила дежурная камер-юнгфера Минк, причем она лукаво улыбнулась и приняла на себя важный вид.
Баронесса Менгден, родная сестра невестки фельдмаршала, смущенная неожиданностью, накинув на себя кое-как платье, вышла… Фельдмаршал вежливо, но холодно и строго попросил разбудить немедленно принцессу, доложив ей, что граф Миних желает ее видеть по весьма важному обстоятельству.
Испуганная фрейлина тотчас же пошла исполнять приказание, но принцесса, к ее крайнему удивлению, спала одетая, нисколько не встревожилась, а улыбнулась, как и камер-юнгфера, быстро оправила платье и вышла к Миниху.
– Бог за нас и с нами! – прошептала ей вслед Степанида Адальбертовна, оправлявшая туалет принцессы.
– Между ними зашел разговор шепотом. Миних уговаривал принцессу, но она мотала головой и отвечала одно и то же:
– Согласна на все, но сама ни за что не пойду.
Миних с минуту простоял перед ней, молчаливо размышляя и обдумывая что-то. Затем он выговорил:
– Хорошо, но по крайней мере согласитесь, чтобы я сейчас же привел сюда к вам наверх всех офицеров караула и вы лично прикажите им.
– И этого я боюсь, – быстро выговорила принцесса.
– По крайней мере, принцесса, вы скажите им, попросите их точно и беспрекословно повиноваться мне. Вы не скажете им, в чем дело, только прикажете повиноваться мне, – вразумительно проговорил граф.
– Хорошо, – нерешительно произнесла Анна Леопольдовна.
Миних быстро спустился вниз, вызвал офицеров в отдельную горницу и обратился к ним с речью, спрашивая, готовы ли они служить верой и правдой императору и отечеству. Готовы ли они исполнить поручение матери императора, сослужить службу великую и ей, и отечеству, и ему, Миниху, их любимому полководцу, и, наконец, самим себе?
Офицеры, смущаясь, ничего не понимая, отвечали согласием, но это было согласие оторопевших подчиненных, боящихся и согласиться бесповоротно, и отказаться решительно.
– В таком случае, господа, идите за мною.
Миних вместе со своим адъютантом Манштейном и в сопровождении полудюжины офицеров поднялся снова в верхний этаж.
Все обитатели дворца, конечно, были разбужены необычным движением в горницах, но все получили строгий приказ сидеть каждый у себя, а паче всего не вздумать выйти со двора.
Когда Миних с офицерами был в приемной гостиной, к ним вышла принцесса и, смущаясь, робея, краснея, объяснила им едва внятно, что возлагает на них важное поручение, надеется на их верность присяге младенцу императору.
– Верность и усердие ваше будут достойно, сторицею вознаграждены, – вымолвила принцесса. – Всякий из вас и рядовые ваши будут награждены, как кто пожелает.
Видя недоумение, написанное на лицах офицеров, граф Миних вымолвил быстро:
– Господа, поручение, даваемое мне принцессою, – великий подвиг. Мы тотчас же должны отправиться арестовать и привезти сюда живым или мертвым того человека, который десять лет угнетает наше дорогое отечество, который, вопреки завещанию покойной государыни, оскорбляет ежедневно как императора, которому мы присягали, так и его родителей. Мы должны арестовать, взять под стражу ненавистного всем нам герцога Бирона. Кто из вас не желает сослужить этой службы императору и его родительнице, пусть прямо здесь же и тотчас же откажется.
Наступила пауза. Офицеры, стоя в ряд, молчали как убитые.
– Стало быть, вы все согласны? – вымолвил Миних взволнованно.
Раздались восклицания готовности, уверения и даже клятвы: не жалея живота своего, послужить императору и принцессе – верой и правдой.
Анна Леопольдовна расплакалась, обняла фельдмаршала, и затем все офицеры по очереди подошли к ней и целовали ее руку.
– Я надеюсь на вас и на счастливое окончание предприятия, – сказала она им в напутствие.
Офицеры с фельдмаршалом во главе спустились снова в караульню. Солдаты были уже в сборе, все часовые были сняты с своих мест и приведены сюда.
Кудаев, пришедший сюда от дверей опочивальни императора, узнал, что творится что-то диковинное. Все офицеры взяты наверх. Оказывается, недаром у них была утром перетасовка. Вот теперь среди ночи произойдет что-то диковинное.









































