Читать книгу "Названец. Камер-юнгфера"
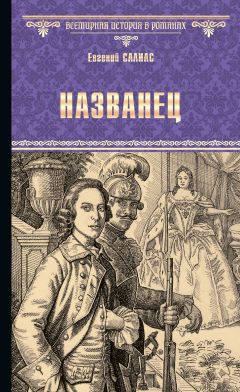
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXII
На Красной горке состоялось бракосочетание племянницы госпожи камер-юнгферы и Преображенского капрала.
На свадьбу эту многие обратили внимание. Многие сановники заранее знали, что будет свадьба богатая и пышная, совсем не к лицу для капрала и для молоденькой немочки. Тем не менее очень удивило многих высокопоставленных лиц одно обстоятельство на этой свадьбе. А затем после обряда дня два или три много толков было о случившемся.
В то утро, когда невесту одевали к венцу, а жених, с своей стороны, с несколькими товарищами собирался из своего дома на Петербургской стороне в церковь Святой Троицы, в Зимнем дворце происходило нечто.
Когда Мальхен начала одеваться, камер-юнгфера исчезла из горницы, поднялась в верхний этаж и перемолвилась с баронессой Менгден. Затем она вернулась назад и села, ни с кем не заговаривая.
Мальхен одевалась. Несколько приятельниц были у ней и, по обычаю, помогали наряжать невесту к венцу.
Камер-юнгфера глядела сумрачно и наконец несколько раз повторила, не двигаясь с места:
– Не спешит. Не надо спешитъ! Подождит. Понимайт?
Все с удивлением глядели на госпожу Мник, в особенности Мальхен широко раскрывала на нее свои красивые глаза.
В комнату вошла камер-медхен правительницы и позвала госпожу Минк наверх.
Через несколько мгновений камер-юнгфера вернулась назад и видом своим перепугала всех. На ней лица не было. Вернее сказать, на ней была пунцовая маска. Вся кровь бросилась в голову тучной женщине. Еще немножко – и, казалось, у ней сделается удар.
Вне себя от гнева, пыхтя, сопя и задыхаясь, госпожа Минк выговорила через силу племяннице:
– Раздевайся.
Слово это упало в горницу, как гром. Мальхен затрепетала всем телом и вскрикнула, всплеснув руками:
– Что вы, тетушка?
– Раздевайся. Не поедешь. Не хочу свадьбы. Меня обманули. Не хочу, раздевайся. Was sagen sie! Gott![35]35
Что вы говорите! Боже! (нем.)
[Закрыть]
И на вторичный повелительный приказ камер-юнгферы две девушки начали снимать с Мальхен подвенечное платье.
Невеста заплакала навзрыд и приставала к тетке объяснить причину такого неожиданного приключения. Но камер-юнгфера, уже несколько успокоившись, озлобленно махала рукой и повторяла по-немецки:
– Нас надули! Не хочу, не позволю я себя, как девчонку, обманывать. Я не горничная. Я придворная советница. Вот кто я.
Между тем несколько женщин и девушек из штата правительницы уже успели ускользнуть из горницы и разнести по дворцу вести о скандале.
В верхнем этаже тотчас было передано все, что случилось в комнатах камер-юнгферы, самой госпоже Менгден. Фрейлина быстро пошла в спальню правительницы.
В ту минуту, когда Мальхен была уже без своего венчального платья и надевала простое серенькое, в горницу вбежала та же камер-медхен, но с лицом очень веселым и объявила госпоже Минк:
– Ее высочество вас к себе требует.
Придворная барынька грозно и важно поглядела на камер-медхен и произнесла:
– Скажите я нездорова, не могу итти.
Все присутствующие переглянулись с некоторою робостью.
Девушка выскочила из горницы, а госпожа камер-юнгфера стала стучать жирным кулаком по подоконнику и приговаривала:
– Я не девчонка. Я себя за нос водить не позволю. Сейчас напишу бумагу, буду просить отставку, уеду в Курляндию. Посмотрим, как они без меня обойдутся.
Та же камер-медхен в третий раз впорхнула в горницу и снова объявила госпоже Минк:
– Ее высочество приказала сказать: скажи Стефаниде Адальбертовне, что все будет по ее желанию, поэтому чтобы не сердилась, скорее одевала невесту и ехала в храм.
Госпожа Минк вздохнула. Лицо ее просияло и, ни слова не говоря, она двинулась из горницы и пошла наверх. В дверях она обернулась и выговорила:
– Ну, одевайте Мальхен.
Девушка вскрикнула от восторга, приятельницы ее взялись за все, что было разложено по стульям и столам, и невеста начала одеваться снова.
Через несколько минут явилась госпожа камер-юнгфера, вошла сановито и медленно, закинув важно голову назад, и произнесла по-немецки с особой расстановкой:
– Ее высочество правительница и мать императора делает мне честь быть твоей посаженой на свадьбе.
Мальхен, глядевшая в лицо тетушке, не отвечала ничего. На нее, очевидно, эта новость не произвела никакого впечатления. Ей это было совершенно безразлично.
– Что ты, не понимаешь? Ты дура, – уже сердито произнесла госпожа Минк. – Понимаешь ты эту честь?
– Понимаю, – поспешила ответить Мальхен, – очень рада.
– Это великая честь!
– Понимаю, тетушка… Это, конечно, для вас, а не ради меня…
– То-то. Ну, собирайся скорее…
Через несколько минут невеста была уже готова и, окруженная гостями, спускалась по лестнице садиться в карету.
Со второго этажа в то же время спускалась расфранченная госпожа Иулиана Менгден, отправлявшаяся в церковь изображать при бракосочетании персону ее высочества в качестве посаженой матери.
Причина, разобидевшая госпожу камер-юнгферу, была именно та, что правительница, обещавшая за несколько дней быть посаженой Мальхен, передумала и решила, что это слишком много чести для простого капрала-преображенца и для простой девочки, не состоящей даже в штате двора.
Анна Леопольдовна находила совершенно достаточным, если посаженой матерью будет фрейлина Менгден. Однако камер-юнгфера настояла на своем, но, конечно, согласилась на то, чтобы фрейлина Менгден была заместительницей принцессы при обряде и на свадебном обеде.
После венчания был, конечно, пир горой у молодых, на Петербургской стороне, в домике несчастного капитана. Кудаевы зажили, конечно, весело и богато – и блаженствовали. Капрал был безмерно счастлив. У него было порядочное состояние, нежданно полученный чин, красавица-жена, и, наконец, покровительство властной «придворной барыньки».
А что такое была толстая, ленивая и глуповатая на вид камер-юнгфера – Кудаев вполне узнал только после венца от своей молодой жены.
– Тетушка все может, что ни захочет, – объяснила однажды госпожа Амалия Кудаева своему мужу, прося только не говорить об этом в полку. – Она сильный и властный человек, сильнее всего генералитета!
– Как так?! – воскликнул капрал.
– Правительница души не чает в своей камер-фрейлине, Юлиане Менгден. Обожает ее много пуще, чем принца-мужа своего. Слыхал ты это?
– Много раз слыхал.
– Ну вот… А баронесса Юлиана до страсти обожает тетушку Стефаниду Адальбертовну. И на это есть особливые причины – баронесса не может заснуть, если ей не чешут пятки… А делать оное никто не умеет ей так пользительно, как тетушка. Когда тетушка раз захворала и лежала, баронесса ночей почти не спала – не от жалости, а от того, что некому было ей щекотать подошвы и пальчики. Ей-богу.
– Ишь ведь, придворное-то житье! – рассмеялся Кудаев.
– Ну, вот и потрафляется все для тетушки, как она желает, – продолжала Мальхен. – Что она захочет, то и воротит. А когда нужно предприять некое чрезвычайное дело – то правительница шепчет любимой баронессе, а фрейлина шепчет камер-юнгфере, а Стефанида Адальбертовна действует на свой страх.
– Да ведь она дура отпетая?
– Ой нет, милый. Ты не гляди, что она русскую речь смехотворно проговаривает… По-российски она взаправду дура. А по-немецки умна так, что ахнешь.
– Ну вот… Голов-то у нее не две. Сколькими языками ни владей – голова-то на плечах та же размышляет.
– Ну так слушай! – воскликнула Мальхен. – Так и быть. Скажу все. Кто первый затеял дело, чтобы вы, преображенцы, захватили регента Ягана Бирона ночью?.. Степанида Адальбертовна!
– Что-о? – изумился Кудаев.
– Она… Вот тебе Бог! Не лгу. Тетушка это на свой страх затеяла, сама пошла к графу Миниху, а там передала все фрейлине и правительнице. Да так три дня и перебегала. И уж прямо между фельдмаршалом да правительницей посредничала. Все брала на свою голову! Вот тогда граф и не побоялся лично завести речь об аресте с самой принцессой… Вот все и наладилось. А кто первый пошел… головы и языка не жалея?… Камер-юнгфера! Узнай все Бирон за сутки, кому бы язык палач вырезал? Правительница и граф отперлись бы и все бы на нее свалили.
– Молодец-баба, коли так, – согласился Кудаев, – конечно, она бы одна за все ответила.
– Ну а после того, кто опять присоветовал чрез фрейлину принцессе опасаться хитрого пролаза графа Миниха?
– Ну вот… Неужто она же?
– Вестимо, она.
– Скажи на милость.
– А помнишь, ты серебряный чайник с сахарницей и с молочником, что подарили тетушке об Рождество?
– Помню.
– А кто подарил?
– Она то сокрыла. Никому не хотела сказывать.
– Граф Остерман. Он ее часто дарит. А он человек хитрющий, знает, кому надо угождать.
– Правда. Истинная правда! – воскликнул Кудаев. – Вот и Миних чрез меня ее обдарил.
– И его не сослали. А совсем собирались сослать.
– Да, стало быть, Стефанида Адальбертовна не дура. Она семи пядей во лбу!.. Сам царь Соломон.
– Ну а кто в канцелярии Андрея Ивановича Ушакова определил своего родственника пособником к господину Шмецу – она же… Господин Минк – первое лицо у Шмеца. А сам он из Тайной канцелярии каждый день утром бегает к тетушке с докладом и все ей рассказываетъ: кого допрашивали, кого пытали да на дыбе подбирали и кто что на себя и на других сказывает, что истинно и что облыжно…
– Зачем же ей это нужно?..
– А тетушка ввечеру, когда пяточки фрейлине чешет, все ей докладывает каждодневно со слов Минка…
– А Юлиана-то – правительнице! Понял!
– А Анна Леопольдовна каждодневно все знает вернее всякого иного. Ее не обманет и сам Ушаков. Понял теперь, кто таков тетушка. Сильный человек. Властная персона!
– Истинно, – решил капрал и прибавил: – Да, властная персона – слова нет! Ай да камер-юнгфера!.. И все-то – чрез пяточки происхожденье имеет!
– Эдак нельзя рассуждать! А ты меня за что любишь? Я тебя за что люблю? За поцелуи, за ласку… – объяснила глубокомысленно Мальхен. – Не целуй ты меня, я бы тебя любить не стала…
– Правда! Истинная правда! – весело воскликнул Кудаев, обнимая жену.
XXIII
По странной случайности, в самый день свадьбы Кудаева выезжали в Московскую заставу из столицы несколько телег, где везли пожитки и сидело человек пять арестантов, а вокруг них двигались с ружьями солдаты; это была партия ссыльных из Тайной канцелярии.
В первой телеге, на куче разных узелков и ящиков видели два человека, совершенно непохожих один на другого.
Это были лишенный прав и состояния Калачов, а с ним рядом – двадцатилетний арестант, красивый лицом, с румянцем во всю щеку, веселый и довольный, как если бы он ехал не в ссылку, а отправлялся в отпуск домой.
Это был преображенец, по фамилии Елагин, такой же рядовой из дворян, каких много было в полку, но приговоренный к лишению дворянских прав и ссылаемый точно так же, как и Калачов, в далекую Сибирь.
За последнее время Калачов сидел вместе с Елагиным в одной камере, и старик полюбил молодого малого и привязался к нему всем сердцем.
Благодаря рядовому из недорослей, веселому и очень умному, пылкому говоруну разжалованный капитан совершенно преобразился. Тоска и отчаяние, посетившие его после ужасного доноса племянника, довели старика до того, что он казался уже полумертвым.
Благодаря своему новому любимцу Елагину Калачов в две-три недели времени снова приободрился, снова глядел весело, даже лицо его пополнело.
Тайна такого превращения была простая.
Елагин, сидя по целым дням вместе со стариком, передал ему так много нового, чудесного и диковинного, о чем Калачов и понятия не имел, что поневоле капитан приободрился, а затем и совсем стал выглядывать, как прежний бодрый старик.
Елагин прежде всего объяснил капитану, за что он судился и ссылается. Он заявлял громко всюду и говорил знакомым то, что все преображенцы думали про себя и хорошо знали, да только вслух никому не говорили.
Елагин просто рассказывал, что в ту ночь, когда фельдмаршал Миних явился к ним в караульню Зимнего дворца и уговаривал офицеров идти арестовать регента Бирона, то он ясно объяснил солдатам, что они идут по приказанию цесаревны Елизаветы Петровны и, захватя Бирона, арестуют и правительницу с младенцем-императором, чтобы провозгласить императрицей цесаревну.
Сначала капитан Калачов отчасти ничего не понял, отчасти не поверил. Но затем в долгие дни сиденья вдвоем в каземате Елагин подробно рассказал и объяснил все Калачову.
Действительно, в ночь похода в Летний дворец и ареста Бирона граф Миних положительно поднял всех солдат-преображенцев одним лишь именем цесаревны и, стало быть, «взял обманно».
И многие, если не все, отлично слышали, что говорил тогда Миних, отлично знали теперь, что фельдмаршал обманул их. Никогда никто из них не двинулся бы ради Анны Леопольдовны.
– И вот, – добавлял в объяснение Елагин, – все это хорошо нам все известно, всех нас обидело и рассердило; но все-то молчали и молчат. А я стал, объяснять всем. Меня взяли, судили и ссылают…
Этот рассказ пострадавшего лица за ту же цесаревну, за которую пострадал и Калачов, имел сильное влияние на старика.
Он вдруг увидал и понял, что он не один… Все, что он в своей квартирке на Петербургской стороне говорил, все, что заставляло его всегда горячиться, все, за что он предан племянником и пострадал, – все это не диковина в столице. Не один он! Много их таких…
Елагин клялся Калачову, что арест Бирона был произведен именем цесаревны, и все знают, что Миних надул преображенцев. Поэтому именно сам фельдмаршал и теперь под арестом, так как правительница, вероятно, находит все это дело темным. Может быть, Миних и впрямь хотел после ареста Бирона арестовать императора и правительницу, да побоялся и отступился! За что же иначе арестовывать его теперь.
Узнав все от Елагина, разжалованный капитан выглядывал теперь бодро и весело, отправляясь Бог весть куда, на край света.
Рядовой, в шутку называвший его «дедушкой», раз по сто в день говорил:
– Дедушка, не печалуйся. Вот тебе Бог свят, не успеем мы до Казани доехать, как воцарится императрица Елизавета. Ты, сидя у себя на Петербургской стороне, ничего ни оком не видал, ни ухом не слыхал, а я все знаю. Говорю тебе, дедушка, до Казани не доедем, нас заставят на пути в церкви какой присягать новой императрице, а затем она нас вернет обратно и все нам возвратит – и чины, и имущество.
Вера Елагина была так сильна, что и Калачов уверовал.
XXIV
Подошла осень. Кудаева уже давно перестали звать новым капралом. В полку ходили толки, что капрал скоро станет сержантом, а не пройдет одного года, как сделается офицером.
Кудаев стал совсем важным человеком среди своих сослуживцев. Все относились к нему с особым почтениемъ; но он не замечал, что все как будто сторонились от него. Не только солдаты боялись ослушаться капрала, но и офицеры относились к нему как-то смиренно и послушно. С их стороны было особенное отношение к Кудаеву, не столько предупредительность, сколько осторожность.
Кудаев, разумеется, подробно передавал госпоже камер-юнгфере все, что происходило у них в казармах, а равно что делалось в канцелярии полка.
За последнее время, в исходе октября, Стефанида Адальбертовна поручила своему родственнику очень важное дело: следить и передавать ей постоянно все, что говорит или делает цесаревна Елизавета Петровна.
Цесаревна постоянно заезжала в гвардейские полки, преимущественно в Преображенский, продолжала часто крестить детей у солдат, оставалась в ротных дворах по получасу и долее и, когда пили водку за ее здоровье, она тоже осушала стаканчик, чем приводила всех в восторг.
Когда цесаревна возвращалась к себе в Смольный двор, то солдаты цеплялись за ее сани, становились на запятки и просто на полозьях, другие рысью бежали кругом, и она возвращалась, окруженная веселой гурьбой. Другого имени, как «наша матушка», ей не было в казармах уже давно.
Осенью во всех полках, но более всего в Преображенском у всех солдат стали появляться деньги, и довольно большие. Цесаревна, однако, не могла иметь настолько средств, чтобы сыпать в гвардию щедрой рукой такие крупные суммы.
Откуда же явились деньги?
Ходил в Питере глухой слух, что деньги, однако, от цесаревны, а даются ей французским резидентом – маркизом де-ла Шетарди. Объяснению никто не верил.
С какой стати будет французский король через своего резидента одаривать гвардейские петербургские полки? Совсем это дело бессмысленное и неподходящее. Разумные люди называли этот слух турусами на колесах.
В октябре месяце госпожа камер-юнгфера все чаще расспрашивала Кудаева о том, что делает и говорит цесаревна, появляясь у них в полку.
Кудаев отвечал:
– Ничего особливого.
Некоторые вопросы Стефаниды Адальбертовны даже удивляли капрала. Бог весть откуда она что брала.
– Ничего такого не было, тетушка, – заявлял он. – Откуда это вы слышали? Все это враки.
– Стало быть, ты сам ничего не знаешь, – с гневом объявила однажды госпожа камер-юнгфера.
И действительно, Кудаев совершенно не знал, что в полку его водили за нос. Он не подозревал даже, что на всем своем ротном дворе был у всех на примете, отмеченный всеми товарищами и как отрезанный ломоть.
Он не знал, что часто ему давали поручение, чтобы сжить с ротного двора, или приглашали в гости нарочно, чтобы удалить из казарм; а за это время являлась цесаревна, бывало веселье, шум, толки, встречи и проводы «нашей матушки».
Когда появлялся Кудаев, он видел только кругом странно улыбающиеся лица. По своей беспечности он не мог догадаться, что в случае чего-либо, о чем знают уже многие обыватели Петербурга, он, наиближе стоящий, узнает последний.
Подошел ноябрь.
Однажды, когда Кудаев по приглашению камер-юнгферы явился с женой к тетушке своей Стефаниде Адальбертовне, то застал ее очень взволнованной. Она только что пришла из горниц баронессы Иулианы Менгден.
– Ну, садись, – сказала она Кудаеву и своей племяннице по-немецки. – Слушай внимательно, Мальхен, и переводи своему мужу все, что я буду говорить, не опуская ни единого слова. Дело особой важности.
При помощи переводчицы между камер-юнгферой и капралом завязалась следующая беседа:
– Что говорил у вас недавно ввечеру на ротном дворе офицер Грюнштейн? Какие слова произнес он, когда уже все спать собирались? Тому назад дня два или три это было.
– Ничего, – отозвался Кудаев, – ничего такого не было.
– Ну так, стало быть, ты совсем ничего не знаешь и не видишь. Мы все очень рассержены разными наглыми поступками цесаревны. Со всех сторон говорят, что Елизавета хитрит и что-то такое затевает. Она такая глупая, что воображает о себе невесть что, мнит даже сделаться императрицей. Разумеется, она не знает и не слышала, что через месяц или под Новый год правительница сама издаст манифест и объявит себя императрицей Всероссийской. Но дело в том, что правительница не опасается Елизаветы и даже слушать не хочет, когда ей говорят о разных поступках цесаревны. Но мы все, и его высочество принц, и госпожа Менгден, и австрийский посланник Ботта, все смущаются этим. Надо бы эту Елизавету постричь в монастырь или по крайней мере выслать из Петербурга. Ты должен как близкий мне человек взять на себя поручение и исполнить его в точности. Разузнать в своем полку, кто есть приверженцы цесаревны, способные что-нибудь замыслить в ее пользу, и кто собственно остается верноподданным императору.
– Что же, извольте, с большим удовольствием, – отозвался Кудаев. – Это немудрено.
– Всякий день по одному, по два человека перебери всех своих, и солдат и капралов, со всеми по душе перетолкуй и разузнай. Да это надо сделать умно, тонко. Прикинься слугой и доброжелателем Елизаветы, а нас и императора ругай.
– Вестимо, – отозвался Кудаев, – надо хитрить.
И на другой же день после этого разговора капрал начал пытать своих товарищей, а равно и рядовых.
Несколько дней усердно продолжал он свой розыск и пытанье и наконец явился к Стефаниде Адальбертовне объявить, что всё, что смущает ее и придворных принцессы, сущий вздор.
– Все то враки, – сказал он. – Я пытал чуть не весь полк. Все только смеются, только на смех поднимают. Когда я стал говорить о моих якобы замыслах в пользу цесаревны и против принцессы, то одни меня дураком обзывали, другие же грозились за такие речи на меня донос сделать господину Ушакову. Напрасно вы тревожитесь по пустому.
– Нет, нет и нет, – отозвалась камер-юнгфера. – Стало, не годишься ты в наше дело. Не далее как вчера был у принцессы австрийский резидент и всячески умолял ее обратить внимание на поведение Елизаветы. А третьего дня пришло большущее письмо из Бреславля, и все говорят о том же. Французский резидент Шетарди, другой француз, доктор цесаревны Лесток, вместе с ней орудуют шибко, деньгами так и посыпают. Все мы единогласно желаем, чтобы цесаревну заперли сейчас же в какой-нибудь монастырь подальше от столицы. Одна правительница, Бог знает что с ней приключилось, только все смеется и говорит, что это одно измышление врагов ее спокойствия.
– И я то же скажу, – отозвался Кудаев, – измышления одни!
Камер-юнгфера махнула рукой и с этого дня уже более ни о чем не толковала с Кудаевым.
В конце месяца преображенцы вдруг заволновались, шумели и роптали. Целая половина полка предназначалась к выступлению в поход против шведов. При этом указана была перетасовка офицеров и рядовых.
Случайно или нет, но вся рота, в которой был Кудаев, попала в отряд, назначаемый на войну.
И тут только в первый раз среди всеобщего ропота Кудаев услышал слова, которые его поразили.
Один из капралов объяснил, что надо бы только время оттянуть, какой-нибудь месяц, и тогда никакого похода не будет, так как правительница с своим младенцем-императором сама отправится в поход, только не против, шведов, а на Белое море.
Кудаев задумался, передавать ли, что он слышал, камер-юнгфере или нет. Несмотря на то что он слыл в полку как доносчик, он все-таки не чувствовал в себе ни малейшего желания идти доносить на своих товарищей.









































