Читать книгу "Названец. Камер-юнгфера"
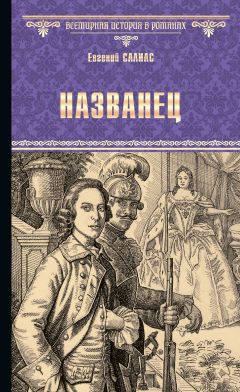
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XIX
Вскоре после этого Кудаев был еще более озадачен.
К нему пришел какой-то старичок, маленький худенький и, хрипя, пришепетывая, спросил его:
– Господин Кудаев? Вы?
– Я, – отозвался рядовой.
– А есть у вас в роте другой Кудаев?
– Нету.
– Стало, вы, сударь, были на часах у фельдмаршала графа Миниха?
– Я был.
– И вы же, сударь мой, в благоприличном знакомстве и хлебосольстве состоите с госпожею камер-юнгферою Минк?
– Все я же, – отозвался Кудаев уже весело.
– Ну вот-с, очень приятно мне с вами познакомиться и усердно вас просить пожаловать ввечеру в дом господина графа.
– К кому? – удивился Кудаев.
– К графу фельдмаршалу.
– К Миниху?! – изумился Кудаев.
– Точно так-с.
– Зачем?
– Дело есть-с.
– Да он меня выгонит.
– Не извольте беспокоиться. Сам господин фельдмаршал меня к вам прислал с сей просьбицей – пожаловать к нему ввечеру.
«Просьбица? – подумал Кудаев. – Просьбица у фельдмаршала, ко мне рядовому. Что за чудеса в решете?»
– Так как же прикажете отвечать?
– Вестимое дело, – воскликнул Кудаев. – Буду.
– Вы не опасайтесь, что граф под арестом у себя на дому. Вам это повредить не может, к нему не запрещено ходить гостям. Только извините, а лучше вы бы сделали, если бы надели простое рябчиково платье.
– Рябчиково?
– Ну, то-ись, простой кафтан. Как сказывают про господ, служащих у статских дел. Коли угодно, оденьтесь простым человеком, в зипунишко, а не угодно – рябчиком оденьтесь. Только не в мундире этом. Оно будет спокойнее и для вас, и для графа.
Кудаев ничего не понимал, но эта предосторожность его смутила.
– Нет, уж я лучше не пойду, – произнес он.
– Напрасно, господин сударь Кудаев, совсем напрасно. Но мне такой приказ от графа, что коли вы опасаетесь переодеться, то пожалуйте как есть, в вашем солдатском одеянии.
– Эдак пойду, а переодеваться что-то, мне сдается, негодно.
– Ну эдак пожалуйте.
– Ладно.
– Так верно это будет? Нынче ввечеру?
– Верно, верно. Сказал, так не обману.
И в тот же вечер, действительно, Кудаев, хотя волнуясь и тревожась, отправился к дому Миниха. Он колебался целый час, идти ли ему.
Предложение переодеться в простой зипун или в статское платье и явиться под видом простого дворового или под видом чиновника, а не военного смущало его. Но в конце концов, изумляясь, зачем он нужен Миниху, он двинулся.
На крыльце, в коридоре и в дверях внутренних апартаментов фельдмаршала Кудаев нашел часовых от конного полка.
Это свидетельствовало, что опальный сановник все еще находится под домашним арестом.
Кудаева пропустили, конечно, беспрепятственно, и какой-то лакей-немец, не говоривший по-русски, провел его в маленькую горницу. Здесь оказался тот самый старичок, что приходил в казарму.
– Ну вот и хорошо. Я пойду доложу, – произнес он.
И не прошло полминуты, как Кудаев был введен старичком в полуосвещенную горницу.
Фельдмаршал сидел за большим рабочим столом, покрытым книгами и бумагами.
– Здравствуй, воин, – выговорил он. – Удивляешься, что я тебя позвал? Так ли?
Кудаев пробормотал что-то. Его поразили фигура и голос Миниха. Лицо за несколько времени успело осунуться, еще более пожелтеть. Голос казался слабым, надорванным.
«Совсем не тот человек, – подумал Кудаев. – Вот то же самое, что мой дядюшка. Они оба, почитай, что в одном положении и оба, почитай, невинно страдают. Только есть разница. На Миниха враги какие-то наклеветали правительнице, но иуды в доме его не нашлось. А вот у старика-капитана нашелся иуда».
Кудаев вздохнул и понурился головой.
– Чего ты? – выговорил Миних с удивлением в голосе.
Вздох и движение рядового он понял по-своему.
– Чего ты? Иль тебе меня жалко? Вы, янычары, детей под соусом жарить способны и есть с маслом и с кашей. Где же вам сердобольничать! Это про вас не писано. Чего же ты охаешь?..
Кудаев не знал, что отвечать.
– Ну, коли жалеешь, – прибавил Миних, не получив ответа, – так жалей себя, тем лучше. Тогда ты охотнее справишь мое дельце. Хочешь ты справить мне дельце?
– Слушаю-с.
– Да хочешь ли?
– Извольте-с.
– Дело, братец, простое. Ты жених племянницы камер-юнгферы Минк?
– Точно так-с… Надеюсь…
– Она тебя любит?
– Мальхен? Любит!
– Мальхен, это невеста? Нет, я спрашиваю про тетку ее. Камер-юнгефера любит тебя?
– Полагаю-с.
– Можешь ты ей от меня снести записочку и ящичек, так, чтобы никто во всем мире, кроме тебя, меня да госпожи Минк, никто этого не знал?
– Могу-с, – удивляясь, произнес Кудаев.
– Поклянешься ты мне, что, кроме нас троих, никто этого знать не будет?
– Поклянусь.
– Не погубишь ты оплохом и себя, и меня, и свою Минк? Понимаешь ли ты, что ты погубить можешь всех троих?
– Не знаю-с. Полагательно, если вы так сказываете.
– Так берешься?
– Берусь, – с запинкой выговорил Кудаев.
– Ящичек небольшой, хоть за пазуху клади его. Все дело в этом. Даже и ответа мне не надо никакого от нее ко мне. Сделай милость, в ножки поклонюсь и ей, и тебе.
– Извольте-с, – выговорил Кудаев уже смелее.
– Ну, так вот.
Миних слазил в стол и достал маленькую записку запечатанную, а затем небольшой футляр.
Тут же на глазах Кудаева он завернул футляр, величиною вершка в четыре, в бумагу, перевязал шнурком, запечатал с двух сторон, а затем, взяв перо, быстро, мелким почерком написал что-то.
– Ну, вот цидуля [33]33
Цидуля (устар.) – письмо, записка.
[Закрыть]и посылка. Бери, не теряй, передай по принадлежности и никому не болтай. Не передашь, ограбишь – себя погубишь, передашь и разболтаешь – всех нас троих погубишь.
Фельдмаршал передал то и другое в руки рядового, велел спрятать за пазуху и отпустил со словами:
– Коли все благоустроится, я, сударь мой, этого не забуду. Я все-таки фельдмаршал и граф.
Кудаев вышел на улицу и тут только, как всегда, спохватился, что забыл спросить, когда ему передавать посылку госпоже Минк.
«Теперь поздно, – подумал он. – Завтра пойду».
Всю ночь проспал рядовой плохо. Маленький футлярец и записка оставались все время за пазухой. Он побоялся где-либо спрятать их.
И этот футлярец, и эта записочка все более тревожили Кудаева, как будто жгли его грудь, как будто царапали там.
«Точно ворованное там спрятал», – думалось ему.
И вспомнил он, как однажды, еще в деревне, он поймал и спрятал за пазуху белку, которая в кровь расцарапала ему всю грудь. Теперь писуля и посылка фельдмаршала, арестованного на дому по государственным причинам, царапали и жгли Кудаева много пуще той белки.
XX
На другой день рядовой хотел бежать к госпоже Минк чуть свет, но, подумав, обождал. В девять часов утра он был уже, однако, на подъезде Зимнего дворца.
Камер-юнгфера при объяснении Кудаева всего с ним происшедшаго, а затем данного ему поручения нисколько не удивилась. Кудаев удивился и глаза вытаращил на барыню.
– Где же все? – выговорила она просто.
– Вот-с.
И Кудаев полез за пазуху, достал записку, достал футляр и передал тучной женщине.
«Хоть бы тебе капельку удивилась», – думал он.
Госпожа Минк прочла то, что было написано на посылке, и улыбнулась. Затем распечатала и стала читать письмо, которое оказалось длинным. Четыре небольших страницы были исписаны мелким почерком.
Но камер-юнгфера читала быстро, изредка ухмылялась самодовольно, качала головой.
Затем, прочитав, она развернула бумагу на футляре, вынула, отворила его и ахнула. Кудаев ахнул еще пуще.
Три вещи сверкнули оттуда и засияли на всю горницу. Брошка и две серьги из крупных брильянтов.
Камер-юнгфера не выдержала и промычала на всю горницу какой-то ей одной свойственный звук вроде: «мэ-э-э!»
Она была не столько изумлена, сколько озабочена, сидела, глядя на брильянты, в глубокой задумчивости, наконец вздохнула и произнесла что-то по-немецки.
Кудаев, начинавший уже вследствие сношений с ней и с невестой чуть-чуть понимать по-немецки, понял только одно слово: «мудрено».
В эту минуту раздались шаги в корридоре около дверей, и госпожа Минк быстро защелкнула футляр и сунула его в карман.
В горницу вошла Мальхен, как всегда, веселая, подпрыгнула, увидя Кудаева, но, обернувшись к тетке, заметила незаурядное выражение ее лица.
– Что такое? – спросила она по-немецки.
– Ничего, так, – отозвалась Стефанида Адальбертовна и, обернувшись к рядовому, произнесла строго:
– Слюшай, господина золдат, не надо ни едина слов никому про это говаривает.
И она похлопала по своему карману, где был спрятан футляр.
– Никому ни слов. А то я, ви и он, важный особи, все три под кнут попадаваит и все до шмерти посековаются… Слюшает? Понимайт? До шмерти!
Несмотря на серьезный голос и серьезное лицо госпожи Минк, Кудаев невольно улыбнулся при слове «шмерть».
– Не смешно ничего, – рассердилась камер-юнгфера. – Никому ни слова.
И она быстро заговорила что-то по-немецки, обращаясь к Мальхен.
Девушка сразу стала серьезна и обратилась к Кудаеву с переводом слышанного от тетушки.
– Тетушка приказывает вам никому во всей столице на сказывать о том, что вы ей сейчас принесли. Она говорит, что иначе и вы, и она, и тот генерал, который вас прислал, можете очутиться в Тайной канцелярии, а после пристрастия и пытки попасть в ссылку.
Мальхен, передавая это, была настолько встревожена, что фигура ее всего более подействовала на рядового. Он только теперь совершенно серьезно отнесся ко всему приключению, в которое попал волей-неволей.
– Избави Бог, – выговорил он с чувством. – И тот мне говорил, никому не сказывать.
– И ей не надо сказывайт, – прибавила камер-юнгфера, показывая на Мальхен. – Она девиц, она болтун.
– Не надо, не надо, замахала руками и Мальхен. – Я не хочу. Я боюсь секретов. Их мудрено в голове держать.
Кудаев, по любезному приглашению госпожи Минк, остался обедать. Сама она тотчас же вышла из горницы и молодежь осталась наедине, что случалось нечасто.
Мальхен, разумеется, воспользовалась случаем, чтобы тотчас же повиснуть на шее своего возлюбленного и целовать его.
– Скоро ли, Господи, все это кончится? – заговорила она.
И девушка-егоза, как всегда бывало наедине с женихом, то жаловалась и пищала, то хихикала, то принималась хныкать, а затем опять хохотала или начинала петь.
Кудаев пробыл во дворце довольно долго, обедал и после обеда просидел еще около часу.
За все это время его удивляла камер-юнгфера. Перед обедом она вернулась в горницы сияющая, довольная и весело болтала. Затем во время обеда она встала, потому что кто-то вызвал ее к себе, и когда она опять вернулась, то лицо ее было не только раздосадовано, но даже злобно. Она не стала есть, отшвырнула от себя ложку, сердито мяла салфетку в руках и поднялась из-за стола темнее ночи.
Но затем она снова исчезла из своей горницы, а когда возвратилась, то Кудаев рот разинул. Опять сияла госпожа Минк! Толстое лицо ее расплылось в большущую улыбку. Маленькие серые масляные глазки прыгали от радости.
«Вот сейчас ей клад подарили», – подумал Кудаев.
Госпожа камер-юнгфера была настолько довольна и весела, что, когда речь зашла о танцах, она встала и показала своей племяннице, как в молодости в одном голландском танце делали вторую фигуру.
Толстая камер-юнгфера, подняв свои здоровенные, как бревна, руки над головой, медленно закружилась по комнате, тихо покачиваясь и поворачиваясь.
Доски пола жалобно заныли и заскрипели. Кудаев не выдержал и фыркнул.
Госпожа Минк была слишком в духе, чтобы рассердиться на молодого человека. Она только погрозила ему пальцем.
Выйдя из дворца, Кудаев задумчиво пошел в казармы, рассуждая по дороге: «Вот так приключение! Фельдмаршал дарит госпожу Минк. Да как дарит-то? Ведь эти украшеньица каких денег должны стоить? На них можно имение купить. Что все это означает?»
Когда Стефанида Адальбертовна осталась одна с племянницей, она вынула из комода футляр и открыла его под самым носом девушки.
– Ох!! – вскрикнула Мальхен и начала от восторга визжать, как собачонка.
– Это тебе, mein Liebchen[34]34
Моя любовь (нем.).
[Закрыть], пойдет! – сказала Минк. Под венец поедешь с этими вещами.
– Какое диво! Какое диво! – восклицала Мальхен то по-русски, то по-немецки.
– Это, наверно, тысячу рублей стоит! Я уже посылала оценивать к придворному ювелиру. Только… Мудрено, Мальхен, очень мудрено…
– Что мудрено? – спросила девушка.
– За это надо отплатить…. А мудрено! – вздохнула камер-юнгфера. – Пока ладится, не знаю, что дальше будет.
XXI
Был уже конец Великого поста, когда два дела, о которых много хлопотала Стефанида Адальбертовна, пришли к желанному концу – осуждение капитана Калачова и московского купца Егунова, а вместе с тем объявление о замужестве Мальхен и ее помолвка.
Перед Страстной неделей Андрей Иванович Ушаков доложил дело о подсудимых ее высочеству правительнице. По резолюции Анны Леопольдовны, капитан Калачов был лишен всех прав состояния. У него была «отобрана шпага с портупеей», а затем он был назначен в ссылку в Камчатку.
Купец Егунов тоже был назначен в ссылку в Сибирь, в город Кузнецк, «на житье вечно».
В один день с ними, точно такая же резолюция последовала относительно рядового из дворян, преображенского солдата Елагина. Хотя его дело рассматривалось отдельно, но преступление Елагина было почти одинаково с преступлением Калачова. Его наказывали ссылкой тоже за «противные речи».
Той же резолюцией правительницы рядовой Преображенского полка Василий Кудаев «за верность присяге и правый донос» был «написан» в капралы в тот же полк и, по распоряжению Ушакова, награжден пятьюдесятью рублями.
Но помимо этого вознаграждения от правительницы и от Тайной канцелярии капрал Кудаев воспользовался гораздо большим.
Это второе предприятие камер-юнгферы было, собственно говоря, главным. Дело касалось имущества, конфискованного у капитана Калачова. Камер-юнгфера выбивалась из сил, хлопоча, чтобы оставшееся после граждански умершего капитана состояние досталось нареченному ее племянницы.
Наследовать Кудаеву от капитана оказалось гораздо мудренее, нежели думала госпожа Минк. Оказалось, что Кудаев окончательно ничем не мог доказать свое родство с осужденным.
Стефанида Адальбертовна, узнав это от господина Шмеца, была в течении нескольких дней в совершенной ярости. Гнев душил ее, она не могла совершенно объясняться хотя бы даже ломаным русским языком.
Она звала на помощь переводчицей Мальхен, засыпала Кудаева вопросами, бранилась, называла его самыми обидными словами и заставляла его невесту неукоснительно и верно переводить ее ругательства на русский язык.
Дело дошло до того, что однажды Мальхен, переводя с немецкого на русский целые десятки бранных слов, расплакалась и с ней сделался истерический припадок.
Камер-юнгфера, между прочим, называла Кудаева плутом и мошенником, говорила, что он хотел их обмануть, раскаивалась в том, что просила об обвинении капитана Калачова, ибо, если бы она знала, что Кудаев ему не родня и наследовать не может, то никогда не начала бы дела.
Наконец, госпожа Минк однажды приказала племяннице перевести Кудаеву, что она будет просить правительницу приказать начать дело сначала и за противные речи, которые велись тремя лицами в квартире Калачова, судив, обвинять и сослать не купца с капитаном, а его самого, преображенца.
Кудаев клялся, что он дальний родственник Калачову, что он не лгал, утверждая это. При этом он клялся, что Калачов сам обещал ему оставить со временем все состояние, конечно, по завещанию.
– Все это дичь! – воскликнула госпожа Минк. – Все это болтовня, вранье. Он мошенничал, нас обманывал. Теперь какой же толк выйдет из того, что капитана сошлют? Наследует не он, а какой-нибудь другой родственник или отпишут все в казну. Переведи, Мальхен. Переведи плуту…
Однако, несмотря на ежедневные сцены, которые делала камер-юнгфера молодому человеку, заставляя Мальхен быть правдивой переводчицей, одновременно она все-таки с помощью родственника Шмеца продолжала энергично хлопотать по делу наследства.
Однажды Мальхен передала жениху по секрету, что тетушка ее до того расходилась, что объявила фрейлине Иулиане Менгден свое условие: если дело не удастся, то она попросит отставку из штата правительницы и уедет в Курляндию.
– Вона как! – удивился Кудаев. – Да нешто можно так грозить? Ну и скажут ей: уезжай! Прогонятъ! А то еще хуже. Рассердится правительница да сошлет куда…
Но Мальхен замахала руками.
– Ах, какой ты! Ничего ты, глупый, не понимаешь. Разве можно тетушку отпустить? Ни Менгден, ни правительница никогда на это не решатся. Они без нее пропали.
– Почему это? – изумился капрал.
– Да уж так, верно я тебе сказываю. Об этом мне строжайше запрещено болтать. Вот выйду замуж за тебя, все тебе расскажу, а теперь не могу.
И, действительно, камер-юнгфера добилась своего.
Капрал Кудаев законным образом вступил во владение имуществом граждански умершего дяди.
Когда дело это огласилось и многие узнали, что Кудаев делается домовладельцем на Петербургской стороне, то некоторые лица во дворце стали обходиться с ним гораздо вежливее и предупредительнее.
Конечно, не размер состояния, не богатство играли тут роль. Эти лица понимали, что если капрал мог, вопреки всяких законов, получить себе отписанное у осужденного имущество, то, стало быть, он – любимец не только камер-юнгферы, но, может быть, и самой правительницы.
В полку то же самое дело произвело иное впечатление. От Кудаева стали сторониться как офицеры, так и рядовые из дворян. Несколько раз за спиной он слышал слово «Искариот».
Наконец однажды капрал Новоклюев, встретив Кудаева в казармах, остановил его словами:
– Что, иуда, не затеваешь ли опять новый какой донос? На какую тетушку или бабушку?
Кудаев взглянул на капрала и увидал, что тот был сильно пьян, с красным лицом и пошатывался на ногах.
– Я не предавал никого, – заговорил Кудаев едва слышно. – Меня к тому другие толкнули.
– Чёрт толкнул! Да ведь и Иуду Искариота на нашего Господа сатана толкал. Ах ты! И подлое дело сделал, дядю-старика сгубил, да и глупое дело. Нюху у тебя нет, собачье твое рыло. Нашел, вишь, вины какие! Цесаревну тот возлюбил! В Сенат хотел бежать, об ней рапортовать! А ты доносчик!
Новоклюев все сильнее покачивался на ногах и бормотал, изредка вскрикивая, очевидно, сам не вполне сознавая, что болтает.
Кудаев хотел уйти от пьянаго, но капрал бросился за ним, сильной рукой ухватил его за плечо и закричал на всю казарму.
– Не смей, слушай свою отповедь. Что хочу, то и буду говорить, а ты стой, ухи держи и слушай. Ты, вишь, на цесаревну умышляешь, на нашу матушку доносишь, на тех, кто ее возлюбил. На немках жениться хочешь! Немецких ребят в России разводить! Ах ты, собака-пес! Да знаешь ли ты, – орал Новоклюев, – что я тебя за матушку нашу, Елизавету Петровну, разнесу на сто частей. За куму Бог велит заступаться, коли ее кто обидел. А она у меня моего Андрюшку крестила, сама своими царскими ручками вокруг купели его носила. Понимаешь ли ты, собака-пес, какое ты дело сотворил? Ты лучше не ходи к нам в казармы, мы тебя тут ухлопаем. Иуда! Вишь, что свахлял. Расстрел бы тебе! Иуда! Матушка-Москва велит.
Кудаев давно бы ушел, но он стоял и слушал, выпуча глаза на Новоклюева и почти не веря своим ушам.
– Что ты, что ты! Спьяну, что ли? – выговорил он. – Давно ли ты мне сказывал совсем не такое? Сказывал, что кто считает Елизавету Петровну законной дочерью первого императора, так тот изменник присяге. А теперь что ты болтаешь? У тебя спьяну все мысли кверху ногами стали.
– Мало ли, что было, да прошло. Сам ты пьян родился, коли ничего не знаешь. Собака ты, пес, а нюху собачьего у тебя нет. Коли я когда и сказывал, что супротив нашей матушки-цесаревны, так, стало быть, я скотина был, свинья непонятная. Да мало ли что сказывалось? Ныне совсем другое потрафляется. Невесту-свинятину себе раздобыл да поросят разводить в России…
Кудаев вдруг взбесился и крикнул, подступая к капралу:
– А что, если я сейчас, прямехонько пойду к господину Шмецу, да ему все твои речи расскажу, пером на бумаге, что с тобой будет? Пьяная стелька!
– Иди! Ступай! Пойдем вместе! – отчаянно орал Новоклюев и, ухватив Кудаева поперек тела, он стал тащить его к двери.
– Пойдем, что же упираешься? Я рад пострадать за матушку-царевну. Не успеют меня в канцелярии отсудить, как их всех, судей-то самих, в Сибирь ушлет императрица.
– Что? Что? – повторял Кудаев, изумляясь.
Бог весть чем бы окончилась эта ссора между двумя капралами, если бы в эту минуту не появился, как из-под земли, офицер Грюнштейн.
Он уже несколько мгновений стоял за приотворенной дверью и слушал все, что орал Новоклюев. В ту минуту, когда капрал потащил Кудаева к дверям, Грюнштейн вышел, разнял их и крикнул на пьяного капрала:
– Цыц, сорока! Спьяну сорочишь непристойные речи, а этот уже по присяге подвел одного. Долго ли ему тебя погубить.
– Я про то сказываю… – начал Новоклюев тише.
– Молчать! Ни единого слова не смей говорить! – крикнул Грюнштейн. – Вытряси хмель из головы. Дурень! Ну а ты, – обернулся он к Кудаеву, – делай как знаешь. Хочешь его губить за его пьяные речи – губи. Но коли ты человек честный и сердечный, то должен разуметь, что это все Новоклюев врал с пьяных глаз. Воистину цесаревна крестила у него, как и у многих других преображенцев. Так нешто из этого что следует?
– Как «что следует»? Вестимо дело… – начал Новоклюев.
– Пошел ты спать! – прикрикнул Грюнштейн.
– Коли она моя кума…
– Пошел спать… Ну… Идешь, что ли?..
Новоклюев не повиновался и снова хотел что-то говорить.
– Пишкни! – воскликнул Грюнштейн. – Коли еще слово прибавишь, то я на тебя особый запрет положу. Иди спать. Матушку-Москву знаешь, – странным голосом вдруг произнес Грюнштейн, приближаясь к Новоклюеву и глядя пристально в его полуоткрытые пьяные глаза. – Ну, Матушка-Москва! Ступай спать.
И, к удивлению Кудаева, Новоклюев покорно, ни слова не ответив, но сильно пошатываясь, вышел из горницы.
– Ну а ты, господин новый капрал, будь добрый человек, – заговорил Грюнштейн, – не губи товарища за пьяные речи. У нас один, Елагин, уж пропал так. Мало ли чего нагородил тут этот шалый дурень. Проспится, сам не поверит. Нешто у цесаревны могут быть какие приверженные? Есть у нас законная правительница и законный император, которому мы все присягали. Они истинные правители, государи Российской империи. А вестимое дело, есть малоумные люди, которые так же, как твой капитан, болтают всякие непристойные речи, выдумывают небылицы в лицах и сказывают, к примеру, что Елизавета Петровна должна бы царствовать. Все это, голубчик мой, сущий вздор. Ты человек умный, сам рассудить можешь. Проспится Новоклюев, сам, говорю, не поверит, что тут наболтал. Ну так как же, станешь ты его губитъ? – спросил Грюнштейн.
– Нет, что вы! Зачем? Я ведь ничего. Он меня остановил и начал поносить, и меня, и невесту…
– Так не пойдешь ты донос делать?
– Что вы, Бог с вами…
– Ну, спасибо, воздаст тебе Господь сторицей. За что человека губить. Пьяный ведь он.
– Вестимо, ведь и я вижу, что пьян. Хоть сказывают, что у пьяного на уме, то и на языке, – усмехаясь, прибавил Кудаев.
– Нет, прости, неправильна эта пословица. Бывает, что у пьяного на языке такое, чего в голове и не бывало никогда. За что ж его губить.
– Да я и не собирался.
– Ну, то-то вот, спасибо, – произнес Грюнштейн и, простясь, он быстро отправился в караульню, из которой пришел.
Кудаев, однако, долго думал о случившемся. В нем было убеждение, что пьяный Новоклюев высказался откровенно. Стало быть, в капрале произошла быстрая перемена. Давно ли он говорил Кудаеву совершенно противоположное?









































