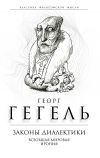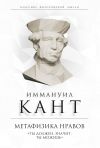Текст книги "Категорический императив и всеобщая мировая ирония"
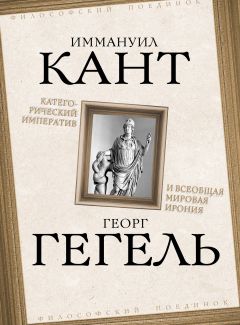
Автор книги: Фридрих Гегель
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Дружба (рассматриваемая в ее совершенстве) – это союз двух людей, основанный на взаимной любви и уважении. – Нетрудно заметить, что она идеал участливости и заинтересованности (Mitteilung) в благе каждого из двух, объединенных морально-доброй волей, и если это и не создаст всего счастья в жизни, то все же принятие счастья в образ мыслей обоих содержит в себе достойность быть счастливым, и, стало быть, дружба между людьми есть их долг. – Но легко также заметить, что дружба – это чистая (однако практически необходимая) идея, которая хотя и недостижима на практике, но стремиться к которой (к максимуму добрых намерений по отношению друг к другу) есть заданный разумом, быть может, не обычный, но почетный долг. В самом деле, может ли человек в отношениях со своими ближними найти равенство между одной из требующихся здесь частей одного и того же долга (например, взаимного благоволения) в одном из них и тем же образом мыслей у другого, а тем более определить, каково у одного и того же человека соотношение чувства, связанного с одним долгом, и чувства, связанного с другим (например, соотношение чувства, связанного с благоволением, и чувства, связанного с уважением), и не теряет ли один чего-то в уважении со стороны другого именно оттого, что он более пылок в любви, так что обоюдная любовь и глубокое уважение субъективно вряд ли приходят в полное равновесие, а ведь именно такое равновесие требуется для дружбы? – В самом деле, любовь можно рассматривать как притяжение, а уважение – как отталкивание, и если принцип любви предписывает сближение, то принцип уважения требует, чтобы обе [стороны] держались на почтительном отдалении друг от друга; это ограничение доверчивости, выраженное правилом: «Даже лучшие друзья не должны допускать бесцеремонной фамильярности», содержит максиму, которая действительна не только для вышестоящего по отношению к нижестоящему, но и наоборот; ведь вышестоящий, как только допускается такая фамильярность, чувствует, что его гордость задета, и ему хочется, пусть на мгновение, умалить уважение к нижестоящему, хотя и не лишить его этого уважения совсем; но однажды нарушенное уважение внутренне безвозвратно утрачивается, хотя бы внешние его проявления (церемониал) и восстановились.
Дружба в своей чистоте или совершенстве, представленная как нечто достижимое (например, дружба Ореста и Пилада, Тесея и Пирифоя), – это конек сочинителей романов. Аристотель же говорит: «Милые мои друзья, никаких друзей нет!» Последующими замечаниями я хочу обратить внимание на трудности дружбы.
С моральной точки зрения, конечно, долг – обращать внимание друга на его ошибки; ведь это делается для его же блага, и, следовательно, это долг любви. Но друг усматривает в этом отсутствие уважения, которого он ожидал от первого, а именно он считает, что уже упал в его глазах или же, поскольку его друг наблюдает за ним и втайне подвергает его критике, постоянно существует опасность потери им уважения; уже одно то, что за ним наблюдают и его поучают, кажется ему обидным.
Иметь друга, когда ты в беде, – что может быть более желательным? Разумеется, если он друг деятельный, готовый помочь собственными средствами! Однако чувствовать себя связанным с чужой судьбой и обремененным чужими нуждами – тяжкий груз. – Следовательно, дружба не может быть союзом, имеющим своей целью взаимную выгоду; этот союз должен быть чисто моральным, и поддержка со стороны другого, на которую каждый из двух друзей вправе рассчитывать в случае нужды, должна мыслиться не как цель и определяющее основание этой дружбы – в таком случае одна сторона теряла бы уважение другой, – а лишь как внешний признак глубокого душевного благоволения, которое не следует, однако, подвергать испытанию, всегда таящему в себе опасность; при этом каждый из двух друзей намеревается великодушно избавить другого от этого бремени, вынести все самому и даже проделать это в полной тайне, но в то же время он тешит себя надеждой, что в случае нужды он может наверняка рассчитывать на поддержку своего друга. Если же один принимает благодеяние другого, то он может, правда, рассчитывать на равенство в любви, но не [может рассчитывать на равенство] в уважении, ибо он ясно видит, что он стоит ступенькой ниже, что у него есть обязательство, но со своей стороны не может наложить обязательство на другого. При всей сладостности ощущения взаимного обладания, близкого к полному слиянию [двух людей] воедино, дружба вместе с тем есть нечто столь тонкое (teneritas amicitiae), что если ее основывают только на чувствах и не кладут в основу этой взаимной доверчивости и преданности [определенные] принципы и твердые правила, предохраняющие ее от бесцеремонной фамильярности и ограничивающие взаимную любовь требованиями уважения, то она никогда не гарантирована от временных ссор; подобные ссоры обычны среди некультурных людей, хотя именно поэтому они не всегда приводят к полному разрыву (ибо чернь легко ссорится и легко мирится); они не могут обойтись друг без друга, но между ними не может быть и единства, потому что сама ссора для них потребность, дабы ощущать сладость согласия после примирения. – При всех условиях, однако, любовь в дружбе не может быть аффектом, ибо аффект слеп в выборе и быстро проходит.
Моральная дружба (в отличие от эстетической) – это полное доверие между двумя людьми в раскрытии друг перед другом своих тайных мыслей и переживаний, насколько это возможно при соблюдении взаимного уважения.
Человек – существо, предназначенное для общества (хотя и необщительное), и в развитом общественном состоянии он чувствует сильную потребность делиться с другими (даже без особой цели); но с другой стороны, ограничивая и предостерегая себя из страха перед употреблением во зло другими его откровенности, он вынужден значительную часть своих суждений (особенно о других) скрывать. Он охотно поговорил бы с кем-нибудь о том, что́ он думает о людях, с которыми общается, о правительстве, религии и т. д.; но он не может отважиться на это отчасти потому, что другой, сам тщательно скрывающий свое мнение, может употребить это ему во зло; отчасти потому, что если он чистосердечно признается в своих ошибках, а другой умолчит о своих, то он может потерять его уважение.
Итак, если он встречает умного человека, со стороны которого ему не нужно опасаться указанного злоупотребления и с которым он может быть совершенно откровенен, да к тому же у этого человека такие же, как у него, суждения о вещах, то он может спокойно делиться своими мыслями; тогда он не будет наедине со своими мыслями, как если бы он находился в заключении, и он пользуется свободой, недостающей ему в толпе людей, среди которых он должен замыкаться в себе. Каждый человек имеет секреты и не должен слепо доверяться другим отчасти из-за неблагородного образа мыслей большинства людей, которые могут использовать эти секреты ему во вред, отчасти из-за неразумия некоторых в оценке и различении того, что можно повторять, а что нет (из-за болтливости); все перечисленные свойства вместе редко встречаются в одном субъекте (гага avis in terris, nigroque simillima cygno), тем более что самая тесная дружба требует, чтобы такой умный и искренний друг вместе с тем был бы обязан точно так же не сообщать никому другому доверенного ему секрета – даже если этот другой считается человеком столь же надежным – без прямого на то разрешения.
Такая (чисто моральная) дружба не есть идеал; она ([как] черный лебедь) время от времени действительно появляется и существует в своем совершенстве; но дружба, которая обременяет себя, хотя бы из любви, целями других людей (прагматическая дружба), не может обладать ни чистотой, ни желательным совершенством, необходимым для точно определяющей максимы; она есть идеал желания, который не имеет границ в понятии разума, но все же должен всегда быть очень ограничен в опыте.
Человеколюбец (Menschenfreund) вообще (т. е. друг всего рода человеческого) – это тот, кто принимает эстетическое участие в благе всех людей (радуется за ближних) и никогда без внутреннего сожаления не может его нарушить. Но выражение друг человека (Freund des Menschen) имеет все же несколько более узкое значение, чем выражение любящий людей (филантроп). В самом деле, в первом содержится также представление и принятие в соображение равенства между людьми и, стало быть, идея собственного обязательства, в случае когда ты обязываешь других своим благодеянием, как если бы все были братьями, детьми одного отца, желающего всем им счастья. – Ведь отношение покровителя как благотворителя к покровительствуемому как к человеку, обязанному ему благодарностью, есть, правда, отношение взаимной любви, но не есть отношение дружбы, так как вытекающее из обязанности уважение этих двоих друг к другу не одинаково. Долг – благоволить к людям в качестве друга (необходимое снисхождение), и принятие [всего, что их касается], близко к сердцу служит для того, чтобы предохранить себя от гордости, обычно овладевающей теми счастливцами, которые имеют возможность благотворить.
О добродетелях обхожденияДолг перед самим собой, равно как и перед другими, – воздействовать друг на друга своими нравственными качествами (officium commercii, sociabilitas); не обособляться (seperatistam agere) от других; хотя и делать себя неподвижным центром своих принципов, но рассматривать этот начертанный круг лишь как часть всеобъемлющего круга образа мыслей гражданина мира не для того, чтобы пеклись о жизненных благах как о цели, а лишь для того, чтобы культивировали средства, косвенно ведущие к ним: приятность в обществе, терпимость, взаимную любовь и уважение (приветливость и благопристойность, humanitas aesthetica et decorum), и таким образом приобщали грации к добродетели; осуществление этого само есть долг добродетели.
Правда, это только внешние или сопутствующие вещи (parerga), создающие видимость добродетели, которая, однако, не обманывает, так как каждый знает, за что он должен ее принимать. И хотя это только разменная монета, однако она поощряет само чувство добродетели благодаря стремлению как можно больше приблизить эту видимость к истине, проявляя доступность, словоохотливость, вежливость, гостеприимство, мягкость (в споре, который не доводится до ссоры), – одним словом, [проявляя] все это как манеру общения с выражением обязательностей, которыми обязывают также других, следовательно, [манеру], которая содействует добродетельному образу мыслей, делая добродетель, по меньшей мере, предметом любви.
Но здесь возникает вопрос: допустимо ли также общение с людьми порочными? Встреч с ними нельзя избежать, для этого нужно было бы бежать от общества; а в сущности, наше суждение о них некомпетентно. – Но там, где порок превращается в скандал, т. е. становится публично подаваемым примером пренебрежения строгими законами долга и, стало быть, влечет за собой бесчестность, там, хотя по закону страны это ненаказуемо, следует прерывать бывшее до этого общение или, по возможности, избегать его, так как продолжение такого общения лишает добродетель всякой чести и делает ее товаром, купить который может всякий, кто достаточно богат, чтобы соблазнить прихлебателя наслаждениями роскоши.
Моральный катехизисПервый и самый необходимый доктринальный инструмент учения о добродетели для еще не искушенного воспитанника – это моральный катехизис. Он должен предшествовать религиозному катехизису и не может быть просто включен в качестве вставки в вероучение, а должен излагаться отдельно как самостоятельное целое; ведь перейти от учения о добродетели к религии можно только через чисто моральные основоположения, так как в противном случае религиозные убеждения не были бы чистыми. – Вот почему именно самые достойные и великие богословы не решались составлять катехизис для статутарного вероучения, а также отстаивать его; надо полагать, что это было бы наименьшее из того, чего мы вправе были бы ожидать от огромной сокровищницы их учености.
Моральный же катехизис как основное учение об обязанностях добродетели не вызывает таких сомнений или затруднений, потому что его можно объяснить (его содержание) из обыденного человеческого рассудка и привести лишь в соответствие (его форму) с дидактическими правилами первого наставления. Формальный принцип такого обучения не допускает, однако, с этой целью сократически-диалогического метода преподавания, потому что ученик даже не знает, как ставить вопросы; следовательно, только учитель задает вопросы. Ответ же, который он методически извлекает из разума ученика, должен быть дан и запоминаться в определенных, нелегко поддающихся замене выражениях, и, стало быть, ответ должен быть доверен памяти ученика; именно этим катехизический метод обучения отличается от догматического (когда говорит один учитель), а также от диалогического (когда обе стороны спрашивают и отвечают).
Экспериментальным (техническим) средством воспитания добродетели служит хороший пример самого учителя (поведение его должно быть образцовым) и предостерегающий пример других; ибо подражание для человека еще не воспитанного есть первое определение воли к принятию максим, которые он в дальнейшем делает для себя [руководящими]. Приучение или отучение – это утверждение постоянной склонности без всякой максимы посредством частого удовлетворения этой склонности и [вместе с тем] механизм образа чувствования, заменяющий принцип образа мыслей (причем разучиться со временем становится гораздо труднее, чем научиться). – Что же касается силы примера (доброго или злого), который дается склонности для подражания или предостережения, то примеры, подаваемые нам другими, не утверждают никаких максим добродетели. В самом деле, максима добродетели заключается как раз в субъективной автономии практического разума каждого человека, стало быть, мотивом для нас должно служить не поведение других людей, а закон. Поэтому воспитатель никогда не скажет своему провинившемуся ученику: «Бери пример с такого-то и такого-то хорошего (аккуратного, прилежного) мальчика!», так как это лишь послужит причиной ненависти ученика к этому мальчику, поскольку из-за него он был выставлен в невыгодном свете. Хороший пример (примерное поведение) должен служить не образцом, а лишь доказательством исполнимости того, что сообразно с долгом. Итак, не сравнение с каким-то другим человеком (какой он есть), а сравнение с идеей (человечества), каким должен быть человек, следовательно, сравнение с законом должно служить учителю имеющимся всегда в наличии мерилом воспитания.
Примечание. Отрывки морального катехизиса
Учитель вопрошает у разума своего ученика то, чему он хочет его научить, и, когда тот не может ответить на вопрос, он подсказывает ученику ответ (руководя его разумом).
1. Учитель. Каково твое самое большое, собственно говоря, все твое стремление в жизни?
Ученик (молчит).
Учитель. Чтобы все и всегда было по твоему желанию и по твоей воле.
2. Учитель. Как называют такое состояние?
Ученик (молчит).
Учитель. Такое состояние называется счастьем (постоянное преуспеяние, приятная жизнь, полная удовлетворенность своим состоянием).
3. Учитель. Итак, если бы ты обладал всем (возможным в мире) счастьем, ты удержал бы его для себя или поделился бы со своими ближними?
Ученик. Я бы поделился им, чтобы сделать и других счастливыми и довольными.
4. Учитель. Это показывает, что у тебя довольно доброе сердце; но покажи, правилен ли также и твой рассудок. – Станешь ли ты давать лентяю мягкие подушки, чтобы он проводил жизнь в сладостном ничегонеделании, или обеспечивать пьяницу вином и прочими средствами опьянения, придавать лжецу приятный облик и манеры, чтобы он тем легче мог провести других, или же насильнику – храбрость и силу, дабы одолеть других? Ведь все это средства, которых желает каждый, чтобы быть счастливым на свой лад.
Ученик. Нет, этого я не стану делать.
5. Учитель. Итак, ты видишь, что, если бы у тебя и было все счастье и к тому же самая добрая воля, ты все-таки не должен был бы без рассуждения наградить этим счастьем каждого, кто протягивает к нему руку, а должен был сначала исследовать, насколько каждый достоин счастья. – Однако что касается тебя самого, то здесь ты, видимо, без колебаний представишь себе все то, что ты причисляешь к своему счастью?
Ученик. Да.
Учитель. Но разве тебе при этом не придет в голову вопрос: а достоин ли ты сам счастья?
Ученик. Безусловно.
Учитель. То, что́ в тебе стремится к счастью, есть склонность, а то, что́ ограничивает твою склонность условием быть раньше достойным этого счастья, – это твой разум. А то, что ты своим разумом можешь ограничить и преодолеть свою склонность, – это свобода твоей воли.
6. Учитель. Правила и указания, как поступать, чтобы иметь долю в счастье и в то же время не оказаться недостойным его, имеются исключительно в твоем разуме; это означает: тебе нет необходимости познавать такие правила поведения из опыта или из наставлений других людей; твой собственный разум и повелевает тебе как раз то, что ты должен делать.
Например, что́ посоветует тебе твой разум в случае, когда с помощью тонко придуманной лжи ты можешь добиться большой выгоды для себя или для своих друзей и при этом не причинить вреда никому другому?
Ученик. Я не должен лгать, как бы ни была велика выгода для меня и моего друга. Лгать – это подло, ложь делает человека недостойным счастья. – Здесь содержится безусловное принуждение повелевающего (или запрещающего) разума, которому я должен повиноваться, перед этим велением (или запретом) должны умолкнуть все мои склонности.
Учитель. Как называют эту необходимость, непосредственно налагаемую на человека разумом, поступать сообразно с законом разума?
Ученик. Она называется долгом.
Учитель. Следовательно, для человека соблюдение своего долга – это всеобщее и единственное условие достойности быть счастливым, а эта достойность есть то же самое, что соблюдение долга.
7. Учитель. Когда мы сознаем подобную добрую и деятельную волю, благодаря которой мы считаем себя достойными (или, по крайней мере, не недостойными) быть счастливыми, можем ли мы основывать на этом твердую надежду на то, что будем иметь долю в счастье?
Ученик. Нет! Только на этом, нет; ведь не всегда в наших возможностях доставить себе это счастье, и естественный ход вещей сам собой не сообразуется с заслугой, счастье в жизни (и наше благо вообще) зависит от обстоятельств, которые далеко не все во власти человека. Так что счастье всегда остается лишь нашим желанием, которое без вмешательства какой-то посторонней силы никогда не сможет стать надеждой.
8. Учитель. Имеет ли разум сам по себе основания допустить существование такой силы, распределяющей счастье людей по заслугам, повелевающей всей природой и с величайшей мудростью правящей миром, иначе говоря, есть ли у разума основания верить в Бога?
Ученик. Да; ибо мы видим в творениях природы, о которых мы можем иметь суждение, необычайно глубокую мудрость, которую мы можем объяснить себе не иначе, как невыразимо великим искусством Творца мира, от которого мы имеем все основания ожидать также и в моральном устроении, в котором, собственно, заключается величайшее украшение мира, не менее мудрого управления, а именно если мы сами не сделаем себя недостойными счастья – а это происходит, когда мы нарушаем свой долг, – то можем также надеяться, что это счастье выпадет на нашу долю.
* * *
В этом катехизисе, который должен быть проведен по всем пунктам добродетели и порока, следует обратить сугубое внимание на то, чтобы веление долга основывалось не на вытекающих из соблюдения долга выгодах или невыгодах для человека, которого это веление должно обязать, и даже не для других, а на совершенно чистом нравственном принципе; выгодам же или невыгодам следует уделять лишь небольшое внимание как дополнению, которое само по себе, правда, излишне, но представляет собой уступку вкусам людей слабых по природе, служа своего рода стимулом. Следует неизменно подчеркивать мерзость (Schändlichkeit), а не вредность (Schädlichkeit) порока (для самого виновника). Ведь если не ставить превыше всего достоинство добродетели в поступках, то исчезает само понятие долга, растворяясь в чисто прагматических предписаниях; в таком случае благородство исчезает в самом сознании человека, он становится продажным и позволяет подкупить себя совращающим склонностям.
После того как все это мудро и точно раскрыто собственным разумом человека сообразно с различными ступенями возраста, пола и положения, которые человек последовательно занимает, остается еще что-то, что должно завершить все это, что глубоко трогает душу и ставит человека на такую высоту, где он может рассматривать самого себя не иначе, как с величайшим восхищением изначально присущими ему задатками, причем это впечатление никогда не изглаживается. – А именно когда под конец его воспитания ему в обобщенном виде еще раз перечисляют по порядку его обязанности и при перечислении каждой из них обращают его внимание на то, что, какие бы беды, несчастья и страдания у него ни были в жизни, какая бы угроза, даже угроза смерти, ни нависала над ним из-за того, что он исполняет свой долг, они не могут отнять у него сознания того, что он стоит выше их, что он хозяин положения, – тогда он будет близок к вопросу: что же это такое в тебе, что отваживается вступить в борьбу со всеми имеющимися в тебе и вокруг тебя силами природы и одолеть их, когда они сталкиваются с твоими нравственными принципами? Когда этот вопрос, разрешение которого, несомненно, превышает возможности спекулятивного разума и который тем не менее возникает сам собой, проникает в сердце, то даже непостижимость при таком самопознании должна возвышать душу, что воодушевляет на соблюдение своего долга как чего-то святого тем сильнее, чем больше возникает препятствий.
При таком катехизическом моральном наставлении было бы очень полезно для нравственного воспитания ставить при каждом анализе долга некоторые казуистические вопросы, заставляя собравшихся детей испытать свой разум, [посмотреть], как каждый из них предполагает разрешить предложенную ему замысловатую задачу. – И не потому только, что это наиболее соответствующая способности неразвитого человека культура разума (так как в вопросах о том, что есть долг, разум может принять решение гораздо легче, чем в спекулятивных проблемах) и, значит, самый подходящий способ оттачивать ум молодого человека, но главным образом потому, что в природе человека заложена любовь к тому, что он может поставить (равно как и разработку этого предмета) на научную почву (а он теперь уже сведущ в этой науке), и ученик с помощью подобных упражнений незаметно приобщается к интересу нравственности.
В воспитании, однако, очень важно не преподносить моральный катехизис смешанным с религиозным (не амальгамировать их) и тем более не допускать, чтобы он следовал за религиозным катехизисом, а всегда надо стараться с величайшим прилежанием и очень подробно довести постижение морального катехизиса до предельной ясности. Ведь без этого в дальнейшем из религии не получится ничего, кроме лицемерия, когда из страха будут придерживаться своих обязанностей и лгать о своем сочувствии религии, которого нет в душе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.