Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
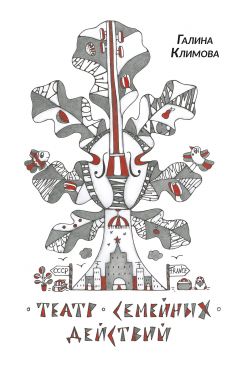
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Ждите тараньку!
Все рассаживались, шофер укладывал чемоданы, и только Наташа с Борисом продолжали разговаривать.
– Счастливого пути, голубушка, – он протянул руку, такую крупную по сравнению с его тщедушным телом, Наташина ладошка юркнула и будто потерялась в ней. Борис быстро поцеловал ее пальцы и вдруг притянул Наташу к себе, выдохнув в самое ухо:
– Держи крепче!
Наташа почувствовала в своей руке свернутую бумажку и сразу же догадалась: деньги.
Борис подмигнул и покачал головой, как бы подтверждая: да-да, деньги. Она резко развернулась и прыгнула в автобус, который сразу тронулся. Все махали Борису, посылали воздушные поцелуи.
Наташа незаметно опустила руку в сумку и, разжав пальцы, увидела цифру 50.
Она откинулась в кресле, сдерживая дыхание и прикрыв глаза, но сердце бултыхалось почти в горле. Провокация? Белый офицер, эмигрант… Дура, зачем взяла? Скандал! Что делать? Больше никогда никуда не выпустят, даже в Болгарию.
Денег ни у кого не было. То есть были, конечно, официально разрешенные к обмену. Но разве это деньги? А женщины, хоть и идеологически грамотные, все-таки женщины. Их специально водили на рынок, где можно было выторговать кое-какое уцененное барахлишко: юбочку, водолазку, свитерок. Везде ходили группой.
Если Наташа станет что-то покупать, все увидят. Откуда деньги? И – гениальная идея!
Она прижалась к Ганне:
– Слушай, Борис на прощанье сделал нам подарок.
– Апельсинки?
– Нет, кое-что поинтересней.
– Ну, например?
– Глубокий вдох и – не дыши: Борис дал нам деньги.
Ганна потемнела и тучей нависла над Наташей:
– Не здесь, не здесь.
В гостинице Наташа разгладила купюры с изображением Антуана де Сент-Экзюпери – две бумажки по 50 франков.
Ганна деньги взяла. И Наташа поняла, что сообщница – это больше, чем коллега, и вернее, чем подруга или сестра. Она всем сердцем возлюбила Ганну, и Ганна тоже, кажется, прониклась к Наташе. Оказывается, деньги не только разъединяют и превращают в заклятых врагов, но и сплачивают. Решили, что потратить франки можно только в большом магазине, куда их перед отъездом обязательно поведут.
Наташа побежала в отдел детской одежды. Выбрала джинсы и джемпер. В соседнем отделе купила игрушечную, уменьшенную копию «Пежо». Вот и все 50 франков! Теперь Сашка будет одет в фирменные джинсы и белый джемпер с вышитым парусом, и у него будет «пежо». Она ловко скрутила джинсы и джемпер в тугие валики, засунула их вместе с машинкой в сумку и задернула молнию.
Ганны в детском отделе не было. Наташа рванула на другой этаж в женскую одежду, заглянула в примерочные, но Ганны не нашла. Поднялась еще на этаж, в обувь – не нашла. В посуде и в хозяйственном отделе – ее тоже не было. До времени сбора группы оставалось десять минут.
Все уже толпились у выхода. Женщины галдели и показывали друг другу те недорогие пустяки и мелочи, которые купили на память себе или своим близким. Панина поглядывала на часы:
– Где Коробченко? Только ее нет. Я же дала установку: держаться кучно. Кто был с Ганной?
Наташа подняла руку.
– Почему ни вас, ни Ганны мы не видели? Где Ганна?
Наташа пролепетала, что они были со всеми вместе, но потом она зашла посмотреть, только взглянуть на игрушки, а когда вышла, то ни группы, ни Ганны не нашла… и сразу побежала к выходу.
– Может, есть другой выход? И Ганна там? – предположила Наташа.
– Стойте здесь, я мигом, – откликнулась переводчица. Через несколько минут они появились вместе. Было видно, что Ганне нехорошо: лицо зеленое, волосы торчат, глаза заплаканы.
– Меня вырвало, – тихо пожаловалась она, – я с трудом нашла туалет, а выход – не у кого спросить… никто по-русски не понимает.
Панина смягчилась, Ганна – такая несчастная, но для порядка Панина все-таки вставила:
– Вы – опытный человек, знаете, какая ответственность на мне и какие могут быть провокации.
Ганна понимающе кивнула, всхлипнула, извинилась и вошла в автобус, но не села на свое место у окна, рядом с Наташей, а пошла в самый конец.
В номере они почти не разговаривали. Ужинали порознь. Наташа чувствовала свою вину, но в чем конкретно – сформулировать не могла. Наверное, слишком задержалась в детском отделе, а Ганна не дождалась и ушла… Так кто кого бросил?
– Нет, ты не простая штучка, – вдруг в темноте, когда легли спать, заговорила Ганна недобрым голосом, – ловко меня на крючок подцепила. Я-то, дура старая, поддалась, зачем-то деньги взяла… может, они ворованные? Может, ты их у Бориса украла, когда вы обнимались-прощались. И он – тю-тю его денежки! – может, уже в полицию заявил…
– Что за бред? Позвони Борису, и он скажет, ворованные или нет. Сама виновата, что не дождалась меня в детском отделе. Куда тебя понесло? Я все этажи, все отделы обегала. В туалет, правда, не заглянула. Не сообразила, что ты там и тебе плохо.
– Станет плохо, если такой стресс…
– Какой стресс? Почему?
– По недоразумению, по идиотству. Представь, я выбрала шикарное нижнее белье цвета шампанского, примерила, заплатила, иду тебя искать. На выходе из отдела меня вдруг останавливает негр в форме, что-то говорит… я в ответ по-английски, что, мол, не понимаю… он машет головой, тычет пальцем в сумку, чуть ли не потрошит ее, почти орет… я – в сторону, а он хвать меня за руку, в свисток засвистел, и тут как из-под земли – полицейский, лысый, как Фантомас. А я – хоть убей – в чем виновата? Что трусы с бюстгалтером купила? На какие шиши? Кошмар! Ноги дрожат, все плывет. Понимаю, сейчас разразится международный скандал, из партии турнут, с работы попрут, все – конец и позор на всю жизнь. Из-за чего? Из-за пятидесяти франков! Из-за трусов с бюстгалтером! И меня вырвало.
Полицейский вроде бы успокаивает, а сам твердит одно и то же слово: шеек, шеек, шеек. И я вдруг поняла, и показала этот злосчастный чек. Он отвел меня в туалет. Я умылась, но напрочь забыла, где выход, у которого мы должны встречаться. Бегу по лестнице, реву, тебя проклинаю, тут меня и подхватила переводчица.
– Прости, Ганна! Я тоже страху натерпелась из-за этих проклятых денег. Ради сына рисковала.
– Это всё Борис! Придумал приключения на наши задницы.
– Ты тараньку-то ему пошлешь?
– А как же!
На следующий день автобус катил в аэропорт по пасмурному мартовскому Парижу, воздух которого местами – и это не метафора – играл и дразнил серо-белыми переливами жемчугов. Но уже желтели и лиловели пышными кронами форзиции, а набухшие почки обещали скорую листву. По новому кругу зашумит и зазеленеет жизнь, примчатся птицы, споют старые и новые песни, от которых станет тепло и радостно и в Париже, и в Москве.
– Нет, ничего художники не приукрасили и не соврали писатели, – всё так: и туман, и французский шарм, и француженки и французы… Ненаглядная Франция!
Шофёр поставил кассету с Джо Дассеном. Ганна замолчала, а Наташа заплакала.
Гуля
«Salut, Tatosha!
У меня все OK. Привыкаю. Дышится легко. Ем уже самостоятельно. Дают что-то несъедобное, но якобы полезное. Здесь много певчих. Всех перебивают воробьи, громче – только чайки. Другие птицы высоко-высоко – их не слышно. Как их туда занесло? Смотрю – не падают. Лапами не перебирают, крыльями не машут – и не падают. Воздух, что ли, их держит? Над ними – белые или серые острова. Мне там никогда не бывать. Твой Гуля».
Таня давно не заглядывала в почтовый ящик на садовой калитке, его сменил – электронный, который всегда под рукой. И вот тебе – бумажное письмо в настоящем конверте с маркой, нашкрябанное по-французски авторучкой – судя по кляксам – с открытым пером. Трогательный анахронизм. Такое письмо можно сложить, развернуть, спрятать в карман или в сумку и носить с собой.
– Твой Гуля, – отозвалась Таня. Она ловко сделала из письма птичку оригами, совсем как живую, и выпустила ее полетать в прохладную темноту ателье… и тут же, спохватившись, замерла, быстро включила и свет, и боковую подсветку, бросилась искать, обшарила глазами и руками углы…Ни под шкафом, ни под диваном, ни на полу – письма нигде не было. Или его вообще не было? Померещилось?
Всё случилось на улице, где обычно ничего не происходило: туристы при фотоаппаратах, продавцы при сувенирах, художники у входа в свои ателье или галереи. Кто-то вынес мольберты с картинами: морские пейзажи под Айвазовского, цветы (ходовой товар!) на все случаи жизни, натюрморты в духе малых голландцев или под Хруцкого – с просвечивающими виноградинами, начиненными солнцем абрикосами, сочащимися от истомы гранатами. Большим спросом пользовались городские пейзажи – ведута.
В знаменитый нормандский Онфлёр, как в академию, приезжали учиться художники, по-здешнему – артисты. Они посещали мастер-класс местного мэтра – морского воздуха. Он был иным, чем морской воздух средиземноморской Франции с Лазурным берегом, иным, чем классический морской воздух Италии, и уж совсем не сравним с туманным воздухом соседнего Альбиона. Воздух Онфлёра, насквозь прошитый проблесками, как стежками люрекса – местами золотого, местами серебряного – вибрировал и даже бился, будто в тахикардии. Небо согласно меняло цвета, мимикрируя под зеленые низменности Нормандии, под серо-буро-малиновый поток Сены или суровую рябь Ла-Манша. Воздух Онфлёра дарил особую – не просто физическую – атмосферу всем, способным видеть и писать. Таня чутко ловила настроение и даже самочувствие этого воздуха с первых дней своей французской жизни.
В тот день, когда все случилось, она почти бежала, вернее, шла по кривой средневековой улочке, вымощенной замшелым булыжником, шла обычным московским шагом – здесь так не ходят. Ее никто не ждал, можно было не торопиться, и только остывающий багет подгонял к завтраку.
Пожилая соседка, хозяйка парикмахерской – живой манекен – подметала свой участок улицы. И продавщица сувениров, ядреная хохлушка Иванна, прибывшая на заработки из Полтавы, тоже выпорхнула с ведром и шваброй.
– Позавтракаю и уберусь, – пообещала себе Таня, сглатывая слюну.
Не рассчитав силы, Иванна так взмахнула шваброй, что ворох мусора – пыль и песок вперемешку с камешками, фантиками, косточками слив и персиков, с облетевшими листьями – смерчем кинулся Тане под ноги. Она остановилась, и не от того, что туфли и колготки запылились и вмиг постарели, – вдруг ёкнуло сердце: в куче мусора что-то копошилось и даже еле слышно пискнуло.
– Пардончик, мадамочка, миль пардон, – и Иванна юркнула в магазин.
Присев на корточки и положив багет на колени, Таня стала разбирать липкий колтун мусора, где отчаянно шевелилось что-то живое, чья-то затерявшаяся жизнь.
– Гуля, гуленька, откуда ты? – Таня вытащила крохотное тельце. Изо всех сил цепляя коготками кожу, птенец не отпускал руку – Бедненький, из гнезда выпал? Как только кошки тебя не сцапали? – Птенец взглянул, будто понял ее.
– Самый любопытный в семье? С шилом в одном месте? Неслух?
Он тюкнул желтым клювом в ладонь.
– Что теперь? Как жить будем? – последние вопросы были обращены не к птенцу, но к себе самой.
Будто услышав ее, подлетела виноватая Иванна:
– Ой, матінко моя, воно же таке малесеньке, що я зослiпу й не розгледіла. Що ж робити, дiвчинко? Як допомогти? Ви не бачите, де в них тут ветерінарка? Пташечок не кожений же лікує… Я б узяла до себе, але ж у хазяйки є свій котяра сіамський, такий шкідливий, він йому й друге крило відгризе! Може, ви до себе візьмете? Він же такий малесенький, ви в коробочку його, а там видно буде…
Таня уже разглядела повисшее левое крылышко с запекшимися каплями крови. Попробовала сложить, как складывают веер, но птенец запищал, задергался и от боли, и от невыносимой тесноты ее ладони.
– Вдруг умрет? Прямо в руке…
– Що ви таке говорите? Господь не допустить за вашу доброту, – Иванна перекрестила и Таню, и птаху, – пошле допомогу!
Птенец молчал, и эта тишина перехватывала горло. Таня побежала к дому. Вдруг вспомнился Руслан, чью жизнь до последней минуты она так же держала в руках… и, казалось, крепко держала. Но, увы!
Дома она поселила бедолагу в коробке из-под туфель. Набросала траву и вату, поставила розетку с водой, а вокруг – хлебные крошки.
Когда-то в Москве на клетку с волнистыми попугайчиками она накидывала платок: если ночь, то спать. Ночь, ночь, ночь… Так Алька, соседка по студенческому общежитию, баюкала своего малыша. Она родила еще на первом курсе, им с мужем дали семейный «пенал», но новорожденный малец кричал по ночам, как резаный. Соседи и в стену стучали, и в дверь ломились:
– Сиську ему сунь! Или соску! Заткни его, мать твою…
Алька оправдывалась, скандалила и до того испереживалась, что ходила как театральная тень: большущие серые глаза, а вокруг – опасные полыньи темных кругов. И вдруг – одна ночь без крика, вторая, третья…
– Что случилось?
И гордая мать трехмесячного сына похвалилась:
– Одна мамашка из офицерского общежития надоумила: как только заворочается, заскрипит – ты не мешкай, а скоренько на темечко ему мокрое полотенчико – шлеп! Он обалдеет, а ты – тюк, тюк, тюк – постукивай ладошкой по полотенчику, и тихохонько, но с выражением: ночь, ночь, ночь, спи… ночь, ночь, ночь, спи… Наш умничка с первого раза все понял.
Где в этом городе лечат птиц?
Таня открыла интернет – ближайшая ветеринарная клиника с названием «Птичий сад» находилась километров за пятьдесят, в соседнем Кане. Как туда добраться с больным птенцом в коробке?
Голубенок дремал. Она провела пальцем по пушистой головке, он встрепенулся, попытался привстать, приподнять крылья, но истошно запищал и повалился на бок, головой в вату – нарушен центр тяжести. Таня испугалась, что задохнется, и вытащила вату.
– Теряю время.
Она разучилась мобилизовываться в экстриме. Мысли рвались и путались, руки тряслись. Все проливалось, падало, ломалось, а ведь раньше сноровки было не занимать.
Это началось сразу после смерти Руслана.
Он умер у нее на руках.
Никогда Руслан не говорил ей, что любит. И она – молчок.
Они познакомились на книжной ярмарке в те считанные дни его нового счастья, когда с улыбкой блаженного он, известный издатель, представлял друзьям:
– Молодая жена Катя, прошу любить!
Таня восхищалась, как по-балетному Катя вытягивала из цветастой шали гибкий стебель тренированного тела, а ее ноги в замшевых ботфортах очень естественно стояли в третьей позиции. Катя делала легкий поклон, при этом угольки ее глаз возгорались, как у зверька, а губы расползались хищной скобочкой.
– Руська совсем сдвинулся.
– Против химии не попрешь!
Казалось, Катя обложила территорию его жизни каким-то сокрушительным ливнем, и в пору было спасаться или звать на помощь, но Руслан счастливо дожил до того дня, когда она – без причин и объяснений – бесследно исчезла. Ливень кончился, но солнце не засветило.
Через год Таня встретила Руслана на очередной книжной ярмарке. Он был подкошен не только изменой, но и безденежьем, и язвой желудка. Подбирая слова, тихо каялся встречному-поперечному: всё, мол, справедливо, всё по грехам – нельзя бросать детей и умученную ночными дежурствами жену, нельзя плевать на двадцать лет семейной жизни.
В ответ Таня нашла надежного гастроэнтеролога, и язва вскоре зарубцевалась. Потом она взялась за художественное оформление книг, которые издавал Руслан без надежды на коммерческий успех.
– Мой друг, мой спасательный круг, – в рифму определял он Таню, которую всё чаще называл Татоша.
Роль друга она приняла без эмоций, хотя сама держала Руслана за приятеля, за хорошего парня, затерявшегося в дремучем лесу людей.
– По ночам поджимает, – он тыкал пальцем в цыплячью грудь, сообщая свежую новость. – Представь, лежу в койке, вроде бы в покое, а оно жмет. Я даже курить бросил, а эта сволочь, – он уже кулаком стучал в грудь, как в дверь, – вдохнуть не дает, особенно под утро, а когда отпустит – такое уныние, и все – пофиг! Бес уныния, демон меридианус – слыхала о таком?
Руслан изменился. Он стал чаще опускать и отводить глаза, отрастил волосы – от чего выглядел аскетичней и моложе. В нем появилась какая-то внетелесная невесомость, которую Таня остро чуяла, принимая за отмеченность и, возможно, за дар. Она определяла это как крылатое родство. Ей захотелось написать портрет Руслана, ставшего похожим на начинающего монаха.
Он ехал к ней с тремя пересадками, за Речной вокзал, где на чердаке типовой двенадцатиэтажки, за железной дверью приютилась мастерская «последней московской пуантилистки», как не без кокетства она себя называла. По жизни Таня летела как по струям воздушных потоков, по границе повседневных атмосферных фронтов со всеми их ненастьями и прояснениями, летела без страха разбиться. Детей и денег не нажила. В ее орбите мелькали и обитали друзья и приятели, знакомые и даже знакомые знакомых. Таня притягивала: распахнутый взгляд крыжовенных глаз и детское простодушие.
Руслан тогда остался. Не ушел он и на следующий день, и на следующей неделе. Зажили без затей и пафоса. По вечерам она готовила что-то сытное, нежирное, но обязательно горячее, чтобы потом, после чашки крепчайшего черного чая, перейти к главному – к портрету, который стал точкой отсчета их внезапно случившейся близости. Она вникала в черты его улыбчивого, интеллигентного лица, какое выхватываешь из толпы и не раз вспоминаешь потом. Она радовалась нетипичности его образа: ни славянской глазастости, ни азиатской скуластости, ни семитско-кавказской знойности.
Их совместная жизнь еще не набрала необходимой для полета скорости и высоты, но явно пошла на разбег. Оба заметно распрямились, просветлели, будто в каком-то предчувствии.
Однажды вечером, когда по телеку шел международный футбол, Руслан попросил открыть окно и под предлогом «опять жмет» залег на диван, прикорнул, сник, точно смирился со всем, что было, есть и будет… но вдруг захрапел, да так громко и жутко.
Таня застала его уткнувшимся в подушку. Он был без сознания. Хрипы и свисты прерывались. Становились короче и реже. Тело содрогалось. Она постаралась перевернуть его на спину, но сил хватило только, чтобы не уронить его голову, такую вдруг тяжелую. Через несколько мгновений Руслан затих.
«Скорая» ехала долго. Потом быстро пришла полиция. Руслан почти всю ночь пролежал на диване – спокойный, почти улыбающийся.
После похорон Таня улетела из Москвы почти налегке – с недописанным портретом в тубусе.
Помогли Гриша Пенкин и его жена Шанталь: организовали вызов во Францию, рекомендовали ее как помощницу по хозяйству своим соседям-художникам. Таня убиралась в ателье, продавала картины и жила в верхнем этаже дома, пока хозяева путешествовали.
– Шанталь! Позвонить Шанталь!
Через полчаса они уже катили в Кан, где практиковал доктор Риффо, лечивший птиц.
Доктор принял их в кабинете – черные навыкате глаза и крючковатый нос на смуглом помятом лице, придавали сходство с попугаем ара, и французское клокотанье речи усиливало это впечатление. Подхватив птенца, доктор профессиональным движением расправил оба крыла, нашел повреждение. Птенец запищал.
– Перелом, без рентгена вижу. Но все поправимо. Может срастись без операции. Терпение, уход, правильный корм.
На этой фразе – Таня помнила точно – в кабинет влетел смуглый мальчишка с крючковатым, как у доктора, носом, что подтверждало их птичье сходство.
– Мой сын Марк!
Мальчик энергично тряхнул шапкой каштановых вихров и повис на отце:
– Папочка, не отдавай птичку! У нас она быстрей выздоровеет. Я ее вылечу, не отдавай!
– Это не наша птица. Вот ее хозяйка.
– Мадам, – Марк почти вплотную подошел к Тане и, задрав голову, умоляюще смотрел ей в глаза, – оставьте, пожалуйста, голубенка! Я его вылечу. Я умею. Наложу шину, прибинтую крыло к туловищу… Ой, нет, сначала продезинфицирую, потом шину. У вас, в этой коробке, он умрет.
– Ну, почему же? Я позабочусь, поухаживаю. У него будут и вода, и корм.
– Выздоравливают от любви. Корм – это другое… Он станет моим другом, а у вас наверняка полно других друзей.
– А разве у тебя нет друзей? Ты ведь ходишь в школу, – вмешалась потерявшая терпение Шанталь, в ее планы не входила беседа, иначе они рискуют попасть в вечернюю пробку.
– Он почти не общается с детьми. Ему интересней с птицами, – пояснил доктор. – Хотите посмотреть на наш «Птичий сад»?
Доктор Риффо вел их по коридору. На стенах висели вырезанные из дерева и раскрашенные фигурки синиц, скворцов, сорок, соек, удодов и даже колибри. Он распахнул стеклянные – от пола до потолка – двери. Сад, отгороженный от уличного шума высокой живой изгородью, в которую вплелись оранжевые, лиловые и желтые бугенвилии, оглушил птичьей какофонией. Вместо клумбы в самом центре возвышалась огромных размеров круглая клетка, похожая на абажур, сплетенный из белых металлических прутьев, сходившихся высоким куполом вверху, почти под небом. Там в бессчетных гнездах и скворечниках, на жердочках, ветках и на качелях кипела жизнь, так похожая на человеческую: с пением и свистом, с многозначительным молчанием, взглядами, разборками, драками и любовью, с кормушками, игрушками и плошками с водой. Больные или подранки, которые не летают.
И с людьми так же. И с ней самой. Вспомнились перенаселенная московская коммуналка, пионерлагерь на станции Правда с палатой для девочек на пятнадцать коек и такая же захудалая палата в районной больнице.
– Птичье царство! – Шанталь замерла от восторга, ее глаза высветились до голубизны, и тревога по поводу пробок отпустила.
– Модель частного райского сада, – сострил доктор Риффо, собирая губы счастливым бантиком.
– Видите, – пользуясь произведенным эффектом, завопил Марк, – видите, мадам, разницу между садом и коробкой! Он даже встать не может, заваливается на бок. Маму потерял, – его брови сдвинулись, из глаз крупной россыпью разлетелись слезы.
Доктор Риффо присел на корточки, обнял сына и стал что-то быстро и горячо шептать ему. Марк кивал, но плакать не переставал. Доктор зашептал еще быстрей, еще горячей, и Марк вытер слезы.
– Простите, – сказал доктор, отходя от мальчика с нескрываемым огорчением, – простите моего сына. Птицы пока единственная реальность, где ему хорошо, пусть – иллюзорная реальность, но она поможет садаптироваться к жизни и к людям.
– Сад лучше, чем коробка, – бубнил Марк. – Ему не будет одиноко. Я сделаю специальную жердочку. Мы никого насильно не держим. Каждый день открываем дверцы, правда, папа?
Доктор устало кивнул.
– Улетают не все. Некоторые остаются, – захлебывался в новой надежде Марк, – когда, например, ампутировано крыло или сломано… или когда птенцы вылупились – родители их не бросают! – он опять сдвинул брови и всхлипнул, будто вспомнил о том, о чем старался не вспоминать. – А некоторые улетают, но потом возвращаются. Оставьте голубенка, мы поставим его на крыло!
Марк смотрел на женщин так, будто все уже было решено.
– Мадам, однажды он прилетит к вам уже взрослым. Вряд ли вы его узнаете. Или однажды принесет письмо. Вы слышали про голубиную почту? Это способ общения, известный с древности. Когда невозможно быть вместе, пишут письма.
Мальчик достал птенца из коробки, положил в ладошку, как в лодочку, а другой бережно придерживал сбоку. Птенец даже не пискнул.
– Гуля-гуля-гуля, – пропела Таня по-русски. Марк поднял лодочку почти к ее лицу и внимательно смотрел на губы, произносившие непривычные открытые звуки.
– Гуля мой, – Таня разволновалась, глаза ее повлажнели, лоб и волосы взмокли. – Что делать, родной? Оставить в саду? Или забрать, хотя, если честно, мне совсем не до тебя…
Птенец поднял голову и, кажется, понял последние слова. Марк наклонился над ним и легонько дунул. Пушок на голове разлетелся и полег, как майская трава на ветру.
– У Руслана так же распадались от фена волосы.
Она четко увидела птичий профиль с перистой челкой на фоне вечнозеленого сада, и вмиг всё прояснилось: она знает, как писать мерцание глаз, и узкие бледные руки, обязательно руки, и маленький в полуулыбке рот.
– Как же я соскучилась, – по-русски призналась она.
– Простите, вот чек, – деловито вмешался доктор Риффо, – и мой совет: оставьте птицу. Марк справится. Он с рождения в «Птичьем саду». От птиц – не оторвать. И голубенка вашего, сами видите, очень полюбил!
– Благодарю вас, доктор! – Тане не хватало воздуха, хотя они стояли посреди зеленого сада, а казалось, в какой-то удушающей пустоте.
– Руслан попросил тогда открыть окно, – пронеслось в голове. И тут же захотелось всё бросить, скомкать, вернуться в Онфлер или даже в Москву, и как можно скорей к мольберту, к Руслану.
– Невмоготу!
Словно отозвавшись, громко застучало сердце.
– Может, я любила Руслана? А когда потеряла, моя любовь вдруг проросла и не дает пустоте занять пространство, в котором жил Руслан, а около него – я…
– Супер, супер! Вы его назвали Гуля?
Таня подошла и обняла его:
– Марк, вылечи Гулю! Может, он когда-нибудь прилетит или принесет мне письмо? Или всех нас научит летать?
На мольберте стоял все тот же подмалевок портрета. Русские туристы принимали его за Гоголя последних дней жизни, сильно истощенного болезнью, дурными видениями и постом. Мерещился знакомый птичий профиль с перистой стрижкой темных, чуть разлетевшихся волос – на фоне вечнозеленого сада. Работа не продвигалась: глаза не мерцали, руки выглядели мертвыми, полуулыбка, сдерживающая смущение в приподнятых уголках маленького рта, не проступала.
– Обязательно закончить до конца недели, – который день торжественно и вслух обещала себе Таня, – хотя пока портрет недописан, Руслан – мой. Мы вместе: он – там, я – здесь, мы – рядом. Может, дорастем до любви? Чтобы не умирать. Твое письмо об этом, Гуля?









































