Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
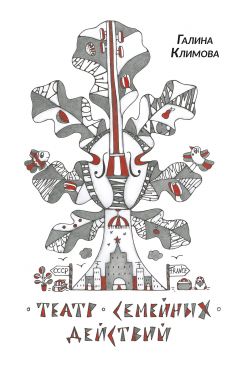
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Врачиха
Врачихой она стала, когда появился маленький квадратный чемоданчик на двух застежках, который ей подарила врач Морозовской больницы. Она попала с диагнозом «менингит». Спас стрептомицин, кололи круглосуточно. Выздоровев, девочка заявила, что будет врачом. Но получилось – Врачихой.
В квадратном чемоданчике были бинты и вата, пузырьки с зелёнкой и валерьянкой, валидол, металлическая коробочка со стерильным шприцем и иглами, градусник и невероятной красоты стеклянная колба со слаборозовым раствором марганцовки. Она научилась слушать сердце и знала, где пульс и аппендицит. Ловко управлялась с люголем, прыскала в горло фурацилин из пульверизатора. Воображала себя участковым врачом и не делила больных на детей и взрослых, лечила всех, даже помоечных кошек. Врачиху уважали. Разрешали измерить температуру или смазать зеленкой комариные укусы.
Но в их дворе, как на зло, жили настоящие медики.
Во-первых, медсестра из хирургии Анна Карповна, которую за глаза звали Нюня, или Нюняка. Все знали, Нюняка прошла войну, раненых на себе вытаскивала; маленькая, но юркая, с сильными руками, с пышной шапкой черных, почти каракулевых завитков. Вот и будущего мужа – цыганистого дальнобойщика Веньку – тоже спасла от смерти и женила на себе. Нюняка никому не отказывала, если давление, уколы или компресс. Вот за отзывчивость Врачиха и злилась на Нюняку, но виду не подавала.
Во-вторых, в их дворе жила сама Антонина Ивановна Волкова, заведующая детской поликлиникой. Ее в городе знали все. В белой блузке, в белых фарфоровых бусах, такая интеллигентная, что даже на пианино играла. Ее муж Александр Яковлевич, похожий на майского жука, толстяк в золотом пенсне, был странным, хоть и директор медучилища. После его смерти говорили: сидел. Оказалось, он изучал французского писателя Бальзака. Много книжек насочинял этот Бальзак, и все – в дорогих переплетах. Александр Яковлевич просто жить без него не мог – читал и перечитывал, и всё по-французски. Зачем? Мало того, он выписывал какие-то слова и даже предложения – цитаты, как он их называл – и насобирал преогромную картотеку из цитат этого Бальзака. Фанерные и картонные ящички стояли в несколько этажей на письменном столе, на подоконниках и даже на полу, что вызывало, конечно, подозрения у всех, кто приходил. А приходили к ним, как в приемный покой, круглосуточно.
Зачем, спрашивается, в текстильном городке в голодные послевоенные годы иностранный писатель Бальзак? С какой целью врач, директор медучилища, выуживал тысячи французских цитат и в определенном порядке складывал в ящички? Связь с иностранцами? Шпионаж? Никто не понимал. За это и посадили.
В-третьих, через два дома от Врачихи жила терапевт Фея Феофиловна Ксенофонтова с сыном Августом (попросту – Агуськой) и с сестрой Нимфой Феофиловной. Агуська – то ли даун, то ли олигофрен. Нимфа Феофиловна водила его в школу для умственно отсталых, а когда они возвращались, соседские ребята сбивались в шакальи стаи и налетали на них, бросая в Агуську – толстощекого, красного, часто в мокрых брюках – камешки и комья ссохшейся грязи.
Ах, мой милый Августин,
Августин, Августин…
Агуське песенка нравилась. Он пускал слюнявые пузыри, гоготал и вырывался, а Нимфа Феофиловна, не отпуская Агуськиной руки, отбивалась портфелем от обнаглевшей ребятни.
Туговато приходилось дворовой Врачихе с Советской улицы. Где брать пациентов?
Главным конкурентом оставалась все та же безотказная Нюняка. По воскресньям, пока еще рассвет не набирал всей силы и высоты небес, к ней тихо-тихо шли женщины, почти все – молодые и красивые. Живая очередь по расписанию. Надолго не задерживаясь, они выходили с потерянными лицами, погасшими глазами, стараясь поскорей исчезнуть.
Соседи помалкивали. Они знали, как нелегко Нюняке с астматичкой-Танькой – сколько нужно деньжат, чтобы вывезти дочку на лето в Евпаторию. Только там Танька не задыхалась.
Врачиха с Танькой дружила. Они обожали играть в Нюнякиной комнате, длинной и узкой, как трамвайный вагон с одним окошком. Слева в углу, будто наказанное, стояло в сильном помутнении высоченное венецианское зеркало. Справа теснился двухэтажный резной буфет с дюжиной серебряных, по словам Таньки, высокомерных фужеров на таких же серебряных тарелочках.
– Немецкие трофейные. И люстра трофейная. Вся в слёзках! – Танька победно тыкала пальцем туда, где хрустальными каплями – зелеными и желтыми – скорбно свисала люстра. – Пить из фужеров нельзя. Они худые. Но играть можно.
Играли в «магазин». Продавали кукольную посуду и худые фужеры. Расплачивались крупными кленовыми листьями, а на сдачу получали – мелкие березовые.
Прибегала дылда Натка и сразу – чур, я! – становилась главным продавцом или даже директором магазина, и вовсе не потому, что на голову выше и горластая, а благодаря своему происхождению: она была дочкой продавщицы пива в привокзальном буфете. Однажды, когда Натка не пришла, а за окном безнадежно дождило, Танька предложила:
– Давай, пока одни, поиграем во «врача».
– А я чемоданчик не взяла!
– Подумаешь, чемоданчик. Знаешь сколько у нас настоящих инструментов?! Я научу тебя делать операцию для женщин. Я много раз видела. Мама думала, что я сплю, а я подглядывала и все запомнила. Чур, я – врач!
– Еще чего, – вспылила Врачиха, – я врач.
– Но ты же не умеешь делать операции. И на первый раз, я – врач, а ты – медсестра.
– А кто будет женщиной?
– Я буду и врачом, и женщиной.
– А делать операцию буду я? – неуверенно спросила разволновавшаяся Врачиха.
Танька вытащила из необъятного буфета белый эмалированный таз, прикрытый чистыми вафельными полотенцами с печатью «Минздрав». В тазу – гора блестящих металлических инструментов: ножницы с длинными прямыми и короткими гнутыми клювами, щипцы, чем-то похожие на щипчики для сахара, какие-то дырявые ложечки и ложки с плоскими зеркальными донцами, пинцеты и много еще чего, что не имело названия на языке Врачихи. Она провела ладошкой по этим прекрасным предметам, лизнула, понюхала и даже вытащила один из них.
– Расширитель, – пояснила Танька.
– А для чего?
– Показать?
Танька взгромоздилась на стол, не сняв даже скатерти. Задрала платье, сняла трусики и улеглась поперек стола. Согнув в коленках ноги, похожие на тонкие надломленные ветки, она широко их развела.
– Это еще зачем? – всерьез испугалась Врачиха.
– Так надо лежать на операции. Не дергаться и не дрожать. Дырочку видишь?
Врачиха вперилась взглядом сначала в ноги – там ничего не было, потом – в ее шоколадного цвета промежность.
«Это оттого, что у Таньки на завтрак шоколадное печенье «Садко» и какао со сгущенкой, – догадалась Врачиха. – У меня по-другому: ноги белые, а там всё – розовое, потому что пью молоко с горбушкой ситного. Какао нам не по карману».
– Видишь дырочку или нет?
– Вроде, вижу.
– Теперь бери расширитель и втыкай!
Инструмент казался большим и опасным. Врачиха дотронулась до кожи, и Танька вздрогнула всем тельцем. Тут уже Врачиха напустилась на нее:
– Не дергаться и не дрожать! Я еще ничего не сделала, а ты…
– А ты, – противно передразнила Танька, – ты лучше не тяни. Врачиха снова дотронулась до промежности. Провела инструментом сверху вниз и попробовала его протолкнуть в едва угадываемую щель, но рука вдруг дрогнула, расширитель упал на пол, а Танька завопила:
– Тычешь в меня, как в подушку. Больно ведь!
Врачихе стало очень боязно.
– Надо простерилизовать.
– Вот еще, возьми другой.
В тазу лежало несколько расширителей, и Врачиха выбрала самый маленький.
Таньке уже надоело лежать на столе с согнутыми ногами.
– Зря я согласилась, – досадовала она, морща лоб, – надо было, чтоб ты – женщина, а я – медсестра.
– Еще чего, – огрызнулась Врачиха, ей захотелось доказать этой вредине Таньке, что никакая она не неумеха.
– Глубокий вдох, не дышать, – и, нацелившись в самую щель, втолкнула расширитель, который неожиданно легко вошел внутрь. Обрадованная, для надежности Врачиха надавила еще и еще раз.
– Ой, больно! Ой-ёй-ёй, мамочка моя, тащи обратно!
Врачиха растерялась. Расширитель сам вывалился из Таньки.
Но Танька, держась за низ живота, не переставала кричать и перекатывалась от боли с боку на бок. Врачиха боялась, как бы она не грохнулась со стола.
– Никакая ты не Врачиха, смотри!
Танька тыкала пальцем в расширитель, лежавший здесь же на скатерти. Он был в крови.
– Мне очень больно, очень! Когда мама делает операцию, никто даже не пикнет. – Она заплакала. И Врачиха, которую тошнило и от страха, и от вида крови, расплакалась тоже. Вязкая слюна мешала дышать и говорить, но она все же выдавила из себя:
– Я же не нарочно.
Они обе, наверное, поплакали бы еще, если бы не стук входной двери и скрип деревянной лестницы.
– Прости, я больше никогда…
– То-то же, – милостиво согласилась Танька.
Она ловко спрыгнула со стола и метнулась с тазом инструментов к буфету. Врачиха успела накинуть вафельные плотенца.
Когда в комнату вошла Нюняка, девочки сидели на полу с раскрытой книгой.
– Опять Барто мусолите, не надоело? Вам уже по семь с половиной лет, зассыхи! В сентябре в школу! А вы всё наша Таня горько плачет. – Нюняка смешно почмокала. И тут вдруг Танька подбежала к ней, обхватила и, уткнувшись головой в ее тугой живот, расплакалась до икоты.
– Ты чё, дочь? Обиделась? Я ж не сержусь. Просто устала после дежурства. Ты не заболела? – Нюняка тревожно тронула губами Танькин лоб. – Или Врачиха тебя обидела, а? Она может…
Танька мотала головой и еле разлепила распухшие губы.
– Не-е-ет, не-е-т, просто Таню жалко! И мячик, мячик тоже.
Обрадовавшись, что дочка здорова, Нюняка так залилась смехом, так закинула голову, что ее крупные зубы бились друг о дружку, как веселые чашки, открылся высокий покатый лоб, лицо просветлело.
– Чё, мам, не веришь? Правда, нашу Таню очень жалко.
– Глупышок ты мой, – Нюняка вытерла намокшие от смеха глаза, – вот когда вырастешь, вспомнишь это и сама над собой обхохочешься!
Глядя на обнявшихся Нюняку и Таньку, Врачиха почувствовала себя неуместной. Но ей стало вдруг легко. Она вышмыгнула из комнаты и на выдохе скатилась по лестнице. Во дворе галдящей стайкой жались к забору озабоченные соседи. Похоже, что-то случилось. Может, кто заболел? Может, нужна ее помощь?
Доминго, сын Люськи
В этом тесном от бабьей суеты городке не знали, кто отец мальчика по имени Доминго.
Люська проснулась, когда густая ноябрьская ночь нехотя отступала, а день с его нахлобученным небом не спешил на смену, хотя и в такую пору случались праздники.
– Ёлки-моталки, полтинник!
Огляделась – мебель на своих местах, часы механически тикают, значит, все продолжается. И обрадованная Люська, нет, пожалуй, Людмила Константиновна вскочила с кровати, как проспавшая пацанка, которая боится опоздать в школу.
– Полтинник! В парикмахерскую – причесон и наманикюриться!
Она уткой прошлепала в кухню, заварила чай и сделала глазунью.
Людмила Константиновна знала, что сегодня в редакции – она работала в районной газете «Рассвет новой жизни» – ее поздравят. Придут торжественной стайкой, чин-чинарём. Редактор Сан Саныч Мазурик (за глаза Шурик-Мазурик), подражая модуляциям диктора Левитана времен фронтовых сводок, зачитает юбилейный адрес в дерматиновой папке с цифрой 50 в углу. Он же вручит «от всего сердца и, разумеется, от коллектива» красные гвоздики – цветы на все случаи жизни. И, уже свободные от официоза, они по-свойски рассядутся, и начнется застолье со стихами, шарадами и лотереей. Первый тост тоже произносил Мазурик. Худющий, на вид хронический язвенник, он привычно наставлял, прямо-таки благословлял по всякому житейскому поводу, будь то свадьба, армия, похороны или юбилей. Мазурик не спеша перечислял достоинства виновника торжества и загибал пальцы на правой руке, а поскольку рука у него была одна (другую потерял на фронте), то не успевал сильно затянуть тост, и выходила самая что ни на есть распрекрасная краткость, о которой так изящно выразился Чехов.
Людмила Константиновна с радостью предвкушала эти посиделки, ведь редакция – ее вторая семья, а временами – и первая, и единственная, хотя теперь-то ясно всем, что личная жизнь у нее была…
У Людмилы Константиновны рос сын со странным для среднерусской полосы именем Доминго. Еще девочкой она сильно впечатлилась репродукцией с картины Пикассо, написавшего испанского матадора Мигеля Домингина, чей отец (это она потом уже вычитала) Доминго Домингин был еще более знаменит. Досадуя, что молодому Домингину, который казался ей неотразимым, почему-то не дали имя его легендарного отца, Люська решила восстановить справедливость. Тогда же в ее жизнь вошла испанская тема с корридой, танцами фламенко, гитарой, картинами Гойи и Веласкеса и со стихами Гарсиа Лорки… Хотя на самом деле, всё началось гораздо раньше.
Сына обычно звали – Дом. Нормально. Соседку напротив звали – тетка Домна, а он – Дом. Чему тут удивляться? Но стоило кому-то из ребят позвать или подразнить сына: Домик, Домик… – как кровь бросалась ему в голову, и, сверкая вспыхнувшими углями глаз, он всем телом кидался на обидчика. Неславянский у мальца темперамент, матадор да и только. Лишь мама, когда они оставались вдвоем, могла нашептывать: «Домик мой родной», – и гладить, и целовать его черные прямые волосы, разделенные с младенчества боковым пробором, отчего Доминго выглядел безупречным мальчиком из приличной семьи.
– Не в род, а из рода, – бухтела баба Дуня, Люськина мама. – Нет у парня святого имени, прости Господи! Подумала бы своей деревяшкой, что за жизнь его ждет? А дети его? Доминговичи? Или Доминговны? Тьфу, язык сломаешь. Лучше б не рожала ты, девка, – и, сдерживая разыгравшийся до гипертонии норов, баба Дуня замолкала, громко сглатывала слюну, боялась подавиться.
Людмила Константиновна – крупная женщина с фигурой богини плодородия, с сорок первым размером ноги, и она же – с мечтательными зелеными глазами и врожденным стенозом митрального клапана – сильно выделялась пышной копной волос, сияющих, как нити золотой канители, каждый день обещавших праздник. Она родила Доминго в сорок лет. Это был поступок во всех отношениях: старородящая, с больным сердцем, без мужа. В то время она была на пике карьеры – директор городского Дома культуры. Должность ответственная и на виду. В беременности Людмилу Константиновну никто заподозрить не мог. Все знали, что жила она с матерью, у которой не забалуешь, работала – как лошадь и что мужики на нее «не клюют». За пару месяцев до декретного отпуска, пока стройность и подвижность не вызывали сомнений, Людмила Константиновна решилась на дикий поступок: уволилась в одночасье по собственному желанию. Разговоров было! Куда ушла? По какой причине? На что жить будет? Но ушла, и – концы в воду.
Месяц молчала, другой на исходе, пузо уже выкатилось тыковкой. Вскоре позвонили с работы:
– Может, чем помочь, Людмила Константиновна?
Мать ни о чем не спрашивала, только косилась на живот и, закупив марли, ситца и байки, строчила на «зингере» пеленки и подгузники. Наверное, от этого молчания у Люськи развился жестокий токсикоз, и она позвонила в Москву брату Лёхе, известному спортивному журналисту.
Люська с детства была влюблена в старшего брата. Ни одного парня рядом поставить не могла, всё только: Лёха красивый, Лёха талантливый, Лёха самый умный, самый честный, самый добрый… Брат заслонил всех. Она чувствовала и понимала Лёху именно так, как он сам себя понимал и чувствовал. Что это, если не любовь? Жила его жизнью, так и не построив своей. Лёха тоже очень любил сестру, но совсем по-другому.
Выслушав ее лав-стори, Лёха со всей ответственностью, на какую был способен, прохрипел в трубку:
– Последний вагон последнего поезда. Мой совет: рожай, сестренка! Чем могу – помогу, рассчитывай. А мужик-то твой, что за птица? Приличный?
– А то, весь город на ушах стоит: от кого ребенок? Ты упадешь, когда узнаешь!
Окрыленная поддержкой Лёхи, она написала письмо школьной подруге:
«Прости, Тома, что «ушла в партизаны». Я, наконец, влюбилась, веришь? На пятом десятке… Встретились. Совпали. До неправдоподобия. Он захотел, чтобы я родила сына. Через месяц рожаю. У него, конечно, уже есть двое сыновей и жена, которая якобы давно и неизлечимо больна, поэтому оставить ее – не по-мужски. Понимаю, что это обычная отмазка. Понимаю, что не может уйти из семьи, но любит меня. В моей жизни никогда не было столько света и радости. Он высоченный, черноглазый, черноволосый, а улыбка – слов нет! Советский испанец, сын осиротевших испанских детей, вывезенных в СССР, когда в Испании шла гражданская война. Родители погибли в Москве при неизвестных обстоятельствах, а его определили в детдом для иностранцев в Иванове. Сначала родители там выросли, а потом и он… Такая вот спираль. Зовут его Владимир, в честь Ленина. Фамилия – Мартинес. Слышала? Директор нашего хлопчатобумажного комбината, бо-о-льшая шишка не только в городе, но и в области. И друзей, и врагов не сосчитать. Я дала себе слово: не портить ему жизнь и карьеру. Такое счастье носить его ребенка! Смысл жизни появился.
Мать почти не разговаривает со мной: как же, гулящая, блудница, вот-вот в подоле принесет. Но Лёха меня поддержал.
Мы с Мартинесом конспирируемся, изредка встречаемся, и я надеюсь, очень надеюсь, что будем когда-нибудь вместе…»
Никто в городе так и не узнал, кто отец Доминго. Никто, кроме матери, которую Люська, придя из роддома, стала называть баба Дуня.
Мартинес поздравил Люську букетом экзотических орхидей, живьем ею до того дня не виданных, застегнул на шее тоненькую золотую цепочку с золотым сердечком, поносил на руках сына, поагукал и, прощаясь, оставил внушительный конверт. Зашел раз, другой, а на третий раз у калитки его встретила баба Дуня:
– Ты вот что, господин-товарищ, не срами нас. Люди всё видят. Тебя в лицо знают. Стыдоба-то какая… Выбери свое! На два дома не получится. Не позволю. Накувыркался, теперь расхлебывай! В деньгах твоих не нуждаемся. Ни цветов, ни подарков не носи. Бог даст, поднимем мальчишку – очень уж хороший, правда! – вот он и будет нашим мужиком и хозяином в доме.
Мартинес рта не успел открыть, как калитка захлопнулась. Заметавшись вдоль глухого забора, он и стучал, и просил, и требовал… Но баба Дуня, скрипя валенками по свежевыпавшему снежку, молчком дошла от калитки до крыльца и с такой обидой хлопнула дверью, что со звоном попадали сосульки с крыши. Мартинес еще раза три приходил, но баба Дуня стояла у калитки, будто охраняла объект государственной важности, и не допускала его к дочери и внуку. Уже потом, Великим постом она вдруг покаялась: виновата, доченька, виновата… не пускала… хотя приходил, приходил.
Доминго рос крупным, здоровым, смышленым, но совсем другой породы. Дитя любви, он и лицом, и телосложением был копией отца, как это бывает, когда хранят тайну рождения. Мартинес при случае помогал материально, интересовался Люськой и сыном по телефону, но уже не навещал.
В редакции погуляли хорошо, даже с танцами – со старыми танго Оскара Строка. Несколько лет назад на турбазе они с Мартинесом влюбились друг в друга под танго.
Ах! Эти чёрные глаза меня пленили.
Их позабыть нигде нельзя – они горят передо мной.
Ах! Эти чёрные глаза меня любили.
Куда же скрылись вы теперь? Кто близок вам другой?
Домой Людмила Константиновна вернулась поздно. Расставила цветы, перечитала поздравительные открытки.
– А Мартинес?
Ей вспомнился последний телефонный разговор, когда он вдруг с горечью признался, что не вписывается в новое время и честность в бизнесе – это диагноз, а потом робко так спросил:
– Можешь одолжить деньжат терпящему бедствие директору?
– Когда это было? – припоминала она. – Пожалуй, перед майскими, и с тех пор – ни гу-гу, а просил всего на пару месяцев, перекрутиться. Да, Володенька дорогой, понимаю, как нелегко, но не поздравить с юбилеем мать твоего младшего сына?
От праздничного настроения не осталось и следа. Нахохлившись, Людмила Константиновна села на диван, подобрала под себя ноги, включила телевизор, и пока экран не засветился, бросила взгляд в зеркало, висевшее сбоку: нетрезвая баба со смятым красным лицом, с размазанным макияжем вокруг измельчавших глаз, съеденные в нитку губы. Противная и старая!
Убавила звук, придвинула телефон.
Трубку сняла, наверное, жена.
Людмила Константиновна не звонила Мартинесу домой и не знала ее голоса.
– Простите за поздний звонок, Володю можно?
Женщина замялась.
– Кто спрашивает?
Люську бросило в жар. Она не планировала что-то объяснять или врать на ходу:
– Я проездом. Мы когда-то вместе работали, хотела поговорить.
– Нельзя с ним поговорить.
– Конечно. Уже поздно, простите.
– Уже очень поздно. Уже не поговорите, – нервно перебила жена и замолчала. – Володя умер полгода назад. От инсульта, – она снова замолчала. – Не вышел из комы.
Люська еле сдержалась, чтобы не закричать. Слезы прорвались с такой силой, что вмиг ослепили, в глазах заплясали молнии, в горле заклокотало. Она бросила трубку. Свернувшись в клубок от боли, завыла, завыла…
– Мамочка, мамуля, – Доминго обнимал ее горячими руками, – страшный сон приснился, да? Не плачь, не бойся, хочешь, я с тобой лягу?
Она вытерла лицо:
– Прости, Домик, разбудила тебя. Не сон, малыш, не сон, а просто жизнь, просто такая жизнь, какой она бывает в пятьдесят лет. Тебе только десять, – она взяла ладошку сына и стала загибать пальцы, – еще пять жизней надо прожить, чтоб ты понял меня.
– Тебе плохо?
– Когда мы вот так, – она прижала его голову к груди и поцеловала в макушку, – хорошо! Слава Богу, что ты есть. Иди спать, а то бабу Дуню разбудим.
В воскресенье приехали гости: Лёха и Томка с мужем Валеркой. Люська наварила холодца, напекла пирогов с ливером, а соленые огурчики, грибочки и квашенная капустка в доме не переводились. Гвоздь программы – картошка-синеглазка со своего огорода. Ее подавали в самом начале в виде пюре, взбитого с горячим молоком и яйцами.
Когда Лёха с Валеркой уединились, чтобы всласть наговориться о перестройке, Горбачёве и о Боге, Люська умыкнула Томку в спальню.
– Знаешь, какой у меня был юбилей?
– В редакции, наверное, гудели…
– Гудеть-то гудели, а потом, представляешь, – Люська подыскивала слова, – Мартинес не поздравил. Это меня жуть как задело, и вечером под шофе я решила позвонить и пристыдить его. Нарвалась на жену, тут-то и узнала: Володи нет. Умер полгода назад.
– Бедная ты моя, хорошая, – Томка протянула руки, чтобы обнять подругу, но Люська отстранилась и продолжила:
– Знаешь, за эти шесть месяцев нигде даже не ёкнуло, ничего не почувствовала, – она вытерла глаза, – а его уже не было. Люблю его, Томка, до сих пор люблю. Без него – тоска, ледяная пустыня. Нет очень близкого человека – чужого мужа и отца моего единственного сына. Хотя мы очень редко виделись, но я знала: он рядом… есть… поможет.
Томка обняла подругу и промокнула ладонью ее мокрые щеки.
– Доминго знает?
– Это еще зачем?
В Люськиных глазах метнулась тревога.
– Не надо ему ничего знать. Доминго – мой сын: я его родила и записала на свою фамилию, я – для него и мамка, и папка.
– Ты что, вообще ничего не говорила ему об отце? Никогда?
– А он ничего и никогда не спрашивал, – отрезала Люська. – Да и что сказать? Что была любовницей? И его папка, такой замечательный, такой прекрасный человек на мне не женился? А его не усыновил? И теперь Доминго навсегда – незаконнорожденный, внебрачный, безотцовщина? Эту правду вывалить на пацана?
– Значит, боишься. И боишься, в первую очередь, за себя и свою репутацию. Могла бы сочинить подходящую легенду: папа-летчик разбился… папа-полярник – погиб на льдине… папа-геолог – пропал в тайге. Ребенку нужно знать, что у него есть отец или, в крайнем случае, был. Особенно для мальчика это важно. Он ведь тоже когда-нибудь станет отцом, а что такое отец – не знает. Ты присвоила Доминго, материнский эгоизм. Вокруг него только женщины: ты да баба Дуня. Может, хоть она ему что-нибудь рассказала?
– Мать – могила. Да и вину свою знает. Если бы не она, может, у нас с Володей всё и срослось бы. А у нее, видишь ли, обида за меня или гордыня взыграла – не пускала его, отвадила… а он приходил к нам, скучал, наверное.
– Как же так, – не унималась Томка, – мальчику десять лет, а он до сих пор ничего не знает об отце, не знает даже, что отец умер. Представь, что творится в его мозгу, в несчастном подсознании, если он тебя, свою любимую мамочку, даже спросить не ре-ша-ется? Щадит, жалеет тебя, дуреху! А ты вот его не жалеешь. Думаешь, его никто не спрашивал об отце? В школе, например, или соседи? Думаешь, он не видит, что нормальная семья – мама, папа и дети? Злой материнский эгоизм! Дикость!
– Хватит ярлыки-то шлепать, не все такие благополучные, как ты, – и Люська залилась слезами.
– Прости, что-то я слишком на тебя навалилась. Но, ей богу, ты неправа, хотя ты – самая настоящая героиня. Родила от любимого человека, растишь сына. Твоя жизнь состоялась.
– Таких героинь как я – полстраны.
– Да уж наши бабы… Ты хоть знаешь, где его похоронили?
– Не догадалась спросить. Да и – кто я?
– Узнай. И для себя самой, и, может, с сыном вместе придете когда-нибудь на могилу.
В этом городе все обо всех знали всё. Или почти всё. Только Люська не знала, когда и где похоронили Мартинеса.
Однажды ей приснилось, что Томкин муж, Валерка, всегда очень деятельный и жизнерадостный, ведет ее якобы по какому-то парку или лесу, а там, хоть и зима, и сугробы по пояс, но очень много народу – то ли живут, то ли прогуливаются, и все – нарядные, в летнем и босые. Идут они с Валеркой под руку по центральной аллее, широкой, расчищенной от снега, вальяжно так идут, и он подгоняет:
– Поторапливайся, подруга, нас заждались, наверное. Познакомлю тебя с очень славным человеком, может, еще замуж выйдешь. Смотри-ка, нас уже встречают, – и показал рукой в сторону, где раскачивались и скрипели старые корабельные сосны. Люська повернула голову и ахнула: по новенькому сверкающему снегу, накрывшему землю пологими волнами, в расстегнутой белой рубахе на голое тело к ним летел или плыл кролем, рассекая энергичными гребками воздух, готовый приземлиться, счастливый Володя Мартинес:
– Привет, привет, я здесь!
Люська проснулась и перекрестилась. Сон не ускользал. Она уставилась глазами в потолок, похожий на потухший экран, и повторяла про себя сон еще и еще раз, заучивая наизусть в ожидании продолжения.
Людмила Константиновна бежала по житейскому кругу привычным аллюром – то рысью, то галопом – пока однажды посреди ночи не позвонила Томка:
– Валера умер… в полночь… прямо у меня на руках… «Скорая» ехала минут сорок. Они даже не пытались его спасать. Ничего не сделали. Сказали, что если даже заведут сердце, то он уже – овощ.
– Да как же так!?
– Сама не верю. Лежит на кровати, будто спит. И вроде бы улыбается. Сейчас перевозка приедет.
Томка не плакала, а только говорила и говорила без умолку, не могла остановиться. Ей казалось, что как только она прекратит говорить о Валере, он и вправду умрет, поэтому надо говорить, говорить…
– Из человека уходит жизнь. Ты понимаешь, что теряешь его, но ничем нельзя помочь, нельзя удержать… Несколько мгновений, и всё – нет его, жизни нет…Мы четверть века прожили вместе…
– Родненькая моя, чем тебе помочь?
– Чем помочь? – эхом откликнулась Томка. – Организуй кладбище. Он хотел лежать вместе с моими – с дедом и с папой. Нравилось ему наше лесное кладбище, наши сосны, и он повторял:
– И меня здесь положишь. Покой и красота!
День похорон сбивал с ног метелью и режущим ветром. Злющий март мстил за преждевременное тепло февраля.
В Москве с Валерой простились друзья и коллеги, потом прошло отпевание в церкви, а после похоронный автобус и несколько машин двинулись на кладбище за 50 километров от Москвы. Приехать рассчитывали к часу дня.
Люська заранее уладила необходимые формальности и в полдень была на месте. Памятники Томкиного отца и деда временно демонтировали, свободного места в ограде – в обрез, не развернуться. Однако могила, несмотря на промерзший грунт, была вырыта, по бокам набросаны желтые пирамиды песка.
Томка позвонила с дороги:
– Будем через час – гололед и «пробки».
Люська уже основательно промерзла, но деваться некуда. Чтобы окончательно не превратиться в ледышку, она время от времени шевелила пальцами ног в меховых сапогах, притоптывала и подпрыгивала, но холод пробирал всё сильней. Ждать еще минут сорок. Она решила пройтись по расчищенной почти до асфальта широкой аллее, которая была здесь – главной. Сначала рванула почти бегом, но в сапогах и в длинной шубе далеко не убежишь. Замотав шалью нос и щеки, она почти дошла до братской могилы с Вечным огнем, когда под ноги плюхнулась пышная снежная шапка, обдавшая мелкой колючей россыпью и воздух, и лицо, и шубу. Высокая молодая сосенка со скрипом покачивала нижней разлапистой веткой, освободившейся от снега, как приманивала. Закаркали и закружили вороны. Под сосной – рослый сугроб, из которого виднелся красноватого гранита памятник. Сощурившись, Люська силилась прочитать имя, но буквы сливались под коркой льда. Мужское лицо. Взгляд прожигал насквозь и ледовую корку, и метель, и сумрак дня. Очень знакомый взгляд, которого ей так недоставало.
На граните был выбит портрет Мартинеса, копия с фотографии, висевшей годами на городской доске почёта «Они живут рядом с нами».
– Господи, – прошептала Люська, стуча зубами от потрясения и холода, – не может быть… Ты? Здесь? Рядом? Родной мой, пропащий, нашелся, любовь моя, ненаглядыш… ты?
Приподняв полы шубы, она почти нырнула в высокий плотный снег. Увязая, сделала несколько шагов до памятника. Провела рукой по камню, узнала глаза, брови, губы. Пригладила и без того послушные его волосы. Гранит не показался холодным. Он был теплей этого злющего воздуха и снега, не тронутого побегами солнечных лучей.
Мартинес слегка улыбался, как бы подтверждая: я здесь, это я – твой пропащий.
Люська припала губами к камню, слезы горячо пробежали вдоль носа.
– Вот ты где, – уже вслух говорила она, – то ли я тебя нашла, то ли ты меня окликнул, бросил эту снежную плюху. Не знала, где тебя искать, а ты, оказывается, рядом. Не обманул Валерка, бедный Валерка, сам к тебе поспешил и меня привел. Все мечтал замуж меня выдать… только куда уж. Теперь ты меня подожди. Теперь твой черед дожидаться, хороший мой. Сына на ноги поставлю, а там разберемся: «замуж – не замуж». Главное, встретиться.









































