Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
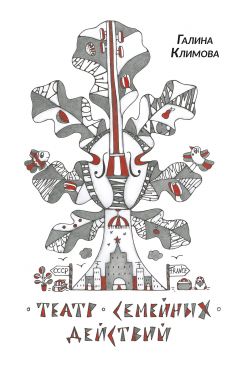
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Много позже, перебравшись в Москву, Олег – неординарно мыслящий медико-биолог, изучавший влияние солнечных циклов на исторические события, эпидемии и отдельные заболевания, последователь идей Чижевского, экспериментатор, испытатель. Но – сломанный человек с подорванной волей. Как рахитичному ребенку недоставало солнца, так ему с раннего детства – ни отцовской, ни материнской любви и ласки. Может, оттого так страшно пил?
Он любил свою дочь Надю и еще больше – внука Ванечку. Очень любил и бабушку Феню.
Что мы знаем о своих предках?
По женской линии, прабабушка Акулина, мать шестерых детей, из которых Феня, – самая младшая. Ее муж, прадед Захар Сидоров – скрипичных дел мастер, деревенский музыкант, счищая мартовский снег, упал с крыши своего высокого дома, ушиб легкие и вскоре умер.
По мужской линии, прадед Мойша Златкин – с могилевщины, из деревни Прянички, что неподалеку от Климовичей, из черты оседлости, – сапожничал, чтобы прокормить свою «чертову дюжину» – тринадцать детей. Он дожил до ста одиннадцати лет.
Сколько сапожников и крестьян!
Наверное, не случайно Тася так любила обувь и садово-огородные работы на своих шести сотках в деревне Полушкино. И звук скрипки – чистая нутряная нота ее судьбы.
Дальше четвертого колена не заглянуть, не помянуть. Сколько же людей выросло без корней, без гумусового горизонта! Как пустынная трава перекати-поле, катятся себе по земле, легко переносятся ветром на безумные расстояния, рассеивая по пути семена. Но придут непроглядные ноябри и диктаторские декабри, когда заноют и заболят родовые корни. Захочется взлететь веткой или любопытным сучком прозреть небо.
На дереве какой породы? Из какого леса?
Кое-что рассказывала бабушка Феня.
В их селе Пески на Ишиме появился неприкаянный и немолодой мужик из-под Венёва, из казацкой слободы – Роман Иванович Орешкин. Он сразу положил глаз на Феничку.
А Гаврила, считалось, пропал без вести. По всей Сибири красные крепко и страшно держали власть. Феничка, молодая соломенная вдова, без мужниной опоры устала: она рвалась жить в полную силу, не откладывая на завтра.
Роман взял ее в «жёнки» по новому советскому обычаю: без священника, без родительского благословения и даже без штампа в паспорте. Увез в дом своих дальних родственников. Жили уважительно, надежно, да и нельзя было иначе с этой домовитой и горячей Феничкой. Вскоре родилась Анна, Анёк-огонёк. Роман старался для семьи, много работал: по плотницкому делу, по столярному, по сапожному, и жили они не хуже других. Он любил на словах рисовать картинки городской жизни, рассказывал о фабрике – очень тосковал, наверное.
Еще до революции семья Орешкиных перебралась из Тульской губернии в соседнюю Московскую, в город Богородск, где размещались знаменитые на всю Россию мануфактуры текстильной империи фабрикантов Морозовых, производившие все: от бархата и шелка до муслина, ситца, сатина, бязи и прочих ходовых тканей. Уже в те годы красным вагоном громыхал по одноколейке трамвай, возивший фабричных рабочих через весь город, протянувшийся в длину по левому берегу Клязьмы от села Глухова до села Истомкина. Орешкины поселились в одной из многоэтажных краснокирпичных рабочих казарм в Глухове, которые и сейчас вместе со старинными фабричными цехами – исторический памятник промышленной архитектуры – стоят на улице имени давно почившей Советской Конституции, которую пересекает со странно уцелевшим названием улица Совнархозов. А рядом – 1-я, 2-я и 3-я улицы Текстилей.
До отъезда в Сибирь Роман Иваныч работал на крупной Богородице-Глуховской текстильной мануфактуре, в горячем красильном цеху, а для души – пел тенором в церковном хоре при старообрядческой общине. Сразу после революции старообрядцев жестоко преследовали, церкви рушили или употребляли под склады и овощехранилища, пользовали как клубы или кинотеатры.
В одном из таких кинотеатров Тася в детстве смотрела советские и зарубежные, большей частью польские, фильмы времен короткой хрущевской оттепели, а сейчас там вновь – дивной красоты церковь Божией Матери Тихвинской с мозаичными иконами на фасаде. С трудом угадываются: правый неф – бывший Красный зал, левый неф – Синий, а в центре – просторное фойе с буфетом, где на сцене (в алтаре!) под маленький оркестрик пела, пританцовывая, в вечернем платье с переливчатыми бусами из чешского стекла местная певица, мама Тасиной одноклассницы. Тут же продавали лимонад и мороженое Ногинского хладокомбината.
Орешкины – как семья победившего гегемона – переселились из казармы в центр города, в мазанку, точнее – в баньку, стоявшую на отшибе в бывшей купеческой усадьбе. Когда Феня с детьми приехали сюда, на Советскую улицу, перед ней разверзлась бездна: у Романа Иваныча на тринадцати метрах жилплощади, кроме матери, венчанная жена Евдокия и двое детей, а сам он – в запое.
Такого обмана Феня ему не простила по гроб жизни. Какими словами они объяснялись, не угадать, но семейное предание таково: как только Роман перешагнул порог, пригнувшись, чтоб не удариться о низкую притолоку, Феничка налетела на него и влепила с размаху такую затрещину, что он – с ног долой, и разбил о дверной косяк затылок, глубоко рассек кожу, пришлось в больницу везти зашивать. На обратном пути заговорил:
– Не серчай, жёнка. Потерпи маненько, я их в Ямкино к тетке свезу. Чужие мы друг дружке, не живем – маемся. Разве бы от хорошей жизни я в Сибирь сбег натурально, как каторжник? Но вот тебя, слава богу, встретил, и дочкой Анной мы связаны. Обе они мне – и Сонька, и Анька – дочки. Тебя люблю, а от тебя – и их, потому что – твои. Не ерепенься, Феня, прости. Жить буду только с тобой.
И слово свое сдержал. Но той надежной жизни, ради которой она с девчонками рванулась и махнула через всю страну, не вышло. Что-то разладилось в их семейном механизме. Радость, что ли, ушла? Феничка уже не пела, когда раскатывала тесто, а подшучивать или подначивать они с Романом как бы враз разучились. Оба посуровели, похолодели, затаились друг против друга. Она по-прежнему старалась экономно вести хозяйство, – стирала, кипятила, мыла, стряпала, содержала скотину и кур, следила за детьми, корзинами собирала лесные ягоды и грибы на продажу, и работала везде, где брали: санитаркой в больнице, подсобной рабочей на мебельной фабрике, научилась перетягивать пружинные матрасы и обивать мягкую мебель, а потом перешла на завод грампластинок, и тогда в доме заиграл новенький патефон. Чувство долга перед семьей было сильней, чем женские обиды и неустройство.
Роман пил все злее. В его зеленых глазах заметно поубавилось света, на лбу сбивчивой гармошкой заиграли морщины. Жизнь утекала унылая и бедная, одно утешение – поллитровку беленькой с дружками оприходовать, папиросок накупить. Частенько рукам волю давал, дебоширил. Ему нравилось зимними ночами гонять строптивую жёнку. И она, подвывая на холоде, будто чечетку отбивала босыми ногами, бегала между единственным окошком и запертой дверью. Куражился, потешался. Мог среди ночи и с кровати спихнуть: спи на половике, сучка стриженая, узнаешь, как мужа уважать… Особенно его бесили занятия в кружке ликбеза: Феня была самой смышленой, и учитель, молодой партиец, хвалил ее при всех. У нее вспыхивали щеки, голос звенел, и Феня соображала еще быстрей. Как это задевало, как шло поперек натуры Романа Иваныча, ведь он без подсказки не мог решить задачки из трех действий. Вот по ночам и сводил счеты с жёнкой, а вскоре и вовсе запретил строго-настрого:
– Нечего жопой вертеть да скалиться перед всякими недомерками! Ученой, вишь, себя возомнила. Может, и черта ученого тебе подыскать? Так я спроворю, я тебя, где надо, сам научу, а где не надо, проучу. Дома сиди, мужа бойся! Вот премудрость, вот вся твоя грамота бабья.
Единственная, кроме Библии, книга, прочитанная Феней от корки до корки, – роман Войнич «Овод». Сколько слез пролилось за Артура и Джемму! Позже они с Тасей уже вдвоем рыдали над Неточкой Незвановой, над бедной Козеттой и над судьбами диких животных Сетон-Томпсона. Потом в их избушку вошла поэзия в виде неподъемной антологии Ежова и Шамурина, ее дала Тасе – на год – школьная математичка. Эта книга открыла запрещенную поэзию Серебряного века. Тася просыпалась и засыпала под блоковскую «Незнакомку», под «Сакья-Муни» Мережковского или «Смехачей» Хлебникова. И Феня с удивлением участвовала в ее открытиях, всецело доверяя внучке.
Едва научившись держать деревянную ручку с перышком «звездочка», Феня пристрастилась к письмам, и даже выкраивала из скудной пенсии деньги на поздравительные открытки родным и знакомым. Сохранились ее письма Тасе «до востребования» в Тарусу, на знаменитый «сто первый километр», где уже шелестели «Тарусские страницы», где жили Паустовский, Штейнберг, Ватагин, и стоял дом деда Марины Цветаевой. Там, в пойменных заокских лугах Тася ловила бабочек для зачета по энтомологии, собирала гербарий водных растений в реке Таруске, рыла шурфы согласно курсу почвоведения, составляла ландшафтные и гидрологические профили или чертила в камералке топографические планы мест гнездования городских ласточек – так проходила ее полевая практика на первых курсах географического факультета.
В приложение к письму с обычным зачином: Моя единственная и неповторимая внучка… – Феня вкладывала бумажный рубль, который Тася тратила на пару банок кабачковой икры и буханку черного хлеба к общему студенческому костру, сэкономив еще мелочишку на кино. «Получила ли ты в прошлый раз мой рублик?» А внутри конверта уже богато зеленела трешка.
Роман Иваныч не прощал дочкам, что отличницы.
– Все, хватит, девки, пора к станку! Пора в шпульницы! Умней отца вам не быть, это неправильно и даже вредно.
Феня, бросаясь на него, как на врага, кричала:
– Последнюю рубашку продам, на черном хлебе с водой жить буду, но дети мои и в Москву поедут, и станут учеными. Еще попомнишь мои слова, самодур запьянцовский! Изверг нечеловечий!
Оказывается, у Фени была мечта.
Однажды в Пески приехали две молодые женщины. Издалека было видно, городские: обе стриженые, в туфлях и с маленькими, почти игрушечными, кожаными чемоданчиками. День, два, три ходили из дома в дом. Это были врач и медсестра из райцентра – они делали прививки против оспы. Феню сильно впечатлили белые халаты:
– Что это за жизнь, что за работа такая, чтобы каженный день в белых халатах, да в чистых. И сами как богыни.
Тогда же она пообещала перед иконой Николая Чудотворца: и Соня, и Аня будут так жить и так работать – в белых халатах. Когда Роман позвал за собой, Феня ехала не только к нему. Она поехала за новой жизнью. Ей, может, больше бабьего счастья хотелось выучить дочерей. А в Сибири, по ее представлению, учиться было вроде бы негде… Степь, голая степь – глазом не окинуть. Всю жизнь она благодарила Романа Иваныча, Тася много раз слышала:
– Спасибо, что вывез из Сибири, а то бы и по сей день в колхозе коровам хвосты крутили, хотя, конечно, и там не пропали бы. Я всякую скотинку очень люблю, и она меня понимает. Мы уважаем друг друга лучше, чем некоторые люди, – рассуждала Феня. – Вон как выдрессировала кур, вроде совсем безмозглые, а в саду не гадят, знают уже, где погулять, а где поклевать. И корова, и козы у меня всегда, как детки малые, все сыты и подмыты, и молоко навозом не пахнет. Потому от покупателей отбоя нет. Может, я бы даже и в председатели вышла – колхоза или совхоза, что там у них? Только я не партийка, а без этого – какой председатель? Зато в работе азартная. Может, и девки мои тоже бы выучились на агронома или на зоотехника.
Осознавая себя сибирячкой по природной сути, она как бы прикидывала на себя скроенную по советскому лекалу несостоявшуюся сибирскую жизнь:
– Нет, хорошо, что все-таки вывез нас из Сибири.
Это была главная заслуга Романа Ивановича перед семьей.
Но он об этом так и не узнал, потому что внезапно умер от перепоя на поминках своего трехлетнего крестника.
Все случилось по мечтам Фенички: и Соня, и Аня стали врачами, Аня – известным на всю страну профессором.
Только мама
приучала любить оливки,
по-русски – маслины.
В упрямстве ослином
я бежала этой культурной прививки
за тридевять жарких земель,
в рощи оливковых олеографий,
выстроенных в каре,
где любое древо – библейских плодов колыбель,
на аттестат зрелости сдавшихся в ноябре.
Только мама почти до зимы
Серой Шейкой плескалась в пруду
и, лыжню проложив ни свет ни заря
вкруг Новоспасского монастыря,
себя не тратила на ерунду.
По цвету лица узнавала гастрит,
колиты и язвы, особенно в марте:
покажите язык, – говорит, —
рельеф как на географической карте…
И всё кого-то спасала,
учёные книги писала.
Так впряглась, так работала на ура,
что рабочая лошадь вышла в профессора.
Но теперь —
ореховой легче скорлупки —
крутит на чистом пуху головой
наподобие ветхозаветной голубки —
её из ковчега выпустил Ной,
чтоб гулить дочкой моей родной.
А я мычу,
неисправно молчу
до самых азов любви:
мама, мама,
горячая моя точка,
мама,
последняя моя отсрочка,
поживи ещё, поживи!
Будто сорвавшись с резьбы, в голове прокручивался тяжелый шуруп, железно ввинчивая свое: во Фрязево, к Петру и Павлу, где кривились над черными болотами реденькие березовые леса, где крестили под звон колоколов, под бой часов с выбеленной колокольни под синим луковичным куполом.
Откуда этот самостийный сквозняк, гудящим волчком затягивавший во Фрязево? Может, по молитвам незабвенной Фенички, управившейся с земными делами в безжалостно жаркий день Петра и Павла?
Ведь именно Феня ввела Тасю в церковь. После менингита, коклюша и ревмокардита часто водила к причастию, после чего, надев пионерский галстук, Тася опрометью неслась в школу, хотя бы к четвертому уроку. Всевидящие соседи занудно стыдили: нельзя пионерке, ведь клятву давала, и ты, старая дура, знаешь, что за это… Погубишь девчонку.
Бабушка и ухом не вела. Куда она только не водила внучку за восемнадцать лет общей жизни! Но зато уже с шести лет Таська одна пригоняла из стада задиристую козу Розку – через железнодорожные пути, через тощенький лесок. На подходе к дому, разбежавшись, Таська крепко хваталась за рога и быстро вспрыгивала на Розку, отчего козья спина прогибалась, задние ноги подкашивались, Розка резко приседала, а Тасе надо было удержаться, чтобы с шиком прокатиться по Советской и на виду соседей и подруг, задрав нос, въехать во двор на козе. До сих пор, крестясь на икону «Вход Господень в Иерусалим», где Христос на белом осляти, Тася так и видит себя на Розке… Кощунница окаянная.
Разве выберешься во Фрязево?!
До станции Фрязево ну никак не доеду
ни на «гецике» борзом, ни на электричке,
хотя надо бы успеть – не для переклички —
к золотым Петру и Павлу
в среду на беседу.
На пороге для подмоги свой настроить глас,
непредвзятого трепеща ответа:
вы за что убавили светлый час
скоромимошедшего лета?
Пётр и Павел —
ни попрека, ни тебе нотации, —
вмиг признали пионерку, что рыдала
и, о маминой молясь диссертации,
Богоматерь в уста целовала.
И на Пасху, не забуду, —
поп, взмахнув кадилом,
попалил мои ресницы-брови-волоса,
точно причастил огнём,
а спасали – миром
да ведром воды святой,
– чем не чудеса!
И жива ль ещё могилка в этой местности
Пославской Елизаветы?
У кого б узнать,
не подлеском ли шумит моя крёстная мать,
учительница русской словесности?
Когда пришел срок операции, уже в Кардиоцентре непростительной дерзостью показалось Тасе непослушание внутреннему голосу. Со всей хваткой инстинкта самосохранения она перебирала в уме земные долги, невыполненные обязательства: вот выживу у тогда уж… Главной зацепкой в жизни оставалась мама, рухнувшая во всей своей немощи на ее нетренированные руки.
Оперировали Тасю в день Преподобного Сергия Радонежского. Уже накануне утешительно изнутри прояснилось: она – прихожанка храма Сергия Радонежского, и врачи ее – два Сергия: Дземешкевич и Королев, и муж ее нынче – тоже Сергий.
Что может случиться в такой день? Только – жизнь.
И Бог близок, как никогда.
Перед операцией, в шесть утра, когда медсестра, сняв с нее обручальное кольцо и нательный крестик, пошла класть их в сейф, Тася помолилась и выпила три глотка воды – маленькая бутылочка святой воды из Иордана давно хранилась в серванте. На всякий случай. И этот случай настал.
Внезапно из-под наркоза в Тасино сознание ворвались какие-то расплывчатые звуки, смазанные разговоры. Все слова всмятку. Твердо прокатился лишь голос Дземешкевича:
– Всем отойти от стола.
– Господи, я их слышу, слышу… Вот интересно! Наркоз не действует? Разнаркотизация? А операция еще не закончена. Но как об этом сообщить? Как просигналить?
Кроме мыслей, ничто – ни один нерв, ни одна мышца – не шевельнулось и даже не дрогнуло. Тася попробовала открыть глаза, – они не слушались. Тяжелые, как у Вия, веки обездвижены. Работало только сознание, но почему-то само по себе, независимо от тела. Наверное, вне тела. Что это? Душа или дух? Или то и другое вместе, живя своей вполне осознанной, отдельной, но совершенно нечувствительной жизнью. Значит, наркоз действовал только в пространстве тела? А душа и дух вышли в какое-то иное пространство, в иную реальность? И оттуда никакого знака или намека подать невозможно. Обратной связи не было.
– Разряд, – оглушила команда.
Тело мгновенно изогнулось, послушно подпрыгнуло и легко шлепнулось об стол: ага, дефибрилляция. Как у Джессики Ланж в фильме «Фрэнсис». И никакой боли. Никакого страха. Чудно как-то.
– Не хочет, – будто бы запнулся хирург.
– Сердце… сердце не заводится, – поняла про себя Тася. – Это бывает. Но, может, заведется? Сколько пугали, сколько предупреждали: пока на ногах, беги отсюда, а то вынесут вперед ногами.
– Еще раз. Всем отойти от стола, – диктовал Дземешкевич, – разряд.
И было уже совсем легко еще раз подпрыгнуть – оп-ля! – и шлепнуться.
– Пошло, заработало!
Сразу же началось многорукое и неприятно давящее копошение в груди. Будто чем-то ее начиняли, втискивали что-то объемное, намного большее, чем ее грудная клетка, наполняли содержанием, старательно утрамбовывали. Зашивают? Заканчивают? И Тася куда-то ухнула.
Оперировали три дня подряд: не могли остановить кровотечение из легкого. Уже в реанимации, когда она узнала о трех предыдущих днях, ей вспомнился Моуди с вертикальными лабиринтами и туннелями, как в дорогом аквапарке, с захватывающими полетами в трубах к свету или провалами в бездну, вид на себя сверху, выход в астрал. Ничего похожего: никуда она не летала, не выходила. Значит, и клинической смерти не было? А ведь она не из литературы и не понаслышке знала об этом: однажды во время обследования под анестезией сама пережила этот неправдоподобный восхитительный полет через взвихренный воздушный океан с нестерпимо яркими на черном фоне многоцветными вспышками звезд – не то морских, не то небесных. Была передозировка наркоза. Но Тася вернулась.
И теперь послеоперационная эйфория брала свое, и, выкладывая в ажиотаже подробности, Тася рассказала Дземешкевичу, что помнила из своего Зазеркалья. Он зорко вглядывался в нее, вникая в то, что было за словами: то ли проверял на адекватность после длительного наркоза, то ли по-житейски удивлялся. Не столько подробности занимали его, сколько непостижимый подтекст самой жизни, которая недавно так доверчиво и горячо пульсировала в его руках. Иногда он работал Богом, но – внештатно. И знал об этом.
– А ты – живчик, молодчина! Ведь крови в тебе почти не было! Сколько всего в тебя вкачали, не экономили, а ты лежишь себе – розовая даже, и улыбаешься во сне. Силен твой ангел-хранитель!
Ей вспомнился жаркий от средиземноморского солнца день, когда в жажде впечатлений они вчетвером раскатывали на машине вдоль и поперек небольшого острова Родос. Сверяя карту с дорожными указателями (здесь это не всегда совпадало), останавливались то в одной, то в другой деревне, бродили с толпой туристов или терялись в глухих улочках и закоулках, где совсем не было людей, но повсеместно и огромными семьями жили кошки – самых немыслимых окрасов, возрастов и нравов. Все устали от жары, хотелось искупаться и пообедать где-нибудь в таверне, но и в церковь Святого Пантелеймона, где хранились его мощи, тоже хотелось. Судя по карте, это было на западном побережье острова, возле населенного пункта Монолит. Дорога резко пошла в гору. Дохлый старый «Фиат» из проката еле тянул и задыхался, как астматик. На каждом новом витке серпантина мотор захлебывался и замолкал. За рулем сидел Николай – водитель со стажем и бывалый путешественник, но и он нервничал, вновь и вновь заводя мотор и вжимая в пол педаль газа. Тася была штурманом и сидела рядом с ним. Ужасное место. Ее ноги работали и на газ, и на тормоз. С каждым разом, когда замолкал мотор, все напрягались. Сережа и Лида затихли. Сзади подпирал поток машин, им сигналили, их обгоняли, строили рожи и крутили пальцем у виска. Николай вновь и вновь запускал стартер. За окном мощной стеной картинно тянулись пышные пинии – граница леса. Еще несколько витков, и неожиданно открывшийся вид на море, застывшее ослепительно синей гладью, очень порадовал. Есть! Высшая точка. Выдохнув, все вышли из машины. Мимо пролетали облака. Они быстро густели, закручивались вихрями и также быстро редели, рассеивались, таяли на глазах. Из долины снизу поднимался туман, клочьями забивая ложбины, оседая на плоских вершинах, скрывая на несколько минут и море, и даже ближние деревья. Потоки воздуха разной плотности и скорости неслись в своем природном хаосе, показывая живой видовой сюжет. Рядом торговали домашним вином, медом и оливковым маслом.
Лида спросила у продавца про церковь Святого Пантелеймона. Он развернулся в сторону моря и показал на огромный, торчащий, как зуб великана, горный массив – классический останец, обозначенный на карте названием Монолит. Там, на самой вершине белела церковь, к которой вели вырубленные в склоне ступени… их было немало. Каждый, наверное, прикинул про себя и путь до Монолита, и подъем по этим ступеням, и набирающую градус жару.
– Нет, это не для нас, не потянем!
– Я не рискну, боюсь за сердце.
– Да, не наша мера подвига.
Вглядываясь в недосягаемый храм, порассуждали, что по грехам и по маловерию не дойти до церкви. Огорченные, но смирившиеся, они сели в машину и двинулись дальше по такому же узкому и крутому серпантину, но уже вниз, что тоже было страшновато, но «Фиат» тормозил лучше, чем заводился.
– А если эта дорога ведет в никуда? – предположил Сережа.
– Как это «ведет в никуда», не каркай…
Когда спустились, то оказались на замкнутом крохотном пляже, и единственной дорогой было – море.
Теперь неприятно напрягала мысль о том, что надо возвращаться, опять ехать по этому кошмарному серпантину, опять вверх, машина наверняка заглохнет – и не раз, и неизвестно, чем все кончится.
– Это бесы нас водят, – вынесла приговор Лида, – мало того, что к Пантелеймону не допустили, так еще и куражатся.
Николай завел мотор с первого раза. Подъем начался в тяжелом молчании. Их никто не обгонял, не подпирал сзади. Ехали в полном одиночестве, вслушиваясь в ритм работающего мотора. И «Фиат» не подвел – все-таки мировая марка, и Николай показал класс.
Спустившись с перевала, въехали в очередную деревушку, и сразу захотелось выйти, расслабиться, кофейку попить. Остановились перед церковью.
– Что это? Где мы?
– Церковь Святого Пантелеймона, пошли!
И они нырнули в прохладный полумрак, пропахший ладаном.
– Как греки почитают целителя Пантелеймона! И тут, и там ему молятся.
– Спроси еще раз, где его мощи?
Лида подошла к свечному ящику, где женщина раскладывала сувениры. И та в ответ что-то залопотала по-гречески и, сильно жестикулируя, стала тыкать пальцем в самый центр храма. Значит, мощи – здесь?! Вот это да!
В этот момент в храм ввалилась группа паломников. Ба, русские! Они тихо переговаривались, крестились, покупали свечи. Вдруг женщина прекратила торговлю, замахала на всех руками и указала на алтарь. Оттуда вышел маленький священник, заросший большой черной бородой до самых глаз. В одной руке он держал корзину с ломтями белого хлеба, в другой – плоскую серебряную шкатулку. На круглом столике перед алтарем разместил корзину, рядом – шкатулку, которую сразу же открыл.
– Мощи, – ахнула Лида, – ковчежец с мощами!
Священник прочитал молебен, хлебы окропил вином, а потом разрешил приложиться к мощам целителя Пантелеймона, благословил каждого и дал с собой святые хлебы, кому два, кому три кусочка. Из храма вышли с дарами. Вышли в полном потрясении.
– Господи, – почти прошептала Лида, – ведь надо же было заехать в эту тьмутаракань, о которой мы знать не знали, и именно тогда, когда приехали наши паломники. Ведь это для них – не для нас! – открыли храм и вынесли мощи. И никакие бесы нас не водили, – ее глаза засветились – это ангелы и святой Пантелеймон привели нас в это место и в это время! Поздравляю, господа, с нами случилось чудо!
– Невероятное совпадение, – устало согласился Николай.
– Силен твой ангел-хранитель, – донеслось до нее снова, – радуйся, можешь теперь дважды в год отмечать день рождения.
Детский день рождения запьянел уже от первой чашки чая с кагором. Дарили шоколадки, шкатулки, копилки, фарфоровые статуэтки, авторучки, капроновые ленты и, конечно, книги. На столе – плюшки с изюмом и клюквой, рогалики с маком, пироги и глазастые ватрушки. А в главном пироге таилась копеечка, – если найдешь, то этого копеечного счастья на весь год хватит.
Феня (на Тасином языке – Нимфа, из-за ее крепдешинового зеленого выходного платья) пекла легко и с азартом. В голодные военные годы она работала на хлебозаводе всего три месяца. Потом за две сайки, которые она вынесла в бюстгалтере для трехлетнего внука Олега, посадили в тюрьму. Дали два года, по году за каждую сайку.
По природе Нимфа – классическая некрасовская женщина, ходячая хрестоматийная цитата про коня на скаку и про горящую избу… При советской власти – беспартийная стахановка. Такой оставалась и в тюрьме. Через девять месяцев отсидки с наградным мешком белой муки за примерное поведение и высокие показатели в социалистическом труде осужденная Федосья Захаровна Калганова вышла на волю.
Когда Юра Леснов пришел знакомиться к ним в коммуналку на Ново-Басманной, Феня обрадовалась:
– Туз, как есть, туз, козырный туз пришел! Если ты выйдешь за него замуж, Таська, я могу спокойно умереть.
Через полгода после свадьбы Феня умерла.
Это был день Петра и Павла.
Вот и первое Тасино путешествие в сибирский город Петропавловск не случилось бы без Фени, без святых Петра и Павла.
Тасе почти шесть лет.
Феня с утра ворчит:
– Бросили девчонку, как мячик. Родители, называется. Ни продуктов, ни денег, когда еще сандалики обещали купить, лето проходит, а ты в резине, в ботиках шлендраешь. Нельзя тебе, ты – ревматик, сердечница. А они даже глаз не кажут, черти полосатые. Душа у них в пятках и не болит.
Это она про Тасиных родителей.
А потом про Тасю:
– Вот отвезу тебя в Москву, в ихний Зацепский тупик и поставлю около двери, как бутылку с молоком. Пусть хоть недельку поваландаются, порастят свою дочу, дочечку единственную. Пусть хоть разок отпуск возьмут твои бесстыжие мамка-папка, Москву покажут, в мавзолей сводят или хоть в цирк. Кстати и узнают что почем. А я зачуток отдохну. В Сибирь, например, скатаю. К Марфе, к сестре. Может, хватятся, дойдут своим высокоученым умом, если сердце напрочь окаменело.
Но никто не хватился.
И через несколько дней они обе, разобиженные и зареванные бабушка и внучка, самовольно уехали в Сибирь: трое суток в плацкартном вагоне до Петропавловска, а потом еще на попутке по степи четыреста километров до села Пески. Там жили Ивановы и Балабановы: Марфа с мужем Федором и их многодетная дочь Маруся со своим не просыхающим от пьянки мужем-трактористом, тоже Федором.
Феня приготовила гостинцы: платки, ситцевые и бумазейные отрезы, одеколоны, а Марфе – пуховую козью шаль. Уговорила Тасю расстаться с целлулоидным пупсом и заводным поросенком, играющим на скрипке и посему одетым в черный концертный фрак. Накупила мешок печатных пряников:
– Для детей, для кыргызов. Увидишь, как они будут липнуть, за машиной бежать, а мы им – гостинцы московские.
В Петропавловск приехали ночью и до утра куковали на вокзале. Кассирша в окошке, милиционер, дежурный по станции, – все были в курсе: женщине с девочкой нужна машина. Ввечеру подкатил грузовик, попутчиков собралось немало. Люди покидали вещи и ловко перекинулись в открытый кузов, а женщина с девочкой сели в кабину. Пока мужики курили, женщины перешептывались: шофер-то – немец, видать, из заключенных, левая рука без двух пальцев. Когда сели в кабину, Тася вся вывернулась, чтобы разглядеть беспалую руку:
– Дядя, новые пальцы у вас никогда не вырастут, вы взрослый. У вас и новые зубы не вырастут, а мои – уже лезут, – и она улыбнулась во весь рот.
Тут же получила от бабушки хороший тумак:
– Спи, болтовило, всю ночь ехать.
Спать категорически не хотелось. В грузовике Тася никогда не ездила, а это интересно: на свет выводить тьму, перенаселенную, живую, где летало и билось о стекло что-то невесомое, волшебное.
– Снег, что ли?
– Да откуда же снег летом? Мотыльки это, ночные бабочки.
– А это кто? – Дорогу перебежал маленький длинный зверек.
– Горностай, – подсказал шофер, – слыхала по такого? Из него цари себе шубы и воротники шили.
– Шубы из такого маленького? Из горностайки?
В боковом стекле, подпирая небо, неожиданно мягко выкатывались горы. Точнее – горная вереница, стайка, этакая горностай-ка, готовая сняться с места, сбежать от зимы, от самого царя, чтобы вдруг не стать шубой или воротником.
– Урожай-то какой! – ахала Феня. – Горы зерна… прямо как в песне: когда б имел златые горы… Успели бы убрать до дождей.
– Однако что-то уберут, что-то – скоту, а что-то – в землю уйдет и станет дорогой, золотой новый Сибирский тракт, – рассуждал шофер. – Где машины-то уборочные взять? А крытые зернохранилища? А технику? Голыми руками да лозунгами, известное дело… Никаких соцобязательств или, как там, трудовых рекордов, похоже, не взять, не светят, однако.
Прямо из-под колес выскакивали ослепленные зайцы. Тася покатывалась со смеху: машина-то их не догонит, ни за что… одного все же догнала.
Долго горели на щеках слезы, и глаза уже ни на что не смотрели. От радости до печали так близко. И не только в детстве.
К рассвету приехали в Пески, где их не ждали: телеграмма не дошла.
В просторном, но низком и темном доме земляной пол был застлан связанными из разноцветного тряпья половиками. И со светом – не разгуляешься: то есть, то нет. Но зато скотина своя – две коровы, пара лошадей, небольшой гурт овец, свинья с поросятами, куры и собаки. И еще – огромный огород, а за ним – бахча, а за ней – в спокойной раздумчивости протекал неширокий Ишим, где ловил любимую красноперку дед Федор.









































