Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
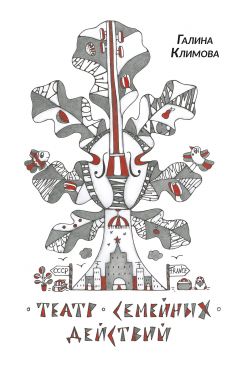
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
В первую же ночь они почти не спали: кто-то кричал, плакал, а Феня с Марфой долго возились, переговаривались, шептались, носили, гремя ведрами, воду. Тася села в кровати, вникая в происходящее, бабушка приложила палец к губам:
– Тихо! В доме маленькая девочка, она только что заснула, ее зовут – Галочка. Утром увидишь.
– Так это она всем мешала?
Тася не понимала: ложились спать без Галочки, проснулись – с Галочкой да еще в Марусиной постели, а ведь ни Зина, ни Петя, ни Катя, ни Коля не спали с мамой в одной постели.
Утром Марфа накормила всех горячим хлебом и только что сбитым маслом. Маруся дремала, сбросив тяжелое ватное одеяло. На ее груди лежал какой-то тряпичный кулек, из которого чуть высовывалась черноволосая голова.
– Это Галочка! Подойдите, дети, не бойтесь, вот ваша младшая сестричка, смотрите, как птичка чернявенькая, а глазки светлые. Настоящая галка.
– Откуда она взялась, теть Марусь? – не выдержала Тася. – Вчера ее не было.
– Как откуда? Из капусты она. Вон, пойди на огород, там в самом огроменном лохматом кочане…
Схватив Феню за юбку, Тася потащила ее в огород. Твердые кочаны блестели на солнце тугими бесшабашными головами.
– Да вот, глянь, какой лохматей, рвань, развалюха, – остановилась Феня, – здесь и нашли малютку, прямо в этих листьях… Она, беднюсенькая, так плакала и от холода, и от страха, а мы с Марфой, как услышали, сразу ее в дом, – обмыли, закутали в пеленочки, в одеяльце, а потом Маруся ее накормила, и малышка успокоилась.
Тася успокоиться не могла и не поверила, родившись в послевоенной голодной Москве, где огорода с капустой днем с огнем не сыскать, тем более в декабре.
Тасины родители, Аня и Даня, купив на последние деньги первый в семейной жизни утюг, шли по Коровьему Валу к своему общежитию. Промерзшие, с запорошенными снегом бровями и ресницами, они раскошелились на пару горячих бубликов и кофе с молоком, от чего, может, у Ани и начались родовые схватки. Они с трудом дотащились до ближайшего роддома, но там их не приняли по классической причине: вы из другого района. Поймав такси, они помчались в «свой» роддом у Крестьянской Заставы, где чуть ли не в приемном покое Тася до срока поспешила явиться на свет. Виной тому– новенький утюг.
Через полтора месяца материнства Аня серьезно заболела. Молоко пропало, а ее положили в больницу на операцию. Тасю, совсем еще кроху, в самые крещенские морозы Феня на автобусе привезла к себе в Ногинск. Ей пришлось не только бросить работу в литейном цехе Электростальского металлургического завода, где она прилично зарабатывала, почти наравне с мужиками, но и срочно подыскать внучке кормящую мать, здоровую и чистоплотную. Далеко ходить не пришлось, соседка Катя Назарова, лупоглазая и скуластая татарка, недавно родила Наташку, третью дочку, и молока у нее было хоть залейся.
Тася и Наташка, когда им было лет двенадцать-тринадцать, любили летними вечерами играть в «чур, это я!»
Неподалеку от их дома за глухим кирпичным забором располагалась трехэтажная картчасть – военное режимное предприятие, где работали девушки-чертежницы и картографы. Ровно в шесть вечера, когда заканчивался рабочий день, они пестрой щебечущей стаей выпархивали на улицу, оставляя за собой шлейф из запахов пудры, одеколонов и духов, на какие была способна отечественная парфюмерия. «Красная Москва», «Кармен», «Камелия», «Ландыш».. Парами, шумными компаниями и по одиночке они заполняли улицу. Блондинки, брюнетки и натурально рыжие, толстые, тощие, со стрижками, пучками и даже с косами. Много крепдешиновых и крепжоржетовых платьев, белых шелковых кофточек с атласными отложными воротниками, плиссированные юбки… Но главное, главное – это шляпки. И даже не шляпки в обычном понимании – от дождя или для тепла, – а узкие «корочки», плетеные или лаковые – бессмысленные и бесполезные – разноцветные, но чаще всего черные «корочки» от уха до уха, украшенные сбоку букетиком искусственных цветов или бантом.
Тася и Наташка выбирали глазами – кто скорей? – самую красивую девушку, понимающе переглядывались, и со всех ног бросались за ней, как за жертвой, а догнав, заглядывали в ее расширенные от неожиданности глаза, крича при этом – кто громче: «Чур, это я! Это я, я!»
Так хотелось быть красивой…
Тася росла в той самой избушке, куда в 1924 году из Сибири приехали Феня с Соней и Аней. С весны и до осени Тася жила в саду: делала уроки, читала стихи, полола морковь и редиску, назначала свидания, целовалась, играла на скрипке, спала в гамаке или на раскладушке, завтракала и обедала вместе с Феней за большим самодельным столом. Он стоял – как солнце – в центре сада под раскидистой сенью трех мощных, хорошо удобренных навозом антоновок, за которыми теснились живой изгородью малина, зеленый крыжовник и черная смородина. Позади избушки, с фасада увитой синими и розовыми вьюнками-граммофончиками, прилепились курятник и латаный-перелатаный сарай с коровой, козами или поросятами – в зависимости от положения в стране с фуражными кормами. За этими кормами по зиме, притопывая негнущимися валенками, с четырех часов утра Феня с Тасей выстаивали хвостатые черные очереди, и в детскую ладошку химическим карандашом вписывали равноправный со всеми номер. За восемнадцать лет Тася приросла к Ногинску вместе со скрипкой и с праздничными концертами в городском театре. И на вопрос сердобольной соседки:
– Феня, бедная, куда ж ты деёшься, когда твоя Таська часами на скрипке скрипит?
Феня невозмутимо отвечала:
– Не перживай. У меня каженный день – концерт на дому. И радио без надобности. У меня все свое: молоко, яйца, яблоки – и музыка тоже своя. Ты, например, про Вивальдия-то хоть слыхала? Или, про энтого, как его, тьфу ты, про Страдивари?
Где-то скрипка моя обо мне плачет,
где-то тоненько меня матушкой зовёт,
а смычок – её мальчиш – и того паче,
канифолью тронет волос
и подкрутит, и порвёт.
Что ей ноты на пюпитре, поворот ключа?
Взмах от взмаха, цифра к цифре,
наизусть, без толмача
музыка росла с плеча.
Пальцы-птицы, ноты-крюки,
деревянное крыло!
Это Глюк? Скорее глюки,
солнце в темечко пекло…
Риторические эфы,
чистоплотный сильный звук,
здесь насквозь не русский дух:
это эльфы, это эльфы
пили-ели прямо с рук,
как в Ногинске на вокзале,
где слепой играл на слух…
Страдивари, Страдивари —
так дразнили или звали
всех, кто пел, кому поётся,
задыхаясь от высот,
как залётной певчей твари,
урождённой Страдивари,
что играючи страдала
и страдаючи спасёт.
Феня гордилась Тасиными стихами, напечатанными в районной газете «Знамя коммунизма». Внучка принесла тогда, считай, первую получку или, как она выражалась, аккордный гонорар. Трешник!
«Ну, и девка, – дивилась Феня».
С тех пор она носила в хозяйственной сумке эту самую газету, показывая ее, уже обтрепанную и замурзанную, всем встречным-поперечным. Одно коротенькое стихотворение про снежинку Феня даже знала наизусть. Знала, что Таську напечатали как самого молодого – ей было четырнадцать лет – члена городского литобъединения.
Местные прозаики и поэты – взрослые, семейные, в основном работяги, но были среди них врачи, учителя и военные. Собирались в краснокирпичном здании горкома партии на Советской улице, где размещалась редакция газеты. На обсуждения заглядывали городские сумасшедшие, чудики и библиофилы. Но куда им было до руководителя лито, неподражаемого Фавста Иннокентьевича Тимирязева!
Фавст Иннокентьевич – «маленький» гоголевский человек совершенно замечательной невзрачности: тщедушный старенький мальчик с черепашьими глазками за толстенными стеклами круглых роговых очков. И летом, и зимой в мешковатом костюме цвета пыли, под черными парусами сатиновых нарукавников. Казалось, он заживо похоронил себя, закопал глубоко и надежно. Наверное, от страха. Наверное, его предки были из дворян или священнослужителей, а он – среднестатистический советский гражданин, производственная единица. Определяющий признак – портфель, придававший ему вид колхозного счетовода, бюрократа и неудачника.
– Опять приходил твой старичок, – так ласково называла его Феня, не в силах выговорить столь непривычное имя, и за одно это безмерно его уважая. – Не забудь, сходи на заседание, очень просил. Я ему чайку поднесла, а он сахарку всего-то один кусочек посуслил, уж такой, – она безнадежно махнула рукой, будто кому-то вслед, – сел вот тут на лавочку, привалился вот так спиной к забору, – Феня не поленилась все это изобразить, – а встать сил нет, в чем душонка держится. Никем не обихоженный, видать.
В этом почти блаженном чудике жил – в строгой аскезе – лирический поэт. Он писал стихи квадратиками, ромбиками, треугольниками и какими-то другими фигурами, похожими на чертежи, змеистые серпантины, развернутые поливальные шланги. Непризнанный поэт Тимирязев пережил гонимую визуальную поэзию, продолжая дело футуристов, что при его внешности и образе жизни воспринималось как оксюморон. У него был дар любить чужие стихи, узнавать вещество поэзии и в косноязычии начинающих, и в штампах отпетых графоманов. Лишенный зависти и тщеславия, он с детской радостью отмечал у других находки и удачи. Сам не издал ни одной книги своих стихов. Кому достался – если и был – его литературный архив?
Тася с бабушкой жили почти натуральным хозяйством. Денег было маловато, но зато много молока, – на завтрак, на обед и часто вместо ужина. По утрам в банках и бутылках Тася разносила молоко постоянным покупателям – местной партийной номенклатуре из многоэтажного Дома Советов. Этот дом стоял, как и положено по статусу, на улице III Интернационала, в самом центре города. Центр при этом выглядел довольно странно: с одной стороны, стратегически важные банк и почта, с другой стороны, для отдыха и свиданий – полный сирени, жасмина и полыхающего боярышника сквер, при входе в который на должной идеологической высоте, на пьедестале, выкрашенном белой краской, в полный рост стоял Ленин, покрытый свежей серебрянкой. Он куда-то вглядывался поверх людей и даже поверх крыш, устремившись – и телом, и мыслью – за своей непропорционально длинной и тяжелой правой рукой, которая, казалось, должна вот-вот перевесить его, и он повалится на газон.
– Зачем дедушка Ленин поднял руку? – спросила у отца маленькая Тася. – Куда он показывает?
Отец поправил и без того хорошо лежащие, будто набриолиненные, волосы, затянул потуже галстук, зачем-то поддернул по-стиляжьи узкие светлые брюки и без запинки объяснил:
– Он зовет. Он всех взрослых зовет «Вперед!» А детям, таким неразумным и непослушным как ты, доча, показывает, где дом, чтобы вдруг не заблудилась в городе.
Тасю ответ не убедил. Она даже решила, что не будет больше гулять по городу с отцом, хотя ей так нравилось брать его под руку, совсем как взрослой, нравилось нюхать запах его горохового твидового пиджака. Пока мама писала диссертацию или научную статью, отец водил ее в кино, покупал запрещенные мамой газировку и мороженое. Это был их общий секрет. А секреты сближают.
– Ты не понимаешь, – громко возразила она. И повиснув на отцовской шее, вдруг жарко выдохнула в мохнатое ухо, – Ленин на тюрьму показывает!
Почти напротив главного в городе памятника за высоким глухим забором с колючкой, за железными воротами со снующими туда-сюда «воронками» виднелось сильно обшарпанное здание пересыльной тюрьмы, в котором с трудом угадывалось сходство со старинным тюремным замком. На окнах решетки. За решетками иногда мелькали тени. А на боковой улице – заплаканные женщины, приехавшие на свидание. Они ловили долетавшие из окон спичечные коробки или шарики хлебного мякиша с записочками, крепко примотанными нитками.
– Ведь сначала тюрьма, а уж за ней – дом, – с бабушкиной интонацией рассуждала Тася, разводя руками.
Первые детские воспоминания: много солнца, не находящего себе места в комнате. Жизнь – солнечна, и она в ней – очень мелкая прибрежная галька, омытая водами материнского моря. Детская кроватка с зелеными металлическими прутьями, похожими на гибкие водоросли, стояла у теплой стены, за печкой. Бабушка долго не верила, но Тася убедительно описала кровать и показала место, где она стояла. Едва научившись ходить и говорить, она часто упиралась и упрямилась: сама… я сама. Падала, разбивалась, но при попытке помочь заходилась – до синевы – криком, сдобренным – ливень с градом – слезами: сама. Живой пример врожденной самости, с годами развившейся до мазохизма. Самость разве скроешь? Говорят, ген самости передается по наследству.
– Доча, кем ты будешь, когда вырастешь?
К ужасу домашних, без стеснения и без логопедических дефектов Тася, победно оглядывая окружающих, выпаливала мгновенно: миллионером!
Это в эпоху развернутого строительства социализма, в стране победителей, где дедушка Сталин видел каждого насквозь, потому что не спал ночами в своем краснозвездном Кремле…
Вместо того чтобы, стоя на табуретке, громко и с выражением читать: «Я – маленькая девочка, играю и пою, / Я Сталина не видела, но я его люблю», – в этой стране мечтателей и чудиков Тася хотела стать миллионером.
Вряд ли слово «миллионер» было из семейного лексикона.
Маршаком, что ли, объелась, стихами про мистера Твистера? И ведь мало было стать любимой женой или единственной дочкой этого мистера Твистера, как в книжке, так нет, мечталось, чтобы миллионером стала сама.
Кто же не помнит своих первых рифмованных строк?
Даже еще не стихов, но их зародышей.
Мы жили на даче в подмосковном селе Петрово-Дальнее.
Там шло строительство городской онкологической больницы, и папе как инженеру выделили служебную дачу, чтобы не мотался в Москву. Дача высокая, с мезонином, со всеми городскими удобствами и с верандой, подсвеченной окошками из разноцветных стеклянных треугольничков. Эти дачи до сих пор там сохранились как образец послевоенной роскоши для народа. Отец, очень гордый, тут же выписал своих родителей с Украины, из жаркого и пыльного Николаева. Они приехали с младшей внучкой Зиной, моей ровесницей. Для объединения семьи вскоре и меня – в слезах – привезли.
Началась подневольная дачная жизнь. Я всего однажды гостила в Николаеве у бабушки и дедушки, очень стеснялась, дичилась и вдобавок ревновала к ним кузину-Зину. Чуяла печенкой, что она – родная внучка, а я – как бы двоюродная. Нехотя подчинилась другому распорядку. От прежней жизни при мне осталась только скрипка, но играла я помалу и вполсилы. Было сиротливо, и по ночам – от жалости к себе – я под одеялом размазывала по щекам слезы. Днем все как-то сглаживалось походами в лес за грибами и за малиной, купаньем в еще не заросшем голицынском пруду, но больше – игрой в пинг-понг с соседской ребятней, ни с кем не играл только мальчик с редким именем Юлик. Бледный и молчаливый, обычно с книгой, он сидел в самой густой тени, и однажды, оторвавшись от книги, объявил нараспев:
– Завтр-ра мой день р-рожденья, но я не смогу пригласить вас всех, пар-р-рдон…
Играть в теннис сразу стало не интересно. Мы с Зиной пошли к себе, и она объяснила:
– Слышала, как картавит? Думаешь, не выговаривает букву «р»? Он специально так говорит, называется «грассирует». Его за это даже во французскую спецшколу приняли.
Эти слова прозвучали как приговор: Юлик, который учится в Москве во французской спецшколе и красиво распевает букву «р», никогда не пригласит меня, такую толстощекую, с веснушками, такую деревенщину… никогда. А Зина готовилась к празднику.
– Напишу стихотворение и подарю с автографом. А ты сыграй что-нибудь на скрипке, например «Веселый крестьянин». У тебя здорово получается!
После обеда нас как маленьких укладывали в постель, хотя спать было не обязательно. Зина пыхтела и что-то бубнила, накрывшись простыней, а потом сбрасывала ее и быстро писала, но еще быстрее стирала написанное, и тут же опять писала столбиком. Лицо ее раскраснелось и стало красивым. Она точно знала, что делает:
– Готово! Вот! Про партизан, про пионеров, как они погибли, но фашистский поезд взорвали.
Скрипка не шла в руки. Я не стала ужинать, не стала гладить платье-матроску, только помогла Зине накрутить на бумажки ее короткие волосы. Все улеглись спать, как обычно, будто ничего не происходило и заранее было известно, что завтра Зина со своим героическим стихотворением пойдет к Юлику, а я с «Веселым крестьянином» останусь дома. Не спалось и даже плакать не хотелось. Хотелось умереть. И я видела, как в день рождения Юлика меня будут хоронить в гробу, похожем на мой деревянный скрипичный футляр, в неглаженом платье, с косичками-бараночками, как будут плакать бабушка и дедушка, зарыдают мои родители, особенно мама… Но где же Зина?
Сюжет увлекал. Образы уносили в какое-то другое пространство, где невидимый метроном диктовал ритм, а на него, как бабочки на свет, летели настоящие, самые нужные слова, близким или дальним эхом тянувшие за собой рифмы. Это были стихи. Только бы не забыть до утра!
Летнее утро – скорое, и я босиком вбежала в кухню, где уже завтракал отец. Вот кому я могла доверить ночную тайну, вот кому…
– Что ты такая встрепанная? Всю ночь что-то бубнила, вскрикивала, наверно, тоже стихи сочиняла? – ласково спросил отец.
Я впала в ступор. Я не помнила ни полсловечка. Ни-че-го.
И вдруг шепотом:
Как живется тебе,
моя бедная дочь,
на том свете?
– Что? Какая дочь? Какой «тот свет»? – Отец почти задохнулся. – Это твои стихи? Откуда эта мистика в двенадцать лет? Ты же не чахоточная поэтесса, ты здоровая девочка, пионерка, а тут декаданс в чистом виде. Одна строка, разве это стихотворение? – он перестал жевать. – Правда, у Брюсова есть «О, прикрой свои бледные ноги», – продекламировал он, – но все уже было, тысячу раз было, дорогая моя девочка! Ты далеко не первая. Все уже хожено-перехожено, все уже написано в русской литературе. Я и сам когда-то… Но тебе еще рано! С чего это ты вообразила себя матерью, а? И почему умерла дочь? Нет, тебе так нельзя, запомни! И бери пример с Зины, ее стихи в «Пионерской правде» напечатаны.
И вдруг строго в самое ухо:
– Никому не читай! Не смей, слышишь, забудь!
Я была потрясена собственным провалом, но более того – чувством отчаянного одиночества в своей семье.
Юлика с его днем рождения больше не существовало.
Папа перестал быть моим доверенным лицом.
Зина после замужества работала воспитательницей в детском саду.
Я долго не писала стихов, пытаясь вернуться к самой себе, найти вход в потаенное пространство, которое мне открылось той ночью на даче в селе Петрово-Дальнее, где мне леталось и пелось, а губы сами шевелили чистый воздух рифмующихся слов непонятно как случившегося стихотворения.
Отец любил играть в буриме, писал лирику – и пейзажную, и любовную в духе символистов, – был неплохим версификатором. Он писал и дневниковую прозу, а в последние годы жизни, будучи секретарем Совета ветеранов Карельского фронта, увлекся военными мемуарами.
Совсем недавно нашелся его голос в интернете.
Это было невероятное потрясение: услышать голос отца почти через десять лет после смерти. Из космоса? Из вечности? Родные интонации, узнаваемый – без искажений возрастом и временем – теплый тембр. И там же нашлись воспоминания из его фронтовой жизни. Вот они.
3-го июля 1941 года после выступления по радио тов. Сталина я вместе со всеми пошел в народное ополчение. Там узнали, что я сапер-подрывник, младший командир – три треугольничка, и назначили старшиной отдельной саперной роты. Дали мне человек триста. Почти все инженеры, были и кандидаты наук, и даже поэты, писатели и композиторы, кто угодно, но только не рабочие, – редкий случай в саперной роте. Я всех построил и как рявкну: становись! Повел в парикмахерскую, и несмотря на злобные выпады их постригли-побрили, потом – баня. Через день мы вышли из Москвы и прошли по Можайскому шоссе около тридцати километров, до деревни Толстопальцево, где началась армейская жизнь: овладение оружием, боеприпасами, подрывными средствами. Однажды меня вызывает дивизионный инженер: – Надо поехать в Ивановскую область и получить шесть тонн взрывчатки. Возьми 150–200 противопехотных и противотанковых мин и пять-шесть кухонь. Даю тебе взвод солдат и машину.
– А на чем же я все это богатство повезу обратно?
– Ты сапер или самозванец?! Каждый сапер должен соображать, где что взять.
Проезжая Подольск (с какой стати мы там оказались?), я увидел автобазу. Подхожу к директору автобазы, наган на стол:
– Ты здесь в тылу жрешь, а мы воюем (хотя мы еще пороху не нюхали).
– Что надо?
– Минимум двенадцать автомашин, чтобы привезти взрывчатку.
– Где я их возьму? У меня разнарядка.
Тогда я своим ребятам отдаю команду:
– Ни одной машины не выпускать, но впускать любую!
Директора запер в кабинете и поставил часового. Собрал шоферов:
– Ребята, у меня с собой два мешка сухой колбасы, два мешка хлеба и полмешка сахара. Водки и консервов нет. Нам надо поехать в Ивановскую область, получить там взрывчатку и другие нужные для войны материалы. Кто поедет?
Согласились все. Я собрал пятнадцать машин и выезжаю с этой кавалькадой. Еду через всю Москву до места, потом – обратно. Глубокая ночь. Останавливаемся на Метростроевской улице, где мы формировались, в Институте иностранных языков.
– Ребята, до 4-х утра всех отпускаю, остаются трое. Ровно в 4 уезжаем, понятно?
Сам я спланировал заглянуть к знакомой девушке, и все знали, куда. Мы с ней только поужинали, как вдруг стук в дверь. Входят два милиционера:
– Это вы взрывчатку привезли в Москву? Вы старший?
– Я старший.
– Вы что, опупели, что ли?! Москву с минуты на минуту начнут бомбить! А вы возле самого Кремля остановились! Вас арестуют и расстреляют!
Я трухнул и решил сблефовать:
– Какая взрывчатка? Вы что?!
– А что в машинах, что в ящиках?
– Там инструмент, фонарики электрические от машин.
– Пошли разберемся.
Подходим. Спрашиваю у своих:
– Кто сказал, что здесь взрывчатка?
Все молчат.
Я говорю:
– Это не взрывчатка, это инструмент. Милиционеры постояли, смотреть не стали:
– Мотайте отсюдова поскорей!
Приезжаю в свою роту, где должен сдать инструмент, взрывчатку и мины на склад. Но тут мой комбат Майский:
– Привезли?
Я ему все рассказал.
А он:
– Знаешь, что? Вы этот ящик с фонариками не сдавайте на склад, оставьте нам.
– Товарищ командир роты, не имею права.
– Я вам приказываю!
– А я не выполню.
Он как закричит:
– Повторите приказание оставить ящик с фонариками!
– Ее повторю приказания.
– Я вас сейчас расстреляю!
– Расстреливайте!
Он вынимает парабеллум. У него, вижу, пена на губах, ногами топает и кричит изо всех сил:
– Повторите приказание!
Я расстегиваю гимнастерку:
– Стреляй! Повторять приказания не буду!
Майский кидает пистолет на пол, пилотку на пол, топчет ногами. Больной, видно, человек, психически расстроенный. Так меня чуть не расстреляли в первый раз.
Я перестал быть старшиной этой роты и попал во взвод к моему приятелю Васе Карпенко. Через день к нам приехал какой-то вояка с тремя шпалами и собрал всю роту:
– Кто с высшим и средним образованием два шага вперед!
Я вышел.
– Товарищи, вы поедете в училище, где получите звание соответственно вашей специальности. Вот вы кто?
– Я инженер-строитель.
– Вот и получите звание военный инженер-строитель 3-го ранга.
И нас везли почти до Вязьмы, где всех рассчитали и назвали Первый пулеметный Взвод Первой Роты первого батальона.
Я спрашиваю:
– Какой из меня пулеметчик? Я приехал получать звание военного инженера?
– Молчать! Не разговаривать!
Вечером сажусь писать рапорт, что меня ввели в заблуждение, обманули. Назавтра получил ответ: Стране нужны пулеметчики.
С б утра и до 8 вечера с винтовкой на плече. Мы ходили строевым шагом, горланили песни, клацали пустыми затворами, – так нас обучали быть пулеметчиками. А кормили – утром чай с сахаром и кусок хлеба, в обед какая-то баланда, даже картошечки ни одной не плавало, на ужин каша, сахар и кусок хлеба. За десять дней все так отощали, что еле ноги таскали, но с б утра до 8 вечера надо ходить, тянуть песни и клацать пустыми затворами.
– Когда же нас будут обучать пулеметному делу? И где они, эти пулеметы?
– Молчать! Не твое дело! Не рассуждать! Как начальство прикажет, так и будем делать.
Однажды вечером вышел из землянки, слышу запах – жареная картошка! Боже мой, картошка!
– Где взяли?
– Где, где? У повара.
Я бегом к повару:
– Как картошку получить?
Он говорит:
– Картошки захотел? Ее надо заработать.
– Я хочу заработать! Я голодный!
– Тогда, – говорит мне почти на ухо повар, – приходи завтра, как стемнеет, будешь пилить и колоть дрова и, чтоб к пяти утра, когда я приду, вода уже кипела во всех котлах, понял?
– Понял.
Всю ночь я носил сухостой и мокрый валежник, пилил их ручной пилой, колол топором, который все время соскакивал, и, наконец-то, развел огонь. Вода кипела во всех котлах. Повар увидел:
– Молодца! Один, а смотри, как работаешь! У меня два-три человека так не сделают. Ты – хороший парень, бери картошку, заработал.
– Сколько можно взять?
– Да бери, сколько унесешь.
На мне была короткая кавалерийская бекеша. Я в один карман, в другой, – а мне все мало. Вынул финку, прорезал карман и обложил себя вокруг картошкой. Иду, не нарадуюсь:
– Щас пожарю или в золе испеку.
Навстречу какой-то чин с тремя шпалами:
– Товарищ курсант, ко мне!
Я подошел. Он уставился на мою бекешу и говорит:
– Что здесь такое?
– Картошка.
– Украл?
– Нет, не украл, заработал.
– Врешь, мерзавец, украл! Заработать здесь негде, мы не на заработках! Украл!!! Иди-ка сюда.
Было время завтрака. Все пили горячую воду, якобы чай, с сахаром и куском хлеба. Чин обращается:
– Товарищи красноармейцы, немцы получают 200 г хлеба в день и воюют. И как воюют! А вы получаете 500 г, но среди вас есть бандиты и воры, которые вас грабят и жрут вашу еду. Гляньте!
Он начинает вынимать из моих карманов картошку и стучать по столу. Вынимает и стучит, вынимает и стучит, и приговаривает:
– Видали бандита? Это ваша картошка! Она у вас на столе должна быть!
Ну, солдаты, ясное дело, загудели, когда целая гора картошки появилась на столе, килограмма три-четыре, если не больше. Он как гаркнет:
– Встать на стол! – Я встал.
– Снять звездочку с пилотки! – Я снимаю.
– Снять пояс! – Я снимаю.
– Снять обмотки! – Я снимаю.
Он объявляет: «Именем Российской Федеративной Советской Республики приговариваю бандита и мародера к расстрелу!»
Вынимает пистолет, и я отчетливо вижу – наводит на меня. Но тут вдруг я слепну – ничего не вижу, ничего не слышу, только твердо стою на ногах и только одна мысль: сейчас выстрелит.
Проходит мучительное время, сколько – не знаю. Я не слышу этого выстрела и упорно стою на ногах, когда меня кто-то дергает за руку. Открываю глаза, – комбриг, которому я писал рапорт, и он тихо так говорит мне:
– Давай слезай!
Я падаю и теряю сознание. Комбриг приводит меня в чувство, сам надевает мне звездочку, потом пояс.
– Обмотки наденешь сам. Забирай картошку.
Я слушаюсь, забираю картошку. И мы вместе уходим. Полная тишина, хотя вокруг солдаты и завтрак не окончен. Но тишина. Вышли на улицу, он обнял меня и спрашивает:
– Где картошку-то взял, говори!
Я разревелся и все ему рассказал.
Так меня чуть не расстреляли во второй раз.
Через три дня сажают в теплушку, в ней человек 60–80 – повернуться нельзя. Неизвестно куда везут. Наконец, выходим. Слышны пушечные разрывы, стрельба. Совсем близко. Здесь же раненые. Спрашиваю:
– Ребята, как там?
– Немец десант выбросил.
– А где мы находимся?
– Здесь река Плотва недалеко, и где-то тут Бородино. А это деревня Мышкино.
И я запомнил – Мышкино.
Вечером нас согнали в баню. Какой-то старший сержант начал учить:
– Вот, товарищи, перед вами новейший пулемет Дегтярева, танковый пулемет. Минимум три человека должны его обслуживать: один носит ствол, другой – колеса, а еще подносчики носят патроны. Понятно? Ты, – кинулся он ко мне, – ты будешь первым номером, понял? На тебе ствол!
Я взял ствол.
– А ты второй, – бросил он кому-то не из моего взвода, – даешь колеса. Еще двоих назначил подносчиками.
– Для того чтобы стрелять, надо это отжать, это прижать, это натянуть, это вставить и стрелять, поняли?
Все закричали: поняли! Но никто ничего не понял. С таким вот знанием пулемета мы вышли, и сразу были обстреляны.
Я впервые услышал свист пуль и тут же почувствовал смерть, хотя потом уже узнал: пуля, которая свистит – не твоя, свою – не услышишь. Хоть я и не трус, но пригнулся, присел на корточки, руки и ноги задрожали. Казалось, что все стреляет, все стреляет именно в меня, но почему-то не попадает. Оглядываюсь – нет моего второго номера, нет моих подносчиков, я один со стволом, а у меня еще винтовка СВТ десятизарядная, вещмешок, противогаз. Черт знает, чего только на мне не висело! Топор еще – я сапер, и топор при мне всегда! В общем, вся амуниция весила предельные 32 кг.
И вдруг:
– Мерзавец, вперед, за Родину, за Сталина! – и мне в затылок наганом. Я понял, что закричал: вперед!
Но кто сзади?! Никого. Я да он. Бежим вдвоем. Где же все наши? Смотрю: валяются, лежат.
Короче, нас вывели в голое поле, а немец укрылся за деревней. Самолеты расстреливали на ходу, мимо меня прошла самолетная очередь, я лежу, потом поднимаю руку и кричу кому-то: вперед! За Родину, за Сталина!
И вдруг удар в правую руку. Не понимаю, что за удар, но теряю сознание. Очнулся от холода. Ночь. Крупные звезды. Очень холодно. Было 15 октября 1941-го года. Я очень замерз, потому что был без ботинок. Кто-то снял с меня ботинки, я в одних портянках. Пробиты два пальца и кровоточат. Я разорвал на себе нижнюю рубаху, кое-как перевязал рану, – первичных средств не было. У нас была в противогазе противоипритная жидкость на спирту, которую мы всю выпили еще до того, как прибыли на линию фронта. Мы пропускали эту жидкость через цемент или через уголь, и получался прекрасный спирт. Хотелось есть, но при себе ничего. Перед боем дали два сухаря и две воблы, а мы два дня в этом самом бою. Разве это бой? Это – бойня: мы на земле и не видим противника, а противник нас видит и никому не дает подняться, никому.
Вот таким был мой первый бой.
Я все-таки поднялся и пошел искать. Кого? Только трупы, только убитые. Нашел флягу, а во фляге вода замерзшая, взял. Потом сухарь взял у убитого, потом сапоги. Захотел снять с кого-то шинель, смотрю, зашевелился человек:
– Браток, помоги.
Я ему:
– Кто ты?
– Петька Пилякин.
– Что с тобой?
– В коленку ранен, помоги мне, не бросай здесь!
Он был старше меня и, очевидно, имел опыт.
– Знаешь, ведь немцы уже прошли, а нас с тобой за убитых приняли, с тебя ботинки сняли, сам видел.
– Мы что же, значит, в окружении?!
– Хуже, браток, не только в окружении, мы на немецкой территории.
– Петя, дорогой, надо ж как-то идти!
– Доведи меня, хотя бы до того стога сена, – он был очень грузный, бывший главный пивовар Бадаевского завода Москвы.
Этого Петьку я на себе волок метров сто пятьдесят до ближайшей скирды. Там вырыли что-то вроде норы и залезли туда, согрелись. Когда вода оттаяла, попили, съели сухарь на двоих, и Петя сказал:
– Напротив через речку деревня. Надо перейти речку, и там до крайней хаты дойти, попросить чего-нибудь пожрать.
Я плавать не умею, хоть и родился на Южном Буге, и три раза тонул. Я нашел два бревна, связал их прутьями, переплыл речку и постучался в крайнюю избу. Там дед как увидел меня:
– Ой, сынок, беги, у нас полно немцев.
– Дедушка, я не один, у меня еще товарищ раненый, а есть нечего.
– Сами живем, что Бог пошлет.
Вынес пару морковин и дал совет, как перейти речку и найти наши части. Ночью мы с Петей пошли: он опирается на меня, я его волоку на себе.
– Петь, не обижайся, не могу больше, сил нет. Ты бы хоть прыгал на одной ноге.
Он стал прыгать на здоровой ноге, опираясь на меня, но легче мне от этого не стало. Тогда мы нашли три доски (Петя умел плавать), речка была не очень глубокой. Я лег на одну доску, а Петя рядом – на две, и начали грести. На самой середине случилось то, что я и предвидел: доски разошлись, я пошел ко дну, и все, что было при мне, тоже пошло ко дну: диплом об окончании высших инженерно-строительных курсов, диплом инженера-строителя. Хорошо, что Петя был рядом, он подхватил, дал отдышаться и говорит:
– Ты скачками, давай, прыжками.
Я на дно, глотаю воду, выпрыгиваю, глотаю воздух, а Петя меня тянет и тянет, и сам плывет. Наконец мы выбрались – зуб на зуб не попадает, одежда леденеет на глазах. Не прошли и двухсот метров вдруг:
– Стой, кто идет?
И нас взяли. И сразу разобщили. Я – в обледеневшей шинели – захожу в дом. Там капитан, он вынимает наган и кладет на стол:
– Садись! Рассказывай!
– Что рассказывать?
– Кто такой?
Рассказываю по порядку, кто такой.
– Врешь! Не верю. Расскажи лучше, как завербовался.
И тут я все понял. И говорю:
– Скажите, я что, попал в НКВД?
– В какое НКВД?! Какое тебе дело, куда ты попал?! Ты попал в Красную Армию, понял? Давай рассказывай, кто завербовал? С каким заданием пришел к нам? Кто тебе делал мягкое ранение? Только не бреши, пристрелю сразу! – капитан подошел ко мне с наганом вплотную, и стволом – в зубы. Губу порвал – раз, второй.
– Почему вы меня бьете? Я буду говорить.
– Ого, молодец! – а сам опять в губы, опять разбил, опять пошла кровь.
– Что рассказать? Скажите, что надо рассказать?!
– Кто тебя завербовал? Где твои сообщники? Твой приятель рассказал, что вы во Франкфурте-на-Одере завербованы, чтобы уничтожать комиссаров! Какое задание ты получил?
Я растерялся:
– Какой товарищ рассказал?
– Да вот, твой Петька рассказал.
– Сволочь, – пронеслось в голове, – я его от смерти спас, на себе вытащил.
В это время зашел полковник, я к нему:
– Товарищ полковник, спасите, что это за дело мне шьют?!
– А вас в Москве кто-нибудь знает? Кто-нибудь может за вас поручиться?
И меня осенило: мой двоюродный брат – начальник Первого отдела Главной военной прокуратуры РКК СССР.
– Брайнер Лев Маркович.
Полковник вышел, а минут через сорок зашел снова:
– Я его на себя беру.
Выводит меня в сени, а там стоит мой Петька. Обнялись мы, расцеловались:
– Данька, стервец, как же ты на меня наклепал?
– Да что ты, Петя?
– Зачем ты сказал, что во Франкфурте-на-Одере нас завербовали?
– Петя, мне сказали, что это ты сознался.
Короче, нас довезли до Москвы. На Белорусском вокзале меня и Петю милиция подняла на руки и понесла в общий зал. Было так приятно, что моя милиция меня несет. Нас определили в госпиталь, и через два дня поезд примчался на Урал, в Верхнечусовские Городки, где я лечился полтора месяца и вышел раньше Пети.
Как-то среди ночи меня разбудили:
– Вас вызывает главный врач.
Прихожу, в кабинете сидит Александра Александровна Макарова.
– Знаете, наблюдаю за вами и вижу, вы – интеллигентный человек, может, самый интеллигентный из тех, кто у нас лечится. Вы мне нравитесь и как личность, и как мужчина. Давайте поговорим откровенно и серьезно: у меня есть муж, но мы давно уже не ладим, хотя у нас общая дочь. Я его от армии освободила, он – начальник отдела снабжения нашего госпиталя. Не мой он человек, чужой! Хотелось бы рядом теплого и чуткого ко мне и моей жизни человека.
Сначала я не понимал, к чему этот разговор, слушал дифирамбы и не понимал.
Тогда она присела рядом со мной и, навалившись на меня своей немалой грудью, оказала лично, так сказать, знаки внимания и любви. Не я ей, а она мне. Мы сблизились. Она меня долго держала при себе:
– Шура, выписывай, я должен быть на фронте, все мужики воюют, а я здесь, под твоей юбкой.
– Не торопись, у тебя отчетливо прослушиваются хрипы в легких!
Наконец, я собрался. Шура дала на дорогу наволочку с десятью пачками махорки, и я поехал в Пермь, чтобы найти там эвакуированный из Москвы свой строительный трест. Но нашел я его в Башкирии, в деревне Аргаяш.
Была уже ночь, когда я пришел в барак. Все вскочили, как же, Данька приехал с фронта раненый, инженер Данька.
И вот тут возникает много раз повторяющаяся в моей жизни – мистика встреч.
Наш управляющий Семен Иваныч говорит:
– Данька, знаешь, у нас твоя сестра работает.
– Какая сестра?
Он называет фамилию.
– У меня такой сестры нет.
– Как же нет, когда она здесь живет.
Открывается дверь, входит женщина и с криком бросается мне на шею.
– Простите, – я отбрасываю ее руки, отстраняюсь и вежливо спрашиваю, – может, я вас где-то видел, но не помню. Кто вы?
– Да я Галька!
– Боже мой! – глазам своим не верю. – Галька, ты?! Мы ведь не встречались лет десять, наверное. И она мне рассказала, что мои родители живы, хотя квартиру разбомбило, но сами они успели эвакуироваться на Урал, и она дала мне их адрес. Боже, вот так встреча! Вот так счастье!
Дальше я поехал в Ялуторовск, где сформировали дорожно-строительный батальон. Я стал исполняющим обязанности начальника штаба батальона. Через три недели нас повезли на Север, куда-то в направлении Архангельска. Когда проехали город Беломорск, все поняли, что едем на Мурманск. Между Кемью и Кандалакшей нас пробомбили, но без потерь. В Мурманске нас бросили сразу поближе к передовой, и мы, не успев обжиться и вырыть себе землянки, начали строить и ремонтировать мосты и дороги.
В дальнейшем мы переехали в Кандалакшу, там меня назначили начальником квартирно-эксплуатационной части госпиталя. Пробыл там полгода и к празднику подготовил концерт. После концерта подходит ко мне генерал:
– Вы артист?
– Нет, никогда не был артистом.
– Ее может быть, вы скрываете. Вы актер! Вы природный конферансье! Эти чеховские диалоги, а рассказ Хирургия, а разговор с собакой, – это незабываемо. Вы – мастер пантомимы! Хотите служить в штабе армии?
– Какой же офицер не желает служить в штабе армии?!
Генерал тут же распорядился:
– Командируйте лейтенанта ко мне.
Мне выписывают командировочные, я приезжаю в штаб армии, иду в отдел кадров, а мне говорят:
– В военную разведку!
– Как? В какую разведку?
Я хорошо понимал, что такое разведка.
– Генерал приказал в разведку.
– Но мне генерал сказал, что в штаб армии.
– Молчать! Не разговаривать!
Так я стал офицером секретной службы разведотдела штаба 19-й Армии. Мы были в 30 км от линии фронта. Слышали взрывы, но участия в войне не принимали, кроме того, что готовили разведывательные группы и собирали самую разнообразную информацию. Мы всё знали о противнике, как и противник о нас.
На одном из участков фронта против нас стояли две дивизии. Одной из них командовал генерал фон Дитмар, а другой – генерал Рюбель. Фон Дитмара отозвали в Берлин, там он женился на родной сестре Магды Геббельс. Вместо него прислали генерала Ратши. Так вот, генерал Рюбель – это был важный генерал, который признавал только офицеров, а солдат за людей не считал. А генерал Ратши (его прозвали Ратши-бум – шаровая молния) внезапно приезжал с инспекцией частей и, прежде всего, посещал туалет, потом столовую и разносил всех, если находил недостатки. Солдаты его на руках носили, офицеры – ненавидели.
Итак, на каком направлении фронта надо было наступать? Конечно, там, где солдаты не любят командира и не отдадут за него свои жизни.
А с генералом фон Дитмаром мы имели интереснейшую встречу! Генштаб запросил его характеристику, но, главное, нужна была фотография. Наши поиски результатов не дали. Пленные солдаты о нем говорили охотно: Да, был такой генерал. Он богатый помещик. Но не более. Взводом разведки 152-й Стрелковой дивизии командовал лейтенант Кобец Иван Лукич, теперь – полковник, мой дорогой друг. Кобецу дали задание взять языка. Разведчики зашли в глубокий тыл, оседлали дорогу, идущую к фронту из города Алакурти, и там взяли повозку с семью немецкими солдатами, которые, возвращаясь из отпуска, спьяну играли на губных гармошках немецкие песенки. Их связали и благополучно доставили в штаб.
Когда обыскивают группу пленных, страшную ошибку делают те, кто забирает документы и сваливает все в общую кучу. Тогда не понятно, кому что принадлежит: фотографии, письма. В разведке нет ничего неважного, ничего нельзя пропустить.
В тот раз в штаб армии привезли пленных с большим пакетом документов.
Я перебирал документы, смотрел фотографии, и вдруг вижу невзрачную фотографию 3×4 см, а на обороте: Моему ординарцу от фон Дитмара.
Боже мой! Я кричу нашему переводчику и начальнику отдела:
– Сеня, Сень! Глянь! Это же генерал фон Дитмар!
– Где ты ее нашел?
– Вот в этой самой куче.
– Но кому это принадлежит?!
– Вот теперь задача: выяснить, кому принадлежит фотография, потому что он теперь точно не сознается, – уверен я.
После оперативного совещания собрали пленных:
– Вас не расстреляют. Советские войска пленных не расстреливают. Это пропаганда вашего
Геббельса, что мы якобы расстреливаем пленных. Вы поедете в тыл, в лагерь для военнопленных.
Они обрадовались. Я говорю:
– Всё, что лежит на столе, ваше. Каждый забирает свое.
Мы вышли. Когда вернулись обратно, то не только фотографии, но и клочка бумажки не было на столе. Значит, тот, кому принадлежала фотография фон Дитмара, забрал ее. Мы каждого обыскали и нашли фото у 18-летнего парня. Он заплакал, но сознался, что был не ординарцем, а денщиком у фон Дитмара, который взял его к себе по просьбе отца, служившего в его имении садовником. Отцу хотелось, чтобы мальчик был возле генерала, сапоги чистил, ботинки и так далее. Генерал не взял его с собой в Берлин. Солдат дал подробнейшую характеристику своему генералу, которого знал с детства. Это было мое первое боевое крещение в разведке. За эту операцию я получил медаль За боевые заслуги.
Наш полковник, командир разведотдела, давно затаил на меня злобу, я это чувствовал. И однажды вызвал:
– Лейтенант, надо выйти на спецзадание в тыл противнику, встретиться с нашим агентом. У него сели батареи к радиостанции, связь с нами потеряна. Только ты можешь его найти.
– Товарищ полковник, я владею шифром Главного Разведывательного Управления Генерального штаба. Я давал подписку, что не имею права подойти на 30 км к линии фронта; если же я это сделаю, то подлежу расстрелу тройки без суда.
– Да что ж, ты все так и расскажешь? Я тебе приказываю! Повтори приказание!
Я повторил. Потом пошел к его заместителю, подполковнику Ярунину:
– Слушай!
Ярунин взбеленился:
– Идиот! Он тебя на смерть посылает! Чем ты ему насолил? Ему ведь ничего не надо, и наши люди для него ничего не стоят. Он мстит тебе. Советую одно: все армейское оставь здесь. Придумай какую-нибудь легенду.
Какая легенда? Какой я военный? Какой разведчик? Я – инженер-строитель, гражданский человек. Но задание надо было выполнять.
Ночью какие-то саами на нартах вывезли меня за линию фронта. Вывезли идеально, так вывезти могли только саами. Между немецкими опорными пунктами, которые располагались в 20–30 км друг от друга, проходила лыжня. Если патрули обнаруживали пересечение лыжни с нашей стороны, они немедленно посылали вдогонку отряды. Так вот, дважды мы приходили на то место, откуда тронулись, пересекали эту лыжню и петляли. Более того, саами останавливались, брали в руки нарты и переносили их метров на 50, потом руками на снегу маскировали эти следы. Так меня доставили до места встречи. Последние три километра я должен был идти один, и на прощанье своим проводникам сказал:
– Ждите здесь, обратно вернусь по своей лыжне.
При мне было четыре батареи БАС-80 весом по 12 (если не по 15) килограммов каждая. Я сделал себе что-то вроде волокуш, встал на лыжи, поставил эти четыре батареи, впрягся и двинулся. Когда пришел в условленный квадрат в жиденьком лесочке из неприглядных карликовых деревьев, весь взмыленный и мокрый, несмотря на холод, и такой усталый. В ожидании встречи присел на пень, потом, наломав лапника, постелил себе прямо на снегу, прилег и мгновенно уснул. Проснулся оттого, что кто-то стучал по ногам. Смотрю, надо мной стоит финн с наведенным пистолетом. Почему финн? Потому что одет он был в финскую одежду. Все это молча. Я сел. Мы смотрим друг на друга. Спрашиваю:
– Финн?
Он молчит. Спрашиваю:
– Дойч? Шпрехен зи дойч?
Молчит.
И вдруг меня осенило, а не тот ли это человек? Называю пароль, он – отзыв, и сразу же:
– Какой же мудак тебя послал сюда? Да и ты хорош. По какому праву уснул? Спать в тылу врага? Здесь кто угодно проезжает, проходит. Смотри, какие лыжни и сколько! Как ты мог?
Я говорю:
– Жутко устал, во-первых, а во-вторых, дико голоден.
Он вынул две плитки шоколада, фляжку со спиртом. Мы выпили. Он передал данные об аэродромах Варде и Тронхейме, о численности, прибытии-убытии немецких войск. Заставил меня раз пятнадцать все повторить, а потом проводил обратно.
Когда я прибыл в штаб, у полковника челюсть отвалилась:
– Ну, как ты?
Я говорю:
– Живой, несмотря на то, что вы послали меня умирать.
– Кто тебе сказал, что я тебя на смерть послал?
– Я сам понял, товарищ полковник.
Через два года все повторилось, когда к нам пришел мой дорогой, ныне покойный друг, начальник разведки, полковник Антонов Николай Дмитриевич.
– Надо повторить то, что ты сделал, но перед этим хочу тебе создать настоящую легенду.
Меня отправили в Беломорск якобы на учебу шифровальному делу. В одном доме под Беломорском меня одели в одежду каторжанина: деревянные ботинки, какая-то рванина, ушанка без одного уха. Я получил на руки копию приговора Фрунзенского районного суда Москвы, в которой значилось, что меня приговорили к десяти годам заключения без права переписки за антисоветскую деятельность, пересказ антисоветских анекдотов, пропаганду против войны и так далее. Мне сказали:
– Едешь на Соловки. Там все приготовлено. Там продержишься десять дней, после чего должен знать не только тех, с кем будешь и за что они сидят, но и как зовут собаку повара, понял?
Я говорю:
– Понял.
По прибытии начальник лагеря, единственный, кто знал обо мне, отвел меня в сторону:
– Я в курсе. Когда надо, позову.
Меня бросили в барак к уголовникам. Кто только там не сидел! Ее было только политических, они – в отдельном бараке. Я травил анекдоты и обозначился как моряк из Одессы, с торгового флота, у меня там были знакомые, например, Валька Косой.
– Как? Ты Вальку Косого знаешь? Хлопцы! А на какой же посудине ты ходил? А «Червону Украину» знаешь? Тю-ю… Была ж «Червона Украина»!
– Да-да, была.
В общем, я стал своим парнем в доску и вкалывал наравне со всеми в каменоломне. Это адский труд: долбить породу молотом, зубилом или кайлом. Поскольку я знал подрывное дело, мне доверили подрывать. Задача была – добывать щебенку для дороги, но щебенку можно было рвать открытым способом, а потом собирать камни, которые уже намного проще дробить. Это облегчило труд, и урки меня зауважали. На девятый день вызвал начальник лагеря:
– Все готово.
Вышли к берегу. Он показал место:
– Вот здесь внизу лодка, в ней бочка с пресной водой и мешок с сухарями. Ты уже договорился?
У меня был приказ договориться с кем-то и завербовать его для побега. Я должен был иметь приличную легенду, в случае, если попаду к немцам в плен, скажу, что такой-то. А если на Соловках сидит их резидент, он подтвердит, что я там был в соответствии с приговором суда. Ее заезжая в часть, в рванине страшенной, еще хуже, чем в первый раз, но с приговором в потайном кармане, я пересек линию фронта. И встретился (уже не спал на лапнике) с человеком, которого знал: Борис Борисович его звали.
Больше я о нем ничего не знал и никогда не слышал.
Я вернулся.
Весной 45-го, когда мы стояли уже в Германии, в городе Кольберг, меня вызвал полковник:
– Люди привозят барахло, фотоаппараты, бинокли. Ты бы привез мне чего-нибудь!
– Ну что, например?
– Машину Мерседес-бенц, трехствольное ружье Зауэр и немецкую овчарку. Что для этого тебе надо?
– Дайте машину и двух автоматчиков.
Мне дают додж с открытым верхом и двух автоматчиков, и едем неизвестно куда. Первый город – Штольк, но тут бои. Я, стреляный воробей, поворачиваю машину обратно:
– Подождем, мало ли что может быть. Потом можем не развернуться, если наши будут отступать. Дорога узкая.
Вскоре все затихло. Мы вошли в город вместе с победителями. Солдатам было хорошо известно – в открытую квартиру лучше не соваться, там уже наши побывали и все ценное прибрали к рукам. В лучшем случае ты найдешь, например, на столе или на выстеганном квадратами атласном одеяле на гагачьем пуху кучу говна – назло чистоплюям немцам! Это солдатская месть. После всех ужасов войны, после ее ада войти в дом и увидеть – какая чистота, какой порядок, какие ковры и кровати?!
Я поднялся на пятый этаж жилого дома и рванул дверь. Открыла женщина и прямо с порога набросилась:
– Чего тебе здесь надо?
– Ах ты курва!
Она как закричит:
– Мишка, Васька!
Вылетели два здоровенных сержанта.
– Ну-ка, сбросьте этого мудака с лестницы!
При мне автомат, пистолет, сзади вещмешок.
Они, как пушинку, схватили меня за руки за ноги и сбросили на лестничную площадку. Крича от боли, я катился по ступенькам. Мои автоматчики, услышав крик, прибежали:
– Что за люди? Может, пристрелим их, а?
Я говорю:
– Лучше уйдем отсюда.
Мы шли переулками, дворами, и меня заинтересовала какая-то явно старинная постройка. Найдя калитку, я вошел во двор и увидел то, что меня поразило больше, чем архитектура: абсолютно седая фрау доила корову не в кружку, а прямо себе в рот. Ей было лет восемьдесят. Вылитая моя мать! Она была так похожа на мою мать, что я задрожал. Она поняла, что я не причиню ей зла. Старая фрау едва держалась на ногах. Я сварил ей кофе и вынес во двор. Дал хлеба и масла. Она меня очень благодарила. До сих вижу ее благодарные глаза – забыть невозможно.
Я привез-таки своему полковнику опель-капитан вместо мерседеса, овчарку и трехствольное ружье Зауэр.
Были случаи, когда наживались на войне. Я, кроме аккордеона, ничего себе не нажил, и то мне его пленный немец подарил. Когда недели за две до Победы немцы стали сдаваться, их расселили в лагере. Однажды проходя мимо, я услышал аккордеон. Зашел, а там сидит немец дежурный на нарах и наигрывает. Подхожу:
– Ну-ка, Фриц, дай аккордеон поиграть!
Он спокойно взглянул и так же спокойно положил инструмент в футляр. Я взял и пожал ему руку. Немец очень удивился, что я пожал ему руку. И вдруг закричал:
– Хер официр, зюда, зюда!
– Вас ист лос?
– Два аккордеона!
– Где? Во?
Он ткнул пальцем куда-то под нары.
– Давай, давай!
Немец достал два аккордеона. Я снял пояс, перевязал их и ушел, а в голове крутилось: если бы немец вошел в наш барак и увидел бы аккордеон у русского пленного, он бы его, конечно, отобрал. Но наш солдат не выдал бы своих товарищей, не сказал бы, что под нарами спрятаны еще два аккордеона.
В ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года меня с двадцатью солдатами – подрывниками посадили на торпедный катер.
– Капитан, спрашиваю, – куда?
– Ее знаю. Сказали идти на север и пристать к земле.
– К Швеции что ли, если на север!
– Ничего не могу сказать, ничего.
Часов в пять утра из густого тумана проглянула полоска земли. Внезапно команда:
– В воду!
Солдаты все попрыгали, а я боюсь – плавать не умею. Капитан легко поднял меня и бросил за борт. Я в воде, и мне там – с головой. Начинаю применять старый метод выпрыгивания из воды и такими прыжками добираюсь до берега, а катер уходит.
Мы оказались на датском острове Борнхольм, где я прожил почти год в должности военного интенданта. В первую очередь, надо было проверить, заминировано побережье или не заминировано. Это была десантная операция и в то же время – отвлекающий маневр. Наши корабли в 10 утра уже показались на рейде. На пристани собралось больше 12 тысяч немецких войск и 17 тысяч немецкого населения, большей частью беженцев из Кенигсберга.
9 мая кончилась война. Немцы выбросили белые флаги. В течение трех дней мы всех эвакуировали, очистили остров от немцев. Бывший шталмейстер вручил мне фотоаппарат, а потом отдал ключи от склада и сказал, чтобы я все забрал себе. Пять мешков знаменитого датского масляного печенья и пряников! Боже мой, до сих пор ощущаю этот вкус! Мне достались и масло, и сахар, и мука, и крупа. Все, чем он кормил свою дивизию четыре или пять месяцев. Три дня я перевозил на телеге это богатство.
Через пятьдесят лет после окончания войны я вернулся на Борнхольм по приглашению датской королевы Маргарет, будучи уже стариком. Нас, победителей, оставалось пятеро.
Знал бы отец, ценитель Пушкина, как его внук Ярослав обнаружит, путешествуя по Википедии, что именно остров Борнхольм считается хрестоматийным островом Буяном, мимо которого, в царство славное Салтана судно весело бежит…









































