Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
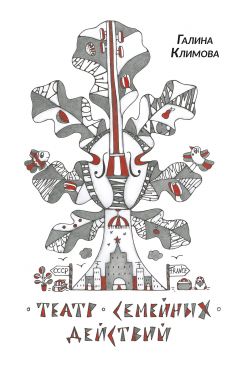
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Но у Кагановича была еще и племянница, тоже Рахиль, а посемейному– Роза, библейская красавица и умница. Когда застрелилась Надежда Аллилуева, Розе исполнилось семнадцать. А Сталину нравились юные девушки. Он и с Аллилуевой познакомился, едва той исполнилось шестнадцать лет.
Политический миф о страстях вокруг Розы Каганович с сюжетом почти шекспировского накала распространился с фантастической силой в начале 1930-х годов. И не только в пределах СССР, но и за рубежом, где его толковали и смаковали в эмигрантских кругах. Послужил ли слух об Ароне, женатом якобы на Розе Каганович, охранной грамотой кантору? Или наоборот, привлек пристрастное внимание информаторов-антисемитов и тайной полиции Харбина?
Каковы судьбы других сыновей кантора?
Очевидно, если дети остались в СССР (Борис – в Баку, Арон и Лев – в Москве), а кантор по неизвестным причинам уехал в Китай, осел в Харбине и в СССР никогда не возвращался, то должна была случиться невероятная семейная или социальная катастрофа (что в те времена одно и то же), какой-то глобальный катаклизм, грозивший неминуемой смертью.
Кто сумел спастись?
Кто стал жертвой?
На сайте «Репрессированная Россия. Книга памяти» нахожу по фамилии, по отчеству.
Златкин Лев Соломонович, 1910 года рождения.
Место работы – конструктор Всесоюзного электротехнического института,
Место жительства – Москва, Арбатская пл., д. 1/3, кв. 25.
Дата ареста – 16 сентября 1936 г.
Статья – по обвинению в шпионаже, диверсионной и террористической деятельности.
Приговор, административное решение – расстрел.
Место расстрела – Москва, Донское кладбище.
Дата расстрела – 25 декабря 1936 года.
Расстрелянному инженеру-конструктору Льву Златкину было 26 лет. Возможно, он успел жениться. У него могли быть дети. Лев, младший сын кантора, наверняка самый любимый, самый умный и удачливый. Карьера ученого в Москве, в передовом засекреченном институте – такие перспективы! И такая реальность…
А вот про старшего сына:
Златкин Арон Соломонович, 1902 года рождения.
Без определенных занятий. Проживал: Арбат, 1/3, кв. 25.
Расстрелян в 1936 году.
И не более. Никаких подробностей.
В момент ареста братья жили вместе на Арбате – наши «дети Арбата». Если первый донос на «пресловутого кантора» датирован августом 1936 года – за месяц до ареста Льва и за полгода до его расстрела – то наверняка Соломон обо всем знал. Да и как можно об этом не знать? Вся страна каждую ночь ждала арестов.
Соломон бежал. Он бежал с женой, чтобы затеряться. А если повезет, то и уцелеть, и спастись, хоть бы на краю света, в Харбине, под крышей синагоги.
Что знали о судьбах кантора и его сыновей мой дед и отец? Наверное, что-то знали и молчали. Но однажды отец все-таки приоткрыл тайну и рассказал скупо, в двух словах мне, совсем еще девчонке, про кантора Соломона. Это было в хрущевскую оттепель, когда впереди что-то забрезжило…
Значит, отец все-таки поверил в перемены. Он посвятил меня в семейную тайну и ввел в театр семейных действий, где я то – зритель, то – действующее лицо, то – автор, а то – бессловесный статист, исполнявший звук «шагов за сценой». Одно действие сменялось другим. Звонок, антракт – театр продолжается. Он – живет. И конца не будет.
Я еще не знала, что в моем почтовом ящике лежало письмо из ФСБ.
Москва, 2017
Майка, Марфа, Жорж
Маленькая повесть о любви
Утренний мейл был адресован не Майке, а ее маме Марфе Захаровне, которая в девяносто два года черепашьим шагом доползала до кухни и не всегда до туалета.
«Дорогая Марфенька, – с пафосом декламировала Майя, нависая над Марфой Захаровной, громко втягивающей горячий чай из блюдечка, – я много лет искал тебя, звонил, но телефон молчал, как убитый. И у меня возникали самые мрачные предположения, хотя сердце подсказывало: искать… и вот в Интернете наткнулся на адрес твоей дочери, поэтому «я к вам пишу, чего же боле».
Благодарю Бога, Марфенька, что мы не разминулись в жизни. Все эти годы я помнил: спасла меня ТЫ. Если бы ты не подобрала меня на шоссе и не отвезла в больницу, я бы тихо умер от кровопотери. А потом ты помогла поступить в институт. Помню твои потрясающие лекции, хотя история театра не была моим любимым предметом. Сколько лет прошло, а я слышу твой голос. Ты не раз приходила во сне, но почему-то в чине полковника медицины. Как ты поддерживала меня! Не скрою, хотел бы иметь такую маму, а для моего отца такую жену – тогда он и сегодня, возможно, был бы жив. Спасибо, моя незабвенная Марфенька! Ты подарила мне шанс, и я выжил. Надеюсь не разочаровать тебя: я все-таки стал художником, говорят, неплохим. Живу в Мюнхене с женой Машей и дочуркой Сонечкой. Я бы с огромной радостью побывал на твоем столетии, давай постараемся дожить – и ты, и я… Но памятуя про «долги наши», которые хорошо бы вернуть вовремя, хочу подарить тебе свою картину. Обнимаю крепко. Всегда твой Слава Бирюков».
Капля, не больше горошины, закипела во внутреннем уголке левого глаза. В этой горячей точке, которой не хватало сил пролиться, скопилась, казалось, вся соль большой жизни Марфы Захаровны, известного театроведа, профессора, заслуженного работника культуры.
Резь в глазу включила внутреннее зрение, как праздничную иллюминацию. Сияющий летний полдень, полянка в сквере или в городском саду, в центре полянки – клумба разомлевших роз, а на заднем плане – колтун кустарников в сени деревьев, широко распростерших ветви.
Откуда эта пейзажная цитата? Какого времени и места? Или декорация спектакля? Сколько их было…
Сощурив глаза, она углядела в кустах укромную скамейку, на ней– парочка… ба, да это же она, Марфа, так бесстыдно целуется, почти опрокинувшись на спину. Но с кем? Лицо в самой гуще веток. И всё же по какому-то едва уловимому промельку догадалась, кто ее целовал. Но ведь он же давно пропал… Говорили, умер или уехал. Нет, все-таки пропал. В очередном морском плавании. Она зашевелила сухими губами, вызывая звук его имени. Захотелось увидеть лицо – близко, крупно – такое красивое лицо. Откуда-то издалека, как запах мяты, донеслось слабое дыхание нежности, именно нежности, на которую сама едва ли была способна.
– За что мне это, Господи? – и сердце подпрыгнуло то ли от ужаса, то ли от восторга. – За что?
Растрепанный альбом отца – любимая Майкина книжка, которой она дорожила. Георгий Федорович, по-домашнему – Жорж, хранил в альбоме старые, когда-то черно-белые разноформатные фотокарточки подруг своей молодости: брюнеток с перманентом, блондинок с короткими стрижками, красавиц и прелестниц, капризных пампушек, простодушных милашек, а среди них – и девушка в военной форме, и улыбчивая медсестра, и бальзаковская дама в чернобурке с когтистыми лапками, свисающими на пышную плюшку груди, и еще какие-то женщины в летних платьях, в шляпках-менингитках, одна – в цветастой шали, одна – в раздельном купальнике. Судя по надписям химическим карандашом типа: «От сочной Ягодки», «Ласковому Котику от Мурки» – дамочки были без ума от Жоржа. Да и сам он, похожий на иностранца (у нас всегда обожали иностранцев, особенно мужского пола), выглядел ловеласом, донжуаном и бонвиваном – всеми сразу. Майка недоумевала, чем его взяла своенравная Марфа, отшив рафинированных столичных кралей.
Альбом отца – как захватывающий любовный роман – Майка глотала залпом, особенно когда болела. Своих любовных романов у нее еще не случилось, но в воображении уже выстраивались нехитрые амурные сюжеты: героини первого плана – все из альбома, и в каждой что-то от Майи – мелькали со скоростью кадров немого кино – и обязательно хеппи-энд: стали они жить-поживать…
Когда Майка выросла – а выросла она неожиданно быстро и так же неожиданно обрела пышные формы, сохранив детское выражение глаз и толстые веснушчатые щеки, – Марфа Захаровна стала стесняться дочери и реже брала с собой в театр. В Доме актера под Рузой, куда они приехали на каникулы, и вовсе представилась старшей сестрой:
– Постарайся не мамкать!
Недолго страдала Марфа от бессонных ночей, недолго боролась с детскими болезнями и тяготилась заботами о новорожденной дочке. Роль матери – не ее амплуа: она скоро осознала себя бездарью и выбросила белый флаг. Материнство раздражало, мешало и очень отвлекало от того, что она любила. А любила Марфа Захаровна – как трудящаяся женщина – только работу: свои лекции, своих студентов, тишину и запах книжной пыли в библиотеке ВТО, читки пьес и, конечно, наэлектризованную атмосферу премьер, конечно, праздничную шумиху театральных фестивалей. Только в институтской аудитории, в театре или за письменным столом Марфа чувствовала себя личностью, востребованной обществом. Это прибавляло уверенности в себе, в правильности своей жизни, когда она день за днем лепила, делала себя, обретая уважение и статус в глазах окружающих.
– Майка – непростой и очень требовательный ребенок, – оценила малышку Марфа.
Признаться, что дочь не вписывается и даже грубо нарушает ее тщательно выстроенную жизнь или что не полюбила эту обжору с диатезными щеками, эту писклю в мокрых пеленках, стоило усилий и смелости. Марфа перестала принадлежать себе. Такого с ней еще не случалось. Планировать жизнь даже на неделю вперед стало проблематично. И после очередной затяжной пневмонии Марфа, будто сама тяжело переболела, отвезла дочь в Можайск. Там в старом бревенчатом доме, окруженном яблоневым садом и овощными грядками, жила ее мама.
Евдокия Матвевна не сидела сложа руки. С весны до осени – огородница, зимой – рукодельница, кружевница – всяких фасонов и узоров плела воротники, манжеты, накидушки, салфетки и даже скатерти. Многое шло на продажу и было подспорьем к ее нищенской пенсии.
Евдокия Матвевна полюбила внучку с того дня, когда ее принесли из роддома. Подняла кружевной уголок, прикрывавший желтушное личико, сердце так и торкнулось: мое! моя кровиночка! Откуда столько тепла и жалости? Словно клад открылся. И она старалась порадовать и побаловать внучку: то пирог с вареньем, то мороженое, то первая ягодка, то последнее яблочко… Всё для Майки.
Частенько мимо их дома в телеге, которую едва тащила сивая кляча с бельмом на глазу, проезжал старьевщик-татарин. Под дугой – бубенчик. Издалека тянулся высокий тягучий крик, похожий на припев: «Старье берем! Старье берем! Кости, тряпки, бумага, посуда! Несите, пустым не уеду отсюда!» Старьевщиком пугали детей: заберёт, если не будешь слушаться.
В телеге, кроме рыхлых куч из тряпья и рванины, возвышался расписной деревянный сундук. Когда татарин сидел на сундуке, сундук превращался в трон, а татарин – в царя. Но обычно татарин шел рядом с телегой, держа поводья. В сундуке – Майка точно знала – настоящие драгоценности: китайские мячики из фольги на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «уйди-уйди», глиняные свистульки, расчески, заколки-невидимки и, конечно, колечки – с синим, зеленым и красным стеклянными камешками. Колечко, колечко! У Майки аппетит разгорался. На одно колечко – три кило тряпок! Татарин ехал с остановками, со значением, ждал, когда вынесут связанное в узел барахлишко. Тряпки, чулки, кальсоны, халаты – такие легкие, на колечко не хватит. И однажды, когда бабушки не было дома, Майка схватила новенький пестротканый половик, ловко скатала его и выбежала к старьевщику. Татарин прицокнул языком, взвесил половик, и надел Майке на безымянный палец – она не дышала – драгоценное колечко с зеленым глазком. Девчоночье счастье!
Обнаружив пропажу, Евдокия Матвеевна вместо ужина задала внучке такую взбучку, что запомнилась надолго. После «настоящей березовой каши» Майка несколько дней сидеть не могла. Плакали обе – так срослись, так полюбили друг друга, что жизни врозь быть не могло. В Можайске Майка пошла в первый класс, там же и окончила школу.
Родители наезжали по воскресеньям – то раз в месяц, то раз в неделю. В разряд семейных праздников родительские дни почему-то не вошли. Евдокия Матвевна, подробно отчитываясь за истекший период, расставляла по степени важности все, что произошло, что происходит и что нужно для здоровья и счастья подрастающей Майки. Всегда с одним и тем же зачином: ваш довесок, уважаемые…
Глядя на вечно занятую Марфу и на Жоржа, пропадавшего неделями в командировках, Майка определила, что жить врозь – легче и проще. Меньше забот о других, больше простора для себя. Еще она заметила, как потускнел и сжурился Жорж: маленький грустный Чарли Чаплин со сросшимися в прямую ветку черными бровями.
– Одна бровь и два глаза, – поддразнивала Майка, пощипывая над его переносицей почти проволочные волосы, – мне ужасно нравятся усато-бородатые мужчины, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс… Отрастил бы усы!
– Невозможно, Маечка!
– Ну, пожалуйста!
– Не хочу быть похожим ни на Маркса, ни на Энгельса. И не могу. У меня усы рыжие, как у таракана. Без усов я – черный таракан, а с усами – страшный рыжий тараканище, – он почему-то растопырил пальцы, сделал козу и пошел рогами на Майку.
– А ты их черным гуталином!
– Фу… ну… а запах? Меня точно никто не захочет поцеловать. Меня и так давно никто не целует, бедный я, беднюсенький, – забыв про козу, подыгрывал отец, собирая бровь в гармошку и покачивая головой, как китайский болванчик, – ни Марфа, ни моя любимая дочура. Я и не помню, когда ты меня целовала, – и Георгий Федорович ткнул в щеку скрюченным указательным пальцем, не разгибавшимся после ранения на войне.
– Мама говорит, нельзя. Целоваться опасно. И даже вредно, – ловко вывернулась Майка, – триллионы патогенных бактерий и смертоносных вирусов! Рот – ворота для инфекции! Нисколько не чище попы… Но если очень-очень-очень, то вместо поцелуя хорошо прижаться щекой к щеке или крепко обняться, вот так, – Майка потянулась к отцу и, схватившись за плечи, вдруг вспрыгнула на него и повисла, обхватив его туловище ногами и руками. Все тот же запах «Кёльнише вассер»… Она затихла, уткнувшись носом в воротник его горохового твидового пиджака.
– Маме, конечно, видней, – Жорж бережно вернул дочь на землю, удивляясь легкости ее детского тельца и цепкости рук и ног, – ты же не бросишься, доча, целоваться с кем попало? С каждым встречным-поперечным? И, надо сказать, не всегда есть желание целоваться даже с тем, с кем положено… Бывает неприятно. И даже отвратительно. И мерзко. Например, изо рта плохо пахнет, особенно у куряк и пьянчуг, так и сшибает перегаром… А вот с любимыми, – он ласково похлопывал с цыплячьими ключицами спинку, – например, с детьми или с родителями одно удовольствие. Тем более, нечасто видимся. Вот я тебя сейчас – раз! – и поцелую, – он звонко припечатал обе щеки, – вот так!
Майка, блестя лучистыми глазами, рассмеялась и тут же обтерла ладошками щеки.
– Солнышко, ты не забыла стишок? – И Жорж теплым голосом, который прятался где-то в глубине горла, начал:
Майка, Марфа, Жорж!
Папа – нежный ёж.
Марфа – мама. Ну; а Майка —
Солнце с острова Ямайка.
– Мой любимый стих! Придумай еще!
Они оба светились, так хорошо вместе, хорошо обниматься и целоваться, и даже чмокать промозглый, колючий воздух ноября.
– Ага, опять сю-сю ля-ля?! За вами, ребятки, глаз да глаз! Обед на столе! – застукала их Марфа и, благодушно растягивая слова, продолжила: – Да обжимайтесь, да тискайтесь себе на здоровье. И я с вами, – она театральным жестом поднесла к губам раскрытую ладонь, на которую как бы села тополиная пушинка, и вытянув губы трубочкой, дунула, и пушинка полетела к тому, кого Марфа как бы поцеловала, – ведь очень романтично, правда? И – никакой инфекции.
Когда же он так скукожился и потускнел?
По словам бабушки, родители жили хуже чем кошка с собакой. Пяти минут не проходило без ссоры и крика. Они давно выпали из общей колеи жизни. Может, ее и не было? Каждый сам по себе, на своей обочине. Зачем жили вместе? Ради дочери? Едва Майка доходила до этого вопроса, как начинала стыдиться себя, в ней прорастала вина перед родителями. Часто болела, в школе перебивалась с четверки на тройку, талантов особых у нее не проявилось, характер противный, а значит, и радости от нее никакой. И Марфу, и Жоржа она любила по отдельности, но вместе… И зачем тогда целоваться?
Марфа всё чаще пропадала в библиотеке или в театре. А Жорж читал, вжавшись в кресло под торшером. Он перевоплощался, уносился в другие страны и города, в другие эпохи и возвращался не раньше полуночи, когда приходила Марфа. Она пила ритуальный стакан кефира, наносила жирный крем на лицо, затыкала уши ватой и, буркнув спокойной ночи, укладывалась лицом к стене на самодельной узкой тахте. Жорж по-солдатски быстро раскладывал кресло-кровать – средневековое орудие пытки – и, как ни странно, мгновенно отключался.
Он стал коллекционировать почтовые марки. Накупил кляссеров, каталогов, книг по филателии. Марки брал пинцетом, измерял высоту зубчиков, отмачивал, сушил, гладил утюгом, выкладывал серии. По воскресеньям ездил в магазин «Филателист» или на марочный рынок, где однажды его замели менты, приняв за спекулянта.
Иногда Жорж скулил, виляя хвостом перед женой:
– Может, купим телик?!
– Для кого? Мне достаточно театра.
– Будет хорошо, Марфуша: ты и я, вместе, смотрим какую-нибудь интересную передачу, чаёвничаем или потягиваем винишко! Давай, к 8 Марта сделаю такой якобы сюрприз!
– Для себя стараешься, не иначе!
Тогда Жорж скулил на другой мотив:
– Возьмем к себе Майку? Будем все вместе. Мы же семья?! Пусть Евдокия Матвевна приезжает к нам, не наоборот.
– Конечно, в коммуналку… только их здесь не хватало.
И Марфа продолжила, загибая пальцы: свежий воздух, свежие яйца, парное молоко, уход и присмотр… и еще что-то обличительное про родительский эгоизм.
Однажды, возвращаясь в Можайск, Майка и бабушка торопились на электричку. Марфа засиделась в библиотеке. Их провожал Жорж.
– Бидон тяжеловат, но зато надолго хватит, – оправдывалась бабушка, подхватывая сумку, набитую московскими белыми батонами и докторской колбасой, – ты только до метро, а там уж сами как-нибудь.
Жорж всю дорогу бухтел, что он все-таки – инженер, а теперь – заместитель главного инженера строительно-монтажного управления, и не к лицу ему нести алюминиевый трехлитровый бидон подсолнечного масла. Вдруг подчиненные или коллеги увидят? Прощай, авторитет! Он, конечно, не против помочь по-мужски, ну, например, чемодан или книги… А тут бидон. Мешок бы еще дали… Это – не для интеллигентного человека.
Пересекая сквер, Жорж замедлил шаг, замолк и встал как вкопанный.
– Ты? Почему здесь? А как же библиотека?
На скамейке перед клумбой с разомлевшими розами сидела прекрасная Марфа. И не просто с книгой об особенностях эпического театра Брехта, нет, она сидела в обнимку с симпатичным улыбчивым мужчиной в светлом костюме.
– Кто этот человек? – агрессивно наступал Жорж, снайперски прицеливаясь и раскачивая алюминиевым бидоном, как гирей. – Я вас не знаю. Представьтесь, гражданин!
Мужчина поднялся, сохраняя приветливую улыбку. Он коротко кивнул Марфе, одернул пиджак и неожиданно отпрыгнул в сторону, поджав длинные ноги, как настоящий кенгуру. Но Жорж не промах, он грудью преградил путь.
– Куда же вы, товарищ? Может, познакомимся? Я – Георгий Федорович, муж Марфы Захаровны. А вы, позвольте узнать, кто такой?
– Давай без театра, – тяжело сверкнув глазами и раздувая ноздри, пресекла Марфа. Ее лицо было бледней, чем у загримированного мима, низкий голос совсем просел, и она прохрипела:
– Это Фатов. Коля Фатов, завлит театра «Современник». Мы любим друг друга. И сегодня же, слышишь, сегодня же… мы с Колей решили жить вместе. Скажи, Коля!
– Что? Ты спятила! Ты совсем ку-ку. Ты, наверное, заучилась. При матери, при дочери – слышали, Евдокия Матвевна? – родному мужу такое лепишь. Люди, люди!
Как провинциальный трагик, дорвавшийся до столичной сцены, Жорж, широко разводя руки и закатывая к небу карие глаза, взывал к многочисленной публике: к прохожим, к парочкам на соседних скамейках, к пенсионерам, чья жизнь не выходила за формат газетной полосы, и даже к малышам в песочнице.
– Люди, полюбуйтесь! Люди, вот она – женская верность и материнская любовь! О, боги, боги! Я так и знал…
– Прекрати, Георгий! – рявкнула уже бордовая Марфа, – не смей!
– Не позорьтесь, черти полосатые! Девку поберегите! – перекричала всех Евдокия Матвевна. – Вы, гражданин, ступайте своей дорогой от греха подальше. А мы, мы все домой. Марфа, бери Майку! Дома поговорим! – угроза в ее сильном голосе звучала многообещающе.
Марфа протянула руки, чтобы обнять дочь, но Жорж налетел бойцовым петухом:
– Не тронь, мерзкая лгунья! Изменщица! Ты никогда не хотела жить с дочерью! Так живи, с кем хочешь, но без нас!
– Псих, неудачник, посредственность! Отдай ребенка, я – мать!
– Да, ты – мать. Но Майка – не кукла!
При этих словах Майка вдруг взвыла и разрыдалась во всю силу:
– Кукла… не хочу, не надо…
Еще маленькой, она мечтала о кукле, о настоящей импортной моргалке – кудрявой, синеглазой с длинными ресницами. Она просила: куклу! Ей покупали юлу или шарманку. Умоляла: купите, пожалуйста, куклу! А ей – голого пупса, пышущего целлулоидным здоровьем. Пупс почти кукла, но все-таки пупс.
Когда Евдокия Матвевна попала в больницу с переломом ноги, а Марфа собралась на премьеру в Таллин, Майку решили отправить к бездетным родственникам. Присев на стул, Марфа неумело и долго заплетала Майкины каштановые волосы и, заглядывая в ее прозрачные серо-голубые глаза, объясняла ситуацию:
– Не бойся, дочура! Отвезу тебя к Клыжновым. Они хорошие. Михал Иваныч, для тебя – дядя Миша, на гармошке играет, тетя Нюра печет пироги с изюмом и клюквой – язык проглотишь. И главное, там ждет тебя, угадай кто? Кукла!
Майка, как обогретый солнцем воробышек, встрепенулась, заскакала, закружилась, приподняв юбочку:
– Когда, Марфинька?
– Да прямо сейчас. Мне надо успеть вернуться и собрать чемодан, вечером поезд.
Ехали до деревни Улитино. Название забавляло Майку. Она представила местное население – сплошь улитки, большие и маленькие, мужчины и женщины. Как их зовут? Когда приедет, она соберет всех и устроит соревнования по бегу. Улитки от усердия высунут крошечные рожки. Она будет судьей со свистком или журналисткой с микрофоном.
Потом Майка задумалась о дяде Мише и тете Нюре – они, наверное, хорошие. Потом – какое платье у куклы? С косами она или с кудряшками? Они будут спать вместе с куклой на одной подушке. Утром поиграют в дочки-матери. Как назвать куклу? У всех Кати или Маши… Может, Иоланта? Аида? Или Кармен?
Клыжновы сидели у телевизора. Дядя Миша не играл на гармошке, тетя Нюра не испекла пирогов. Майка не огорчилась. Электрический самовар кипел вовсю, напуская теплого тумана, оседавшего на оконном стекле крупными слезами. Марфа достала московское печенье, зефир и «соломку». Все уселись чаёвничать, когда Майка громко спросила:
– А кукла? Где кукла?
Марфа опустила глаза. Дядя Миша весело вскинул голову, пригладил вздыбленные вихры и встал со скрипучей табуретки:
– Кукла? Ну, пойдем, познакомимся!
Вышли на крыльцо. И тут Майка поняла, почему дядя Миша – Михал Иваныч. Ну, правда, вылитый Топтыгин из сказки. Она хихикнула.
Сумерки натягивали над двором крышу из черных туч. Ни фонаря, ни луны.
– Кукла, ко мне!
С радостным визгом из ниоткуда вылетела быстроногая тень. В три прыжка оказавшись у крыльца, она повиливала хвостом и весело скалилась.
– Знакомься, Кукла! Это – Маечка, хорошая девочка, погостить к нам приехала. Не бойся, Маечка! Погладь Куклу, она запомнит твой запах и лаять не будет.
Майка стояла каменным истуканом с открытым ртом. Кажется, она и не дышала. Внутри все сжалось, в глазах темно. Она ухнула в какую-то ужасную бездну.
– Посмелей, девонька. Кукла не кусается. Она любит своих.
Чуть живая Майка шагнула в дом.
– Ну, как? Хороша Кукла? – перехватила ее тетя Нюра и ласково прижала к тугому горячему животу.
Майка вырвалась и нырнула за занавеси, в соседнюю комнатку. Увидела кровать с белой горой подушек, комод, диван со слониками. Беззвучно давясь слезами и слюнями, упала на твердый валик дивана, ударилась носом. Слоники повалились друг на дружку.
– С чувством юмора у тебя не ахти. Значит, и с интеллектом аналогично. Зря обижаешься, это просто шутка, и ничего более! – выкрикнула из соседней комнаты Марфа. Не дождавшись ответа, она заторопилась в Москву.
Майка больше не просила куклу. И когда ей все-таки подарили настоящую синеглазую моргалку, Майка ее не полюбила. Наверно, быстро выросла, так и не наигравшись в дочки-матери. И это аукнулось им обеим… но когда?
Когда родители скандалили в сквере и отнимали ее друг у друга, Майке сделалось страшно. Вдруг оторвут руку, голову? Или вообще разорвут напополам? Она бросилась к бабушке:
– Не бросай меня! Никогда!
Евдокия Матвевна прижала к себе внучку и накинулась на дочку с зятем:
– Да чтоб вам повылазило! Люди вы или нелюди? Девчонку пожалейте! Сирота растет при живых родителях.
Коля Фатов, не участвуя в семейной драме, пригнул голову, ссутулил плечи и, ни на кого не глядя, прикидывал, как бы поскорей улизнуть. Но Жорж не дремал. Выбрав прием нападения сзади, Жорж мстительно зарычал и опрокинул на соперника трехлитровый бидон подсолнечного масла.
– За что-о-о? – завопил Коля Фатов.
– О-о-х, батюшки, сколько добра пропало, – закусив губу, от души пожалела Евдокия Матвевна.
Масло из жареных семечек, такое душистое и жирное, пропитало волосы и лицо Коли Фатова и уже растекалось тягучими струйками по воротнику, скатывалось по бортам пиджака, по брюкам – по единственному выходному костюму, который Коля надевал на премьеры и на свидания с Марфой.
– Ну, да бог с ним, с маслом!
И на этот раз семья не распалась.
Бабушка с Майкой еще долго жили вместе, и выросла она не мамо-папиной дочкой, а бабушкиной внучкой. А когда родители получили двухкомнатную хрущобу в Кузьминках – Майке четырнадцать – она прямо с плеча рубанула: ни за какие коврижки, ни в какую вашу дорогую столицу, золотую Москву…
– Я так и знал. Почему у нас всё не как у людей? – морщил переживаниями лоб Жорж, гордый тем, что именно он, кадровый инженер-строитель, он, построивший в Москве столько жилых многоэтажек, поликлиник, детсадов, школ и кафе, получил-таки, заслужил достойное жилье. Дали в приличном районе с видом на старинный парк с прудами, рядом – усадьба, похожая на Версаль. Живи – не хочу! И Георгий Федорович понадеялся на новую жизнь в новой квартире – с венгерским гарнитуром «жилая комната», с балконом и телефоном, с Майкой, которая, наконец, переедет в Москву и будет учиться в спецшколе. Георгий Федорович неожиданно осознал, что он достиг зенита жизни и, можно сказать, даже благополучия, даже реального успеха. Достиг. Утвердился. Состоялся. Он даже сутулиться стал меньше, а голову держать – выше.
Его объединительный семейный порыв не был подхвачен ни женой, ни дочерью. Марфа не настаивала. Майка не переехала.
– Чёртова семейка! – раздраженно ворчал уязвленный Жорж, бросая в чемодан пижаму, войлочную шляпу с широкими полями, светлые брюки, тенниски, сандалеты, – стараешься-стараешься, из кожи вон лезешь, и – никому ничего… все как с горки катится. О боги, боги! Пора лечить нервы, пора ходить по терренкурам, пока еще не сдох! А вы здесь… гуд бай! Бывайте, девочки! Дай чмокну, доча!
– Быстрей, чтоб мама не видела.
– Да не трусь! Это только с нами она не целуется, а вообще-то кое-что себе очень даже позволяет.
И точно, позволяла.
В то лето они снимали дачу в деревне Степановское. Неподалеку – каскад старинных прудов. Прячась за зеленой броней ряски, пруды отсвечивали благородной патиной и тянули на природный антиквариат. На одном из прудов молодым месяцем белела песчаная коса, там особенно любили купаться дачники. По воскресеньям на косе было не протолкнуться. Тени на всех не хватало, солнце жарило немилосердно. Пока Марфа искала тенистое местечко, ее окликнул загорелый высокий парень и показал рукой на циновку, раскинутую под мощным дубом. Он подошел. Они с Марфой вдруг порывисто обнялись, и уж после Марфа спохватилась:
– Познакомься, Маечка, мой аспирант Олег Павлович. Видишь, беженец! Спасается от московской жары. Какая нечаянная встреча!
– Привет. Наслышан о тебе.
Майка тупо кивнула и, как дохлую рыбу, протянула руку, которую он перевернул и неожиданно поцеловал в ладошку.
– Для тебя просто Олег, ладно?
Она подняла глаза и сразу догадалась, почему его можно называть по имени: Олег – почти мальчишка. Она еще не понимала, что такое возраст: двадцать, тридцать и далее. Ей было – пятнадцать.
Плавали сначала втроем. Олег учил выдыхать в воду, сам при этом отфыркивался, как тюлень, и нырял, подолгу не всплывая. Майка в страхе сбивалась с дыхания – вдруг не всплывет? Олег всплыл далеко от нее, сделал рукой до свидания и рванул энергичным шумным баттерфляем. За ним Марфа – то кролем, то брассом. Они выплыли на середину пруда, где уцелел искусственный островок, когда-то место для романтического уединения и тихих прогулок.
Островок безнадежно одичал и выглядел ужасающе. По стихийному разгулу разнотравья, по буйству кустарников он тянул на статус природного резервата, в глубине которого неуместно, но вполне художественно проглядывали красноватые руины ротонды. Олег и Марфа доплыли до острова и скрылись в его дремучих зарослях.
– Там столько малины, – позавидовала Майка, – меня не взяли, а одна не доплыву, – она погрызла сухой стебелек овсяницы, переоделась в сухое, легла на живот и открыла томик Диккенса.
Когда обгоревшие Олег и Марфа наконец вернулись, Олег сразу заторопился в Москву. Марфа его не удерживала.
– Почему ты не пригласила Олега обедать?
– Он очень занятой. Через месяц защита диссертации, а он, видишь ли, утром пляжится, вечером театр… завалит защиту, позору не оберешься, – Марфа говорила глухо и куда-то в сторону. – Ты, вот что, про Олега особо не распространяйся, забудь. Папе это неинтересно. Ведь они друг друга не знают.
Майка наверняка и забыла бы об этой нечаянной встрече, если бы Марфа – жарища стояла неуёмная – на следующей же неделе не попросила встретить Олега у автобусной остановки.
– Пойдите искупайтесь, потом чайком напоишь, потом и я примотаю.
Они шли к пруду прохладной аллеей, где сомкнутые кроны вековых лип выстроились в тенистый коридор. Олег рассказывал о сестре, Майкиной ровеснице, которая замечательно играет на флейте. Потом о своем отце-танкисте, прошедшем всю войну, до Берлина… Через три дня после объявления капитуляции Германии, когда в Москве уже праздновали Победу, он подорвался на мине совсем неподалеку от рейхстага. Пришлось ампутировать ногу. Но сейчас он водит машину, хотя у него протез.
– Такого отца нельзя не любить, – с тихой торжественностью в голосе сделала вывод Майка, заглядывая Олегу в лицо, – каждому бы такого. А вот мне с моим папой не так повезло. Нет в нем героического начала, хотя и воевал. Был сапером на Северном фронте, даже за Северным полярным кругом. Но ранен совсем чуть-чуть: палец на руке прострелен. Смешно! Да и характер у него не героический, не боец. Рохля он, как говорит бабушка. И вообще – не пара он Марфе, не ровня. Хотя я его люблю, но гордиться не получается, нечем гордиться. Вот если бы он был космонавт, артист, писатель или ученый, как вы, например… Мама сказала, вы кандидатскую скоро защитите?









































