Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
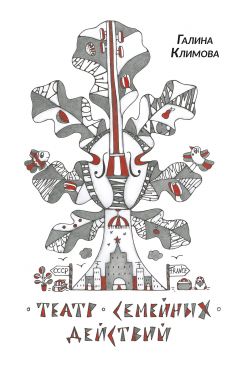
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Да наш! Николай Чудотворец!
Майка с Ильей так и прыснули.
– Непредсказуемая ты наша. В отце Петре узнала Николая Чудотворца, а художника Славу Бирюкова вспомнить не можешь!
– Славу Калачева, – строго поправила Марфа Захаровна, – Калачев… не припоминаю. В голове ничего нет, только черная вата.
– Бирюков, Слава Бирюков!
– Бирюков, Калачев… Ты сама не знаешь, кто. Отстань, не помню ни того, ни другого, хоть убей! Как он выглядит?
– Кто? – теряя терпение, переспросила Майя, и тут же осадила себя, – попрошу, чтобы прислали фото. Может, опознаешь?
– Разумно, – тут же согласилась Марфа, – по фото, конечно. Что уж я совсем, что ли? – и она весело покрутила пальцем у облысевшего виска.
Через день прилетела маленькая невнятная фотография Славы, сосканированная из старой немецкой газеты. Оказалось, художник Бирюков – спортсмен и герой. Несколько лет назад он успешно совершил одиночное плавание на яхте вокруг Африки. На фото эффектно смотрелся парус с мальтийским крестом, фрагмент светлой палубы, на которой вполоборота сидел крепкий мужчина в бейсболке, белой майке и темных очках на пол-лица. Маша в письме лаконично пояснила: наш Слава.
Майка и Илья похохотали над новым сюжетным ходом из биографии художника Бирюкова, загадочным образом причастного к жизни Марфы Захаровны.
– Слушай, надо бы их вызвать в скайп! – возбудился сиявший щелочками хитрых глаз Илья. – Что-то как-то неубедительно. И, более того, подозрительно: все письма от Маши. Обрати внимание, все – от третьего лица и в мужском роде: Слава просит, Слава вспоминает… а на фотке Славу не рассмотреть. Сам-то он жив или как? И сколько ему годков, если он тещу Марфенькой величает?
– Твоя любовь к конспирологии, дорогой, переходит в манию.
Тем не менее Майка отослала в Мюнхен адрес своего скайпа.
Оказалось, у Бирюковых – а письма почему-то приходили от фамилии Штраухов, которых Илья мгновенно переиначил в Страусов – в данный момент скайпа нет, но «через несколько дней они непременно зарегистрируют адрес и вот тогда». Илья на пальцах объяснил теще про скайп:
– Скоро увидите своего Славу, настоящего живого Славу и, может, узнаете его.
– А он-то меня узнает? – с неожиданно проснувшимся интересом спросила Марфа.
– Ай, молодца! Ай-да теща! Женщина в вас – живее всех живых.
Марфа Захаровна признательно заулыбалась, засмущалась, но нити разговора не упустила:
– К чему мне перед ним красоваться? Седая, неухоженная, в халате. Как старуха. Какая ему радость? Пусть на него Майка взглянет. Потом расскажет.
– Может, причипуритесь? Бровки, губки, клипсики!
Со скайпом не получалось. Страусы молчали. Зато через неделю в Москву прилетела обещанная картина – дар художника Бирюкова.
На холсте, натянутом на подрамник размером 50×70, царило лето. Вернее, сорванное на бегу впечатление лета в каком-то городском парке или сквере, где все перепутано, растрепано порывами вздорных сквозняков. Сам воздух, настроенный на счастье, крылат и прозрачен. Хочется заслониться ладонью от неправдоподобного буйства красок, от переполненности жизни. Так бывает в детстве или когда влюблен. В письме, сопровождавшем картину, Слава посоветовал выбрать золотой, по возможности, состаренный багет в стиле барокко или антик.
– За что мне это, Господи?
Марфа с любопытством разглядывала картину и зачем-то водила по полотну пальцами. Нашла полянку с клумбой разомлевших роз, притаившуюся в кустах скамейку, а на ней… ба, да это же она, Марфа… Но кто этот человек? С кем она целуется у всех на виду так бесстыдно и жарко?
Уже несколько дней Марфа Захаровна отказывалась от еды, только пила. Она тихо и безболезненно угасала, хотя пульс и давление были в норме.
Приходя с работы, Майка присаживалась на низенькую табуретку у ее постели и всматривалась в застывшее лицо, пытаясь отыскать сходство с прежней Марфой. Она силилась понять, чего ей хочется больше: чтобы Марфа вот так тихо-тихо лежала и все-таки жила или чтобы отошла в мир иной, где ее ждут интеллигентный Жорж, героический генерал Виталик, а может, и Коля Фатов, и Олег, и тот человек, которого она так и не вспомнила. Может, они встретятся и узнают друг друга? И в этом будет «продолжение следует»? Или там совсем другая жизнь, непостижимая для нас? Не имеющая ничего общего с той, которую мы проживаем?
– За что, Господи? – тихо, но внятно произнесла Марфа.
И Майка увидела, как вдруг подобрались и сложились в сморщенный синий бутон ее сухие губы. Худая слабая рука медленно-медленно поползла по груди, дотянулась до подбородка, нащупала бутон и накрыла его ладонью. И тут же донесся еле слышный чмок. Майка вздрогнула. Это было похоже на воздушный поцелуй. Как будто был поцелован воздух, воздух настоящей жизни, а заодно и все – и Майка тоже – кто этим воздухом дышит.
Рассказы
Ненаглядная Франция
Мартовский Париж не лучше мартовской кошки: в руки не дается, глаза горят, хвост трубой. Якобы жемчужно-серый переливчатый воздух – только метафора, только игра воображения артистических личностей. Мерзкая морось, мелко пробивающая ватный туман, промозглый ветер – идеальная атмосфера для затяжной депрессии. Вот почему аперитив, коньяк, кальвадос, абсент… На небо глаза б не смотрели. Не радовали ни красночерепичные крыши, ни усатые пудели, тянувшие на поводке своих ленивых хозяек, перебегавших от одной витрины к другой.
Мечтать о Париже полезно. Как принимать сезонный курс поливитаминов. Лучше на ночь под Джо Дассена или Эдит Пиаф, но можно и натощак с утра под оркестр Поля Мориа, потому что Мирей Матье – слишком однозначна, имеются противопоказания.
Наташа о Париже не мечтала. От этого ни бессонница, ни грех уныния (понимай: депрессия), ни ситуативные тревожности никуда не делись, но зато и адреналин не зашкаливал – пульс бился ровно-ровно. Ровно до того дня, когда ей позвонили из общества дружбы «СССР-Франция», в котором она безупречно состояла шесть лет, участвовала в массовках на разных мероприятиях и даже выучила французский, используя законный декретный отпуск.
– За границей бывали?
– Турпоездки по Болгарии, ГДР.
– Вам известно, что этот год объявлен ООН международным Годом детей?
О-па! Врасплох застали. Для Наташи – вот уже пять лет – каждый год был Годом детей, вернее – годом ее единственного сына Сашки.
– Да, вроде в «Правде» писали.
– Хорошо, что читаете «Правду». Давайте освежим вашу объективку: русская? беспартийная? замужем? сын?
– Всё верно.
– Беспартийная?
– Да.
– Хорошо, – неожиданно похвалили ее.
– Вы врач или учительница?
– Я – научный редактор в «Большой советской энциклопедии», по образованию географ.
– О, чудненько, – голос в трубке неожиданно потеплел, – то, что надо! И, простите, не из любопытства, вам нет тридцати пяти?
– Мне тридцать два года.
– О! – трубка почти улыбалась. – Наталья Васильевна, – трубка, оказывается, знала ее имя и отчество, – я в вас не ошибся, вы нам подходите. Для репрезентативности. Для полноты палитры, так сказать, социального спектра. Трудящаяся молодая мать, беспартийная, не врач и не учительница, и даже энциклопедистка. Как удачно и уместно, – трубка задрожала от радости.
– Для какого спектра?
– Ну, я же всё обозначил, – дребезжал разбавленный раздражением и без того не густой голос, – международный Год детей, общество дружбы «Франция-СССР» приглашает группу женщин из общества «СССР-Франция» на семинар по проблеме воспитания детей. Ничего не обещаю, но я представлю вашу анкету на рассмотрение президентского совета. Мне кажется, есть шанс. Вы оплачиваете авиабилет туда и обратно, остальные расходы обеспечивает принимающая сторона. Как только вопрос решится, сообщу.
Наташа оглядела редакцию: десять редакторов, уткнувшись в статьи, карты и книги, делали вид, что напряженно работают.
Дома она дала себе волю.
– Какого черта! Звонят на работу, потом – мозги всмятку. У коллег – уши топориком, но все тактичные, без вопросов. Подразнили зайку морковкой. Уверена, все впустую. Но травма-то осталась!
– Травма? Тебя берут! Можно сказать, с улицы и без блата. Куда берут? Не на картошку, не на овощебазу лук перебирать, а в Париж! А у тебя, извините, травма. Сколько мазохистов о такой травме мечтают?
– Нет, все-таки обидно.
– А ты не обижайся. И не будет обидно. Радуйся, солнце мое! Тебе Париж светит. Хочешь, начнем парлекать прямо сейчас?
Наташа недоверчиво глянула на мужа:
– Лихой же ты!
Через пару недель сообщили, что она летит. Утвердили единогласно. Летит с делегацией женщин, которую возглавляет секретарь ЦК профсоюзов Людмила Панина. Делегация, хоть и женская, но на о-ч-ч-ень высоком уровне: бывший руководитель пионерской организации Ирина Кулишова с подругой – шерочка с машерочкой – Надеждой Беловой, главным редактором «Пионерской правды», из республик – замминистра культуры Грузии и замминистра здравоохранения Армении, завотделом коммунистического воспитания журнала «Советская женщина» и завотделом культуры «Крестьянки», две провинциальных учительницы по русскому языку, воспитательница детсада для слабовидящих, педиатр, психолог и она, Наталья Васильевна Синицына, научный редактор, беспартийная трудящаяся мать тридцати двух лет.
Наташа никого не знала да и побаивалась этих секретарей, замминистров и главредов. Они еще в самолете сбились в стаю, щебетали по-птичьи, по-бабски шушукались – только это и обнадеживало. В гостинице всех, кроме Паниной, расселили попарно. Ее определили с Ганной Коробченко, завотделом коммунистического воспитания журнала «Советская женщина». Наташа сжалась, хотя обаяние и энергетика Ганны – что броским заголовком читалось во взгляде и ее порывистых движениях – располагали.
– Давай на «ты», без субординации.
– Давай, – камень с души свалился совсем неслышно, – у нас в редакции все на «ты», даже с заведующим. Хочешь, Ганна, буду звать тебя Жанна, почти Жанна д’Арк?
– Демократия, это хорошо, но – без перегибов, без амикошонства, – припечатала с улыбкой Ганна, открывая дверь номера.
Довольно просторная комната встретила их пурпурной подсветкой слепеньких бра. У стены тоже пурпурным атласным батутом распростерлась необъятная кровать с крохотными тумбочками по бокам, а напротив пялились в неприкрытой наготе унитаз, биде и раковина.
– Надо же, кровать-то одна! А санузел прямо в комнате.
– Как в борделе: всё красное, атласное. Всё – дешевка! – крупной дробью выпалила Ганна, проверяя батут на твердость.
– Одно утешение, всего две ночи. Ты, надеюсь, не храпишь?
– Да я как мышка-норушка.
– А я – лягушка-квакушка, – противно передразнила Ганна, – иногда позволяю себе. Но ты не церемонься, двинь в бок.
Наташа снова напряглась, потому что знала: будет терпеть, будет не спать, но в бок не двинет.
Завтрак в гостинице был не просто скромный, но вполне себе скудный: к кофе или к чаю – сиротская булочка, кусочек масла и порция джема.
– Континентальный завтрак на две звезды!
В автобусе Ганна села у окна. Молодая француженка-гид удивила с первых же слов хорошим русским – со сложноподчиненными предложениями, не путалась в глаголах совершенного и несовершенного вида и правильно склоняла существительные.
– Эмигрантских корней, – пудрясь и подкрашивая съеденные губы, ввернула Ганна, – смотри, вроде бы пацанка, страшнец, но – шарм. Слышала про французский шарм?
– Да уж.
– Сколько понаписано о неотразимости француженок, сколько бродячих мифов?! И кто насочинял? Не мясники, не солдаты, а мировые классики: Гюго, Дюма, Мопассан, Золя, Флобер. Одна мадам Бовари весь мир на уши поставила. О художниках и не говорю. Хватит Ренуара с его златовласками. И нет конца этой мифологии.
Наташе нравилось, как говорила Ганна – свободно и точно.
– Есть задумка написать очерк или эссе о француженках, – Ганна уже развернулась к Наташе и, сменив тональность, раскрывала свои творческие планы, – можно, конечно, и о французах, в смысле о мужиках. Я во Франции впервые. Глаз не замылен, нюх есть, но как воздух нужны типажи, судьбы, впечатления. Ты посматривай, если что интересненькое – сигналь!
Весь день показывали Париж и его достопримечательности. Когда подвезли к Эйфелевой башне, Наташа рассказала, что в 19-м томе «Большой советской энциклопедии» к статье «Париж», по ошибке вместо Эйфелевой башни втюхали картинку другой башни. Разница невелика: Эйфелева башня на четырёх ногах, а другая – то ли в Японии, то ли в Канаде – на шести. Но нашелся какой-то эрудит, военный пенсионер с Камчатки, и настрочил письмо, в результате редактору – строгача, и лишили тринадцатой зарплаты.
Вечером их привезли на Пигаль, просто для общего образования, просто поглазеть на крутящиеся огни Мулен Руж и, конечно, на проституток. Погода не располагала. Было малолюдно. Зазывалы, они же вышибалы ночных клубов, кафе и салонов, присматривались к каждому прохожему и громко приглашали, предлагали меню по льготным ценам, широким жестом распахивали двери, отдергивали ширмы. Их интерес и оживление вызвали туристы – группа немолодых женщин в теплых темных пальто и сапогах.
Наташе вдруг захотелось купить мужу колоду порнографических карт. Они выставлялись во всех витринах – разного формата, качества и художественного исполнения. Были дорогие и красивые, а рядом – похабные, дешевенькие. Но забежать в магазин даже на минутку было делом нереальным и рисковым. Людмила Панина замыкала группу, а впереди с гордо поднятой головой как настоящая пионервожатая шла Ирина Кулишова. Обе с опаской оглядывались, пересчитывая поголовье своих подопечных.
– Ира, давай в переулок! Хватит, насмотрелись! – крикнула Панина.
– В какой переулок? налево? направо?
Вдруг улицу перебежали двое зазывал, за ними – еще двое, и все встали поперек живой цепью.
– Советские! Коммунистки! Заходите! Мы вам покажем, как это делается!
Женщины, как напуганные овцы, метнулись кто куда.
– Направо, все направо, – командовала Панина. – В переулке наш автобус!
Зазывалы, держась за животы, заходились от хохота, и цепь рассыпалась:
– Куда, гражданочки, куда? Мы вас не тронем! – кричал с надрывом и без малейшего акцента один из них.
В отель вернулись усталыми и разбитыми. Больше всего устали от ослепительных и неотразимых парижских витрин, которые вроде бы не относились к достопримечательностям, но – мимо не пройдешь. Каждая – как театральная сцена: со светом, декорациями и фантастическим ассортиментом. Сначала у Наташи разбегались глаза и текли слюнки, потом закружилась голова, подкашивались ноги, а потом интерес притупился и стало муторно.
– Все напоказ, на продажу! – обличала Ганна, – думаешь, все могут позволить себе такие деликатесы или шмотки? Только буржуа. О рабочих не думают.
– Какие деликатесы? Колбаска, сыры, вино. Здесь выбор есть…
– И ты туда же, – опасно сверкая глазами, уже ополчилась Ганна, – а зачем столько? Кто столько съест? Какой Гаргантюа? В мире каждые шесть минут один человек умирает с голоду, в том числе – дети. Шесть минут – и нет человека, пока мы тут любуемся и восторгаемся, еще шесть минут – и нет ребенка. Здесь – обжираловка, общество потребления, смотреть тошно.
Тошнота, и вправду, накатывала прибоем. Наверное, от переизбытка эмоций. Наташа прикрыла глаза, переключась на мысли о доме, о Сашке, который, наверное, сейчас спит… Нет, все-таки ужасно хочется попробовать тот сыр с белой плесенью, нарезанный аккуратными треугольниками, или сыры с синей и черной плесенью, или тот, густо обсыпанный перцем, и еще тот – в деревянной коробочке. Про ветчины и колбасы забыть. И навеки забыть о пирожных.
Засыпая на батуте, как в гигантской люльке, Ганна вдруг припомнила:
– Какая сумасшедшая гамма помады! А у нас всего шесть оттенков. И ничего – все красавицы, – она улыбнулась, зачмокала и захрапела.
Наташа бестактно пресекла ее храп:
– И помаду, и духи, и кремы – всё видели. Только где они сами-то, хваленые эти француженки?
– Им все не впрок, – поднимая встрепанную голову, включилась на автомате Ганна, – ни кожи, ни рожи, в каких-то хламидах немыслимых цветов, носатые, без макияжа… тьфу!
Семинар проходил формально и скучно, но поездку надо было отрабатывать. Участвовали только женщины, хотя феминизмом не пахло. Просто складывалось впечатление, что детей воспитывают матери-одиночки. И живые француженки, и деревянные «советик», улыбками компенсирующие незнание языка, разглядывали друг друга с любопытством. Наташа с Ганной сидели рядом и тоже пялились на француженок – ни одна не тянула на красавицу, были обаяшки, симпатяги, миляги, но не более.
Обсуждали, какой вред детской психике наносят военные игры и игрушки в виде разных милитаристских штучек.
– Все не столь однозначно, – парировала кареглазая, похожая на Гавроша, молодая учительница из Лиона, – испокон веков мальчики играют в войну. Это традиционно ролевая игра в любом обществе. Это проявление мужского начала.
– Согласна, – взяла слово Людмила Панина, тяжело поднимаясь из глубокого кресла, – но лишь отчасти. Всем известно, сколько усилий и средств вкладывает наша страна в борьбу за мир…
Панина говорила долго, значительно, но слушали ее вяло. И в тот момент, когда ей самой уже хотелось закруглиться, в зал шумно вошли мужчина и женщина. Она кивнула – то ли приветствуя, то ли извиняясь – и председатель семинара показала рукой: садитесь. Женщина оглядела аудиторию или, может, захотела, чтобы аудитория оглядела ее – такую статную, породистую, зеленоглазую блондинку в облегающем красном платье, в черных туфлях на каблуках. Они сели напротив Наташи и Ганны.
И Наташа сразу наступила на ногу Ганне, которая записывала в блокнот что-то из речи Паниной.
– Глянь!
– Она, – Ганна улыбнулась и тут же затаилась, как опытный охотник, караулящий дичь, – один ноль в твою пользу.
Объявили выступление Наташи. Она говорила о высоком уровне мультипликации в СССР, о гуманизме детских мультиков. Как ждут и любят дети передачу «Спокойной ночи, малыши», на которой выросло не одно поколение. Своему сыну она разрешает смотреть телевизор очень выборочно, хотя муж не всегда ее поддерживает.
– А я у себя дома ка-ак жахнула…топором по телевизору! И теперь тишина! – вклинилась на чистом русском женщина в красном платье. – Простите, что перебила. Я – член общества дружбы «Франция-СССР», Лариса, а это – Хуан Перес, мой муж и тоже член нашего общества. Хуан, подтверди, как я топором рубанула по телевизору, скажи, Хуан! Сил нет смотреть это дерьмо!
– Вот тебе и француженка! Откуда вы, такая воинственная? – громко спросила Ганна, оценивая Ларису как героиню будущего очерка.
– Я – русская, а муж – испанец.
Все зааплодировали.
Благодаря природной проворности Ганны и ее журналистской хватке они с Наташей за обедом сидели уже вместе с Ларисой и Хуаном.
– Ой, товарищи вы мои дорогие, какое счастье говорить и слышать русскую речь, – разливалась раскрасневшаяся после коньяка Лариса, ее глаза зеленели, как молодые листья после дождя, – откуда вы?
– Мы – москвички, журналисты, – подгоняла в нетерпении Ганна, – вы про себя расскажите!
– Чего ж не рассказать? Но сначала выпьем!
Фужеры с красным вином дружно опустели, и это настроило всех на одну волну.
– Я из-под Киева. Мне и пятнадцати не было, когда фашисты вошли в город. Нас с мамой на рынке похватали, и через сутки – в товарняк и nach Deutschland. Вагоны битком набиты, дышать нечем, жарища. Вдруг самолеты, и давай бомбить. Взрывы, крики, кровь! Ад! – Лариса схватилась за голову, разворошила копну уложенных волос, будто боялась, что вот-вот с потолка начнут падать бомбы. – Часть вагонов разбомбили. Тут тебе и убитые, и раненые. Все кричат. Живые бегут, и мы с мамой тоже бежим не знамо куда… Немцы палят. Самолеты бомбят. Меня контузило. Очнулась – опять поезд, опять едем, но без мамы… Сказали, мама убита.
Хуан приобнял жену, которая – девчонка, сирота – казалось, все еще была в том поезде…
Официант раскладывал большие ломти ростбифа, горячего, душистого, истекающего розовым соком.
– А дальше что?
– Дальше Германия, работа на заводе, жизнь в бараках… deutsche Diszipline, deutsche Ordnung. Спасла молодость! Крепкая я была дивчина. На заводе познакомилась с французом. Он подкармливал, жалел, на три года старше меня, говорил, что любит. После освобождения вместе уехали в Париж.
– А почему не на родину? Почему в Париж?
– Вы что? На родине бы в лагерь упекли. А в Париже мы с Раймоном поженились, я четверых детей родила – все мальчики. Это уж потом я от него ушла.
– Ушла? С четырьмя детьми? В чужой стране? Вот это характер, – у Ганны от потрясения сорвался с вилки кусок ростбифа и тяжело упал на скатерть.
– Так шо? Ежели он пил, как собака, бездельничал, твердил, что уже наработался в Германии аж на всю жизнь. А я ничем не брезговала – и уборщица, и сиделка, и официантка. Десять лет тянула семью. Но когда меня взяли в магазин тканей, – а я была хорошенькая, стройная, – Лариса, приподняв крылышки темных бровей, обвела всех взглядом, убеждаясь, что ее слушают и верят, – вот тогда и ушла от мужа.
– Да вы, Лариса, и сейчас потрясающе выглядите!
– Сколько же вы мне дадите, если без арифметики?
– Тридцать восемь!
Лариса завела к потолку глаза, присвистнула и улыбнулась, как настоящая суперстар:
– Пятьдесят два. Плюс две внучки!
Она откинулась на спинку кресла, давая возможность рассмотреть в подробностях и свое лицо, и фигуру.
– Ого! – вытаращилась Наташа, выискивая морщины, но Ларисина кожа сияла такой свежестью, будто она только что умылась родниковой водой.
– А Хуану – сорок два! – с удовольствием продолжала она удивлять.
– Да вы что? Чтобы муж на десять лет моложе? Это что-то из ряда вон, у нас бы… – Наташа не решалась продолжить и обратилась к Ганне, которая тут же перевела стрелки:
– И что в магазине?
– Работала и продавцом, и моделью, и шить научилась. Коммерция шла успешно. Мне хорошо платили. Я содержала детей и платила за жилье. Потом встретила Хуана. Он – надежный, он – инженер с дипломом. Мы оба влюбились по уши. И я родила нашу дочку, нашу Лидочку. Ей шестнадцать. Моя главная забота – найти ей хорошего мужа. И хочется русского. Мы с ней по-русски говорим, она Тургенева любит.
– Тургеневская девушка послевоенного образца! – Ганна что-то писала.
Наконец, она встретила француженку, которую предчувствовала еще в Москве. Но она оказалась русской. Парадокс. Писатели и художники, с обожанием писавшие о шарме француженок, влюблялись в русских… Элюар, Ромен Роллан, Пикассо, Леже – и много еще кто – были женаты на русских.
– Каждое первое воскресенье месяца я варю ведро борща с буряком. Здесь борщ варить не умеют, но кушать любят. И приглашаю студентов, стажеров, командированных из Союза. Очень хочу найти Лидочке русского мужа.
Сыры уже лежали на деревянной дощечке, а в креманках плавали груши в шоколадном соусе.
Ошеломительная встреча с Ларисой заглушила все гастрономические впечатления. Наташа чувствовала, как Панина ловит каждое слово и беспокойно поглядывает в их сторону, как понимают ее сидящие рядом подруги.
– По родине скучаете, если честно? Тянет? – Ганна спросила намеренно громко, и все – как члены госкомиссии на экзамене – замерли в ожидании ответа.
– А то! – Лариса всплеснула руками и прижала их к сердцу, – сколько плакала, сколько снов пересмотрела про нашу хату, про маму.
Все с облегчением вздохнули.
– Думаете, поверила, что маму бомба убила? Ага, как же! Не могла ее убить никакая бомба, знаю я свою маму Мы с Хуаном столько написали запросов, столько лет искали. И нашли! Нашли через Красный крест. Да знаете, где? В Магадане. Через Москву с пересадкой прилетели в этот Магадан, потом на попутке двести километров до колхоза, где работала мама. Мама – труженица, на хорошем счету была. Только на доске почета ей почему-то места не нашлось, а все потому что плен, оккупированная территория… Ведь плен в СССР приравнивали к предательству. Какое предательство, скажите? Какая вина? Нас гнали в Германию, как скот…
Ганна строчила. Уголки перламутровых губ Людмилы Паниной съезжали без тормозов вниз, пока главный редактор «Пионерской правды», белокурая Надежда Белова в чем-то горячо ее убеждала.
– Из одного ада в другой – в сталинский лагерь. Но мама выжила. Мы с Хуаном купили ей маленький домик под Херсоном, помогли с переездом. У нее там свое хозяйство: куры, кролики, козичка.
– Что ж вы, Лариса, маму к себе-то не взяли? Она столько пережила, а стакана воды перед смертью подать некому.
Разговор захватил всех. Во главе с Паниной – кто сидя, кто стоя – женщины почти не дышали.
– Тю, возьмешь ее! Как же! Была она здесь. Мы отдельную комнату приготовили, подарков накупили, сыров, конфет. Но днем, как всегда, уходили на работу, а она распахнет себе окошко, заберется – ноги калачиком – на подоконник, а у нас, между прочим, седьмой этаж – сидит, смотрит на улицу, якобы жизнь наблюдает. Сколько мне из полиции звонили, боялись, как бы она из окна не сиганула. Суицид и все такое… Мама рассядется себе в байковом халатике и семки лузгает. Полмешка семок с собой привезла. Посидела так с недельку, и говорит:
– Спасибочки, дочечка, нагостилась! У вас тут «здравствуй» не услышишь, каждый сам по себе. Как вы с этими сволочами живете?
– С тех пор – ни ногой. Мы с Хуаном летаем к ней, не скажу, что часто, но мама не обижается.
– Вот что значит патриот, – откликнулась бывшая пионерка Надежда Белова, в ее глазах заиграли светлячки восторга, – труженица, настоящая советская женщина!
– А я какая? – Лариса поднялась во весь свой немалый рост, сделала глубокий вдох, от которого грозно затрепетали побелевшие ноздри, и она пошла грудью на главного редактора. – Выходит, по-вашему, я не настоящая?
– Да что вы, Лариса! – бросилась на амбразуру Ганна и, не давая никому рта открыть, – вы человек другого поколения, другого предназначения: четверо сыновей, дочка, борщи для русских… Разве это не патриотизм? Мы, – она утвердительно тряхнула головой, – мы вами гордимся, так ведь, Людмила Семеновна?
– Несомненно, исключительная судьба!
Все, как по команде, заулыбались, засоглашались.
– Вы, Ганна, обязательно напишите об этом в «Советской женщине», – посоветовала, как приказала, Панина, – какой редкий, поучительный пример!
Ларису задарили матрешками и хохломой, ее лобызали, обнимали как настоящую героиню и самую красивую француженку.
Их привезли в знаменитый курортный городок Аннеси в предгорьях Альп, на берегу озера. Воздух пьянил сильней, чем крепкая настойка. Они бродили по лабиринтам узких улочек с неожиданными арками, по каменным мостам и вдоль канала, обращая внимание на богатые виллы, построенные в старину еще итальянцами, многие из этих домов превратились в руины.
Мэр города пригласил в ресторан, его стены были увешаны охотничьими трофеями – оленьими рогами, шкурами кабанов и косуль, чучелами птиц.
Ганну и Наташу подвели к столу, за которым сидела девушка, прямо-таки Козетта из «Отверженных», и очень пожилой мужчина, чьи глаза, как в круглом аквариуме, жили за толстенными стеклами очков.
– Я – Мирей, изучаю русский язык, но говорю плохо.
– А я – Борис Николаевич Каледин. Борис.
– Из эмигрантов? – расправляя складки нарядной юбки, спросила Ганна.
– Из первой волны, – кивнул головой Борис. – А вы, простите, не представитесь?
Ганна и Наташа коротко рассказали о себе.
– Москвички, значит. Люблю Москву и часто бываю.
– Зов крови? Ностальгия? – Ганна почуяла золотую жилу. Она достала блокнот и ручку, чем вызвала улыбку Бориса и живой интерес Мирей.
– Сегодня чудесное меню: трепанги и розовое шампанское.
– Обожаю всяких морских гадов, – возбудилась Наташа. – Трепангов, правда, не пробовала. Какие они?
– О, это тонкий деликатес! – Борис вытянул трубочкой губы, будто собираясь дегустировать. – Трепанги со специями и сыром, запеченные в ракушке святого Якова, которая – символ путешественника, пилигрима, а по-русски – паломника. Знаете такое слово?
Ганна взглянула на Наташу, та пожала плечами. Слово «паломник» из другого времени и другого лексикона казалось не акутальным.
– Я тоже трепангов никогда не ела.
– Скажу по секрету, – Борис огляделся, а потом прошептал Ганне на ухо, но так, чтобы Наташа тоже услышала, – французы – неисправимые гурманы. Больше всего на свете они любят поесть, то есть пожрать, и все время говорят о еде.
– Ну, какой же это секрет! Об этом весь мир знает.
Ганна допила шампанское и приступила с жаром:
– Вы, Борис, не родственник генерала Каледина? Фамилия-то громкая.
– Нет, мы однофамильцы. Я тоже из донских казаков и дослужился до подъесаула, а генерал Каледин был атаманом Войска Донского.
– Как же вы решились на эмиграцию?
– Жизнь за меня решила. А я как военный человек подчинился. Знаете пьесу Булгакова «Бег»? Она в театре Ермоловой в Москве много лет идет. Я как прилетаю в Москву, обязательно смотрю. Как про меня написана. И плачу. Тоже на корабле в Турцию, из Турции в Румынию, потом во Францию. Выучился на токаря, женился, двое сыновей.
– Ваши дети говорят по-русски?
– Конечно, нет. Они настоящие французы.
– Наверное, скучаете по России, если часто бываете?
– Разве забудешь Россию? Она – незабываемая.
– А Франция?
– Она ненаглядная, Франция.
Борис снял очки.
– Не плачьте! – Ганна отбросила и блокнот, обняла его совсем по-родственному и поцеловала в мокрые морщинистые щеки.
– Плачу от радости, вот встретился с вами и говорю по-русски. Мне и по-французски поговорить не с кем, особенно после смерти жены, – Борис вытер рукой глаза и щеки, платком протер очки. – Дети в другом городе. Не видимся годами. А мне скоро восемьдесят. И, кроме кота, никого. Я не бедный человек, могу и в Москву, и в Ленинград. Так и живу – от поездки к поездке. Верите ли, помню наш хутор, казачьи песни, праздники и почему-то рыбалку. До сих пор во сне вижу, как тараньку ем. Скажите, продают ли в Москве вяленую тараньку?
Наташа не могла вспомнить, когда видела вяленую тараньку.
– Да у нас вяленая таранька на каждом шагу, – заявила Ганна, не моргнув глазом. – Жирненькая, пахучая, с розовой спинкой, светится вся.
Глаза Бориса тоже засветились.
– Дайте адрес, я пришлю посылку с таранькой, чтоб вы не скучали со своим котом.
– Да как это возможно?
– Еще как, я такую тараньку пришлю, пальчики оближете!
Борис сильно расчувствовался и так покраснел, что на лысине мелким бисером заиграла испарина.
Прощались долго. Обещали писать, звонить, видеться в Москве. Борис прижал к своим горячим щекам Наташины ладошки, расцеловал их и сказал:
– Спасибо, голубушка! Хоть с вами совсем мало поговорили. Но я приду провожать вас.
И, правда. Когда Наташа с Ганной подошли к автобусу, у передней двери стоял сияющий, как именинник, Борис, а в руке – пакет с апельсинами.
– Это вам в дорогу, – он протянул Ганне пакет. Она трижды его поцеловала, шмыгнула в автобус и оттуда крикнула:









































