Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
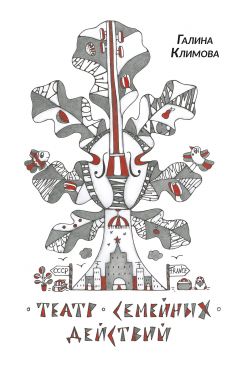
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
При понятых:
аккомпаниатор, уборщица и канарейка, —
в актовом зале музыкальной школы
мне объяснили, что я – еврейка.
И всё захолонуло от стыда и срама
во мне, нечистой и будто голой,
и зажмурилась рампа,
и захлопнулась рама.
За скрипку не бралась долго,
потому что – еврейка.
Всё. Шабаш!
Вот и бабушка,
положив зубы на полку,
бухтела:
все евреи как евреи, а наш?
По всему выходило, виноват отец,
его непроходимо черные союзные брови
и чужестранное – Даниель?
И я от горя слегла в постель
с подозрением
на наследственную болезнь крови.
Но это была любовь
без межнационального раскола.
Кружила голову
биографии отцовская школа:
театр «Синяя блуза» и бледный ребе,
худо выросший на маце (если б на хлебе!),
чьи галоши папа прибил к полу…
Где дядя Мориц, певший в Ла Скала?
Где кантор – тезка царя Соломона,
и прадед Мойша 111 лет,
и 13 его детей
из местечка Прянички?
Я на карте искала,
в черте оседлости во время оно,
но даже косточек не собрать, хоть убей!
Предпочитая трудящийся дух,
отец из-под палки учился на тройки,
на ветер пустил свой абсолютный слух,
оттрубил лет двадцать прорабом на стройке.
А раньше старлеем штабной разведки
(южанин, всю войну – в Заполярье),
рисковый Даня по партзаданию
королевским жестом освободил Данию,
чуть не женившись на местной шведке,
на Лизе-Лотте с острова Борнхольм.
Ее фото – в день конфирмации —
на попа ставит весь наш семейный альбом.
Отец не знал языка предков,
законопослушный советский еврей,
он не терпел плохо закрытых дверей,
запаха газа и на тарелке объедков.
Зато знал Гамсуна и даже Блейка,
«Двенадцать» Блока – коронный номер!
К чарльстону, извольте, свежая байка,
а как голосил тум-балалайка
его трофейный немецкий «хоннер»!
В переходном возрасте после 85 годов,
налегке залетев ко мне, – ранняя птица, —
в воздух выпалил: ну, я готов!
Доча, я готов креститься.
И в последнюю пускаясь дорогу,
не дотянул, как пращур до 111 лет,
уйдя от товарища Сталина,
приблизясь к Богу,
как будто впервые родился на свет.
Ясно вижу его в смешных ситцевых трусах, маленького, жилистого, в тазу со святой водой в квартире отца Валентина, совершающего таинство Крещения.
Отец Валентин весьма мощен и живописен (не зря вдохновил Шилова изобразить его на фоне Троицкого собора в Раменском), он похож то ли на Мусоргского с портрета Репина, то ли на Волошина кисти Кустодиева, но только зеленоглазый, рыжий и очень бородатый.
Мой папа решил креститься в 85 лет. Как это пришло ему в голову? Никаких признаков верующего ни в будничной, ни в праздничной жизни он не проявлял. В церковь не ходил, разговоров о Боге не вел. И вдруг… Крестной матерью вызвалась стать Лидия Александровна, мама отца Валентина, тоже фронтовичка, почти ровесница папы, любившая жизнь как непрекращающийся театр, где она всегда – главная героиня.
Папа стоял в тазу навытяжку, а позади – мы с Лидией Александровной, подпевая и держа горящие свечи. Отец Валентин надел, наконец, на папу крестик… Серебряный крестик был таким маленьким даже на его цыплячьей груди, что у меня с сожалением вырвалось:
– Такой маленький?!
– Это же детский крестик, – улыбнулся отец Валентин, вкладывая в эти слова многозначительность, понятную лишь посвященным. Завершив таинство, они остались наедине. До нас, сидящих на кухне, донеслось:
– Теперь вам надо покаяться, а в ближайшие дни хорошо бы причаститься в храме. Крещение, как известно, освобождает от грехов, – сколько же их накопилось… Вы из нас всех теперь самый чистый, самый безгрешный. Но наверняка есть что-то, в чем в первую очередь хотелось бы покаяться? Ведь вы прожили такую большую жизнь! Может, что-то особенно мучает?
– Да, вы правы, отец, жизнь прошла большая и интересная.
В папином голосе я расслышала гордость за себя, радость за случившееся и какую-то праздничную расслабленность.
Отец Валентин повторил:
– На мелочах не зацикливайтесь, но случается, что совесть мучает…
– Да что вы, батюшка, поверьте, честное слово, мне не в чем каяться. Я – хороший человек, подлостей не делал, не доносил, не «стучал», и люди меня любят…
– Ну, хорошо, – вдруг отступился отец Валентин, – приняли святое Крещение, стали как младенец… и спрос с вас как с младенца, только причаститься не забудьте!
…Русское кладбище лежало в окрестностях Харбина на высоком открытом холме. У нас на таких холмах ставили храмы, чтоб издалека видать было, чтоб возвышался над каждой низкой жизнью, а здесь холм не пожалели под кладбище, да еще под такое небольшое и совсем небогатое, ничего общего с Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, хотя Харбин и называли – Париж Востока.
Опрятная бедность могил, памятников и православных крестов примиряли всех, уравнивая со временем и землей. Русские имена и фамилии – Устинов, Зайцев, Кузнецова – мешались с китайскими – Иван Иванович Чжу, Цзяньпин Фомина. Над их общим покоем носились сырые ветра сиротства. И подвывали. Никого, кроме нас, на кладбище не было. Давно уже кончилась русская эмиграция. Некому больше навещать и обихаживать могилы.
Мы с Риммой Казаковой были здесь почти одни, не считая журналистов и переводчика, говоривших о чем-то своем. Римма набрала горсть земли в целлофановый пакет, и мы молча направились к машине, поджидавшей неподалеку.
Солнце заливало окрестности, и узнаваемые черты равнинного ландшафта открывались в пронзительной простоте простора. Все – как дома, и дышится так же. Такая же золотая осень, и золотые листья – тоже самой высокой пробы.
И вдруг всего в нескольких шагах, чуть в стороне от машины я увидела широкую белую арку входных ворот с сиявшим на солнце могендовидом.
– Сколько у меня теток да дядьев! – как из включенной черной тарелки в коммуналке на Зацепе транслировался из детства почти дикторский баритон отца. – Мой дед народил тринадцать детей, но где они? Знаю, что один в Харбине, кантором служит… кажется, Соломон. Только ты, доча, прикуси язык, и никому ни полсловца не смей, а то мы все… – и он полоснул по шее большим пальцем.
Так я впервые узнала о канторе.
И вот через десятилетия эти слова на полную мощность включились в памяти, и крепко держали с того момента, когда Римма Казакова предложила мне с группой писателей лететь в Китай. И сразу же что-то затеплилось, забродило, замаячило внутри – а вдруг?
– Смотри, еврейское кладбище… и если он умер в Харбине, то, может, лежит здесь?!
Толстые плакучие березы отбрасывали ознобную сень, в которой в образцовом порядке расположились памятники и плиты. Чисто и тихо. И так же – безлюдно. Никто никого не ждет. На иврите и по-русски выбиты другие, но тоже привычные имена: Рабинович, Гейман, Катц, Смелянский…
– Как его фамилия? – переспросила Римма.
Разойдясь по тропинкам, мы вчитывались то в старые полуслепые, то в позолоченные подновленные надписи надгробий.
Второй раз я услышала о канторе в конце 1980-х, когда мама вернулась из Австралии с медицинского конгресса. Она жила в Сиднее, в семье университетского профессора-гастроэнтеролога.
– Златкина? – прямо с порога переспросил профессор и, церемонно продолжил: – Тысяча извинений, сударыня, не могу удержаться, чтобы не задать вопрос несколько интимного содержания, и надеюсь, это не покажется бестактным: возможно ли, что у вас есть или были родственники в Харбине?
Ударение он ставил на последнем слоге.
– Родной дядя моего мужа…
– … кантор главной синагоги. Так я так и думал. Я сразу же заподозрил вас в родстве. Фамилия не очень распространенная, хотя вы, похоже, русская: нос курносый, скулы татарские, глаза серые…
– Нет, зеленые.
– Возможно. Не разглядел. А мы с моей супругой Идой Иосифовной много лет его знали, почти соседствовали, и до сих пор вспоминаем, – чудный Соломон Моисеевич… А голос какой! Голос, достойный столичной оперной сцены. Здесь, в Сиднее таких голосов нет, хотя наша опера весьма знаменита.
Он ведь с самим Шаляпиным встречался, даже пел для него, когда тот в Харбине концертировал. Шаляпин в гостинице «Модерн» жил. Гостиница сохранилась и до сих пор стоит на Большом проспекте. Федор Иванович был большой ценитель, бо-о-олыиой знаток искусства канторального пения. А вы когда в последний раз слышали кантора?
– Да что вы, профессор, какого кантора? Откуда? Я – русская, крещеная, член партии. Моя девичья фамилия Орешкина. В синагоге даже на экскурсии не была, хотя она недалеко от нашего дома. У меня муж еврей. Это он – Златкин. Но он – советский еврей. Никогда не ходил в синагогу, и языка своего не знает, кроме «лехайм». Он тоже – коммунист, на войну пошел московским ополченцем, добровольцем, и воевал до последнего дня. А сейчас работает в министерстве. Очень любит петь (у него прекрасный баритон) и поет замечательно, особенно романсы – это у него фамильное. Я многих певцов слышала, но кантора – нет, не пришлось.
– Кантор – это больше, чем певец, это – камертон, настраивающий на молитву, когда забываются заботы, скорби, суета и можно скинуть этот чудовищный панцирь нашего вни-ма-тель-но-го равнодушия, разъедающей черствости, окаменелости внутренней, почти палеонтологической. Нужен невероятно подвижный и гибкий голос, иначе как передать нюансы, акценты? Это очень древний вид пения. И вы – близкие родственники такого великого человека, такого таланта, – весь город замирал, когда он пел псалмы, – вы никогда не слышали кантора и даже не представляете, что это такое… Ведь кантор, он и в театрах, и в концертах выступает. Он в некотором смысле – артист, свободный художник, хотя в синагоге у него специальное место. Разве в Москве не так? – Профессор разволновался, но не прерывал рассказ:
– Соломон Моисеевич был Божий избранник, и потому совсем не богатый, с трагической судьбой. Настоящий еврей – это всегда трагедия, еще с библейских времен – ветхозаветная трагедия. Точно знаю, – один из его сыновей погиб, младший, самый любимый, погиб. Когда в 45-м после разгрома японцев советские войска вошли в Манчжурию, начались аресты. По ночам. Немилосердно хватали всех: и русских, и евреев, и богатых, и бедных. Их в одночасье объявили «японскими шпионами». А ведь Харбин многих приютил. Там жили около двадцати тысяч евреев, а русских и китайцев было раз в десять больше. Сколько людей пропало без вести! Скольких расстреляли в овраге за городом, забросали землей и камнями! Не сосчитать.
Тем, к кому от властей не было претензий, предложили выехать в СССР. Больше пятидесяти тысяч добровольно уехали. Младший сын кантора был юноша романтичный, видимо, талантливый и с убеждениями. Он не скрывал своего благорасположения к Марксу и Ленину. И еще. Он любил русских и всё русское – музыку, литературу, особенно поэзию. Еврейский мальчик, тонко чувствующий русскую поэзию. Почему так? Сколько евреев стали великими русскими поэтами! Он прямо-таки рвался в Советский Союз. А тут такой случай. И он, приличный мальчик из еврейской семьи, поехал в первых эшелонах на запад, в коммунистическую Россию, к Советам. Энтузиасты – так ведь их у вас называли?
– Да, точно. У нас в Москве есть шоссе Энтузиастов, еще не переименовали, – бывшая Владимирка, Владимирский тракт, по которому каторжников в кандалах вели в Сибирь. Я из Ногинска, а там в центре города – тюрьма с царских времен, прямо архитектурное произведение, с церковкой. И ее не разрушили, а надстроили. И Ногинск, тогда еще Богородск, и эта тюрьма были первой остановкой, первой передышкой на пути в Сибирь.
Какое кощунство – назвать дорогу страданий и смерти «Шоссе Энтузиастов»! Ведь enthusiasmos – это сильное воодушевление, душевный подъем, страсть, если угодно. И вот эти несчастные, эти обреченные на погибель эн-ту-зи-ас-ты целыми семьями снимались: бросали дома, магазины, рестораны, бросали даже заводы, – так им не терпелось уехать в Россию, так хотелось дышать воздухом родины, отдать ей свое сердце, молодые силы. Они уезжали на строительство новой жизни. И только много позже до нас дошли чудовищные слухи: на границе их всех обыскивали, отбирали паспорта, деньги, вещи, в том числе и одежду, чтоб никакой собственности, чтоб все равны. Якобы там, в Советском Союзе, ничего не понадобится. Все бесплатно, все принадлежит всем, никакой частной собственности, ничего личного. Такой modus vivendi, такой социализм. Скорей всего, его расстреляли. Может, в сталинских лагерях сгнил. В общем, мальчик пропал. Со многими такая беда случилась. А вот про старшего сына ничего не знаю, хотя он остался с родителями.
Мы и сами из Харбина в 56-м без оглядки бежали. За два часа собрались. Всё бросили, лишь бы в живых остаться. Китайцы предоставили евреям корабли, дали возможность уехать всем, кто хотел. Все это было довольно быстро и хорошо организовано, надо отдать должное. И кто куда: кто в Израиль, кто в Южную Америку, а мы – в Австралию. Вот с тех пор и живем здесь. В Сиднее большая колония харбинцев.
В Москве этот рассказ нас потряс.
Мы поверили, что перестройка докатилась и до нашей семьи, и уже не скрывали, не отрицали, что есть за границей родственники.
Больше о канторе я ничего не знала.
Переходя от могилы к могиле, вдруг поймала себя на том, что изнутри что-то дрожит, вибрирует, поднимается… мешает и дышать, и двигаться, но явно не температурный озноб, а какой-то неизвестный, приятно согревающий трепет. Чистая метафизика. Душа? Дух?
Похожее ощущение я пережила в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, когда, казалось, что физическое тело мое испарилось, а вместо него – что-то невесомое, неощутимое, чем я без страха себя осознала. Несколько глубоких вдохов-выдохов – и можно идти дальше. Но далеко я не ушла. Метров через пятьдесят на коротко стриженном газоне лежала старая, посеревшая от времени, замшелая, разбитая с краю плита:
Кантор главной синагоги
свободный художник
Соломон Моисеевич
Златкин
умер 24 ноября 1953 года
17-го Кислов 5714 г.
Соломон, я нашла вас!
Это дух ваш звал меня, вы долго ждали, чтобы воскресла и продолжилась на земле память о вас и пролились слезы над вашей могилой.
Это вы, Соломон, разбудили мою тоску по родовому древу, и неисповедимыми путями Господь привел меня к вам! Не чудо ли, прилетев в Китай, приехав на скоростном поезде в Харбин, уже через пару часов найти могилу? Как песчинку в море житейском.
Божьи дела. И в этом – всё неправдоподобие жизни, которое посильней реалий литературы.
У меня, видимо, наследственная черта – мистические совпадения и встречи.
Во время войны мой отец попал в Пермь. Наутро пошел на рынок, чтобы продать или обменять на продукты несколько пачек махорки. На рынке торговали махоркой по 800 рублей за пачку. Он стал продавать по 700. Тут же выстроилась очередь, а в очереди – пожилая, небольшого роста грузная женщина в черном берете, и все смотрит, сверлит насквозь остренькими карими глазками. Он не выдержал:
– Гражданочка, что вы все стоите, ничего не покупаете, а только смотрите и смотрите на меня?
– Уж очень вы напоминаете моего сына Эдичку, он так похож на вас, один к одному, – и расплакалась. – Наверно, кушать хотите, солдат? Пойдемте, накормлю… с дочкой познакомлю!
Ну прямо сваха, и к дочери ведет. Неспроста все это. А что терять-то солдату?
Дом был бедным, но порядок чувствовался с порога. Их встретила девушка, перезрелая, с виноватыми еврейскими глазами. Сели за стол, пообедали. Ни как зовут, ни фамилии не спросили, ничего их не интересовало. Говорили только женщины и все об одном: как страшно погиб Эдичка, а гость поразительно похож на него. Хозяйка, вся зареванная, ушла в соседнюю комнату:
– Вы тут посидите, познакомьтесь получше. Люся, покажи солдату альбом.
Люся листала страницы: это папа, это мама, это тот самый Эдичка, а это моя тетя из Ленинграда, а это…
У Дани перехватило дыхание, хлынули слезы, и он без стеснения зарыдал в голос и тыкал, тыкал пальцем в фотокарточку, с которой смотрели мужчина, женщина и двое детей – мальчик и девочка.
– Мама, мама скорей, ему плохо, – закричала Люся.
Мать выскочила в одной ночнушке:
– Что такое?
– Откуда это у вас? Кто это?
– Да это Файбус, мой брат Файбус, – успокаивала хозяйка.
– Значит, вы – моя тетя! Ведь это же мой отец, моя мать, сестра Аня и я!
– Даня, так это ты? Ты? Племянничек, мальчинька дорогой мой! Вот почему я глаз от тебя не отрывала, очень уж похож на сына моего, на брата твоего бедного Эдичку… материнское сердце чует! – и она разрыдалась с новой силой.
Так ровно на сутки отец обрел родную тетку Геню (наверное, Генриетту) и сестру Люсю, и с удивлением узнал заодно, что настоящее имя отца не Федя, а Файбус.
Когда моя двоюродная сестра Элла уезжала с семьей на ПМЖ в Израиль (для чего понадобилась куча документов, подтверждающих их еврейство), мы с огромным удивлением узнали, что нашу бабушку Клару звали – Хая.
Стоя у могилы кантора, я вспомнила, как летом 54-го папа впервые привез меня в Николаев погостить к бабушке и дедушке.
Ехали на поезде. В Харькове стояли больше двух часов, и папа повел меня обедать в вокзальный ресторан. Тяжелая роскошь кожаных темно-красных диванов и кресел, стульев с гнутыми ножками и овальными спинками, топорщившаяся свежесть крахмальных скатертей и салфеток, предназначенных для жирных ртов или мокрых пальцев, официантки с ярко накрашенными губами, порхавшие вокруг папы птицами в кружевных наколках, которые я приняла за сказочные кокошники. Ресторан сразил меня до немоты, до потери аппетита. Я полюбила на всю жизнь его запах, как тот гороховый суп с копченостями и сухариками, который так и не доела.
Николаевская жара особенно безжалостна к приезжим. Бабушка Клара уже ждала в дверях длинного каменного особняка на Фалеевской – строго стриженная под каре, в синем шелковом платье с белым кружевным воротничком. Она тронула мой лоб холодными сухими губами, как будто сыграла строгое стаккато:
– Добро пожаловать!
Я вздрогнула и, съежившись от этого внезапного холода, громко спросила:
– Па, ты где?
– Как ты разговариваешь, девочка? Разве тебя не учили обращаться к родителям на «Вы»? – откровенно возмутилась Клара.
Я поняла, что не понравилась с первого взгляда, и зря папа вступился, объясняя что-то про времена и нравы.
На следующие утро Клара поинтересовалась:
– Когда у тебя в последний раз был желудок? Жидкого не кушала с самой Москвы?
Я промолчала, но бабушка повторила:
– Когда ты ходила желудком, признавайся!
Это меня совсем сбило с толку: как это ходить желудком?
Тут взорвался папа:
– Ребенок не понимает. Разве нельзя, мама, без ваших николаевских штучек? Нельзя ли попроще спросить, например: когда у тебя был стул? Она, неглупая девочка, она вам ответит.
Клара была совсем не такой, как Феня.
Никто из бабушек моих подруг не ходил дома в туфлях на каблуках и нарядной блузке, заколотой камеей, или в шелковом платье с медальоном. В руках почти всегда книга. Кажется, Ольга Форш… Когда Клара успевала готовить, стирать, убираться? Казалось, она не знала будней, истощенных нуждой и заботами, хотя папа рассказывал, что Клара сирота и в большой бедности жила в Галиции у родственников. По-детски жалея бабушку Клару, я силилась понять, как это быть взрослой, но в то же время оставаться сиротой… Неужели и взрослым нужны родители? Чтобы продолжать любить их – старых, больных, некрасивых? Или чтобы их воспитывать?
Клара не гоняла в стадо коз, не доила коров, не кормила свиней и кур, как бабушка Феня. Она не рубила по двести килограммов капусты, чтобы с морковью и с яблоками заквасить в бочке, не солила огурцы и грибы в душистых от можжевельника кадках, рассчитывая на долгую полуголодную зиму, на большую семью и гостей. Но зато пекла яблочный штрудель и готовила гефилте фиш – фаршированную рыбу, зато играла на рояле и не пела русские или украинские песни, как Феня, а исполняла оперным сопрано то, что называлось ария, каватина, вокализ. По окончании Одесской консерватории Клара Леонтьевна Теплицкая – одна из хористок оперного театра – вскоре выскочила замуж за очень положительного на вид господина, мелкого банковского служащего Федора Моисеевича Златкина, моложе ее на шесть лет. Они перебрались в соседний Николаев, где не было самого синего в мире Черного моря, но зато протекал Южный Буг – почти безбрежный, и на горизонте вполне отчетливо читались яхты, паруса и чайки.
Клара довольно скоро открыла в Николаеве свой театр – детскую оперу. Музыкальные постановки с костюмами и декорациями были заведомо обречены на успех, умиляя чадолюбивых родителей и сентиментальную публику. Главные роли часто доставались Ане и Дане, детям-погодкам Клары и Феди. Сохранились фотографии спектакля на тему из древнегреческой мифологии. Все это было до революции. А после – Клара стала неприметной учительницей музыки.
Гораздо позже, в попытке объяснить что-то коренное, я ощутила себя во многом Клариной внучкой, когда всерьез влюбилась в скрипку и чуть не стала профессиональным музыкантом, когда распевала в саду романсы и вокализы, а в четырнадцать лет стала сочинять драматические пьесы и успевала за короткое подмосковное лето поставить их в своем дворовом театре в Ногинске, подбирая костюмы и аксессуары из трофейного гардероба офицерских жен, когда впервые прикоснулась к стихам.
«Златкинская порода. Вся в них!» – уличала Феня, сердясь на мои «художества» или гордясь успехами.
Летом, душно висящими вечерами, город Николаев плавился. Его густой воздух переливался волнистым маревом, вздрагивал рыбными, мясными, фруктовыми и ванильно-коричными запахами. Поверх всего – запах залежавшегося сыра. От города пахло перезрелым сыром. Чтобы как-то освежиться, семья собиралась в большой комнате за круглым столом под нависшим шелковым абажуром – апельсин с обтрепанной бахромой. Окна были распахнуты, и свет этого семейного благополучия разливался по улице. Все наслаждались холодным арбузом, запивали ледяной газировкой. Для этого нам с Зиной надо было купить трехлитровый бидон газировки с клюквенным сиропом, долететь до дома и успеть наполнить стаканы, пока газ не улетучился и вода еще шипит ядреными пузырьками, – семья ждала за столом. На ужин часто подавали холодный фруктовый суп с рисом (почти компот), разлитый по глубоким тарелкам. Очень забавно. Но под утро, к своему ужасу, я понимала, что теплые ласковые реки, по которым я вольно плавала во сне, – это несмываемый позор… Опять опрудонилась! И толстый Рыжик, спавший под мышкой, покидал меня без оглядки.
Я полюбила утренние походы с дедом Федей на рынок, как на главный праздник южного города. Там вполне живые в ведрах копошились зеленые раки, на прилавках таращились головастые бычки, позолоченные «скумбриевичи» и плоские «камбаловичи», вяленая ставридка, свежая килька. Там красовались разноцветные горы шелковицы, янтарных кукурузных початков и «синеньких». В мясном ряду дед выбирал неощипанную парную «куру», равнодушно проходил мимо разложенных во всем диапазоне своей красы и стоимости шматков украинского деревенского сала, похожего в разрезе на едва брезживший розовый рассвет. Я не видела таких роскошных базаров. Дед торговался без явного интереса, вяло и застенчиво. Продавцы, хорошо его знавшие, снисходительно соглашались. До последнего дня Федя был незаметным и незаменимым семейным ангелом.
Файбус и Хая. Нет, наши Федя и Клара. Что же сделала с ними жизнь, вернее, страх перед жизнью, если родители не открыли своих имен даже родным детям? Ведь имя свято, оно в некотором роде – судьба. Выйдя за пределы черты оседлости, приспосабливаясь к новой жизни по новым правилам, они выбирали новые имена. Под этими чужими именами, вписанными в паспорта, они проживали, наверное, чужую жизнь. И хоронили их под чужими именами. Но кто тогда проживал их жизни?
Даня, залюбленное еврейское дитя, редко виделся с родителями и почти не писал им. Сын – отрезанный ломоть… Его это мучило, он казнился и каялся даже мне, особенно когда получал письмо, обычно от отца, умолявшего черкнуть несколько слов больной матери. Но чаще писать родителям и видеться с ними так и не стал. Может, еще потому, что не приняли, не признали родители его русскую жену, московскую сноху, несмотря на ее ученую степень и успехи в медицине.
Клара умирала от рака легких. Она уже однажды пережила рак, и ей удалили правую грудь. Меня, маленькую, это так пугало, что я не отводила глаз от того места, где твердо возвышался протез. Клара умирала в своей постели. Любимая внучка Элла собралась выходить замуж, но все тянула, все откладывала свадьбу из-за болезни бабушки. И тут Клара категорически потребовала, чтоб свадьбу не переносили и не отменяли, ей хотелось услышать через стенку крики «горько», хотелось последнего праздника в родном доме, хотя за рояль она уже сесть не могла, да и самого рояля давно не было, – все разворовали еще в войну, соседи разграбили, как только они эвакуировались на Урал.
Знаю, что Клара помогала и ближним, и совсем незнакомым, кого-то пристраивая, давая какие-то адреса, вещи и деньги вечно гонимым евреям. Шло ли это от сердца? Или разговоры и дружба с Любавичским ребе дали свои плоды? Клара сочувствовала идеям Теодора Герцля, мечтала о Палестине. Там теперь ветвится и множится ее поросль – правнуки и праправнуки.
Сразу же после ее смерти кот Рыжик исчез. Он не хотел жить без Клары.
Это было более полувека назад. И вот недавно моя кузина-Зина приехала в Николаев и глазам не поверила: на Клариной могиле, чудом уцелевшей от оргии местных вандалов, в тени персидской сирени лежал живой, весь в колтунах, рыжий кот…
Почему все это так сильно полыхнуло во мне? Почему именно в Харбине непостижимым образом высветилась и зашумела еврейская ветвь моей судьбы? Папы уже нет в живых. И совсем не случайно, оказывается, шептал он:
«В Харбине мой дядька Соломон… кантор в синагоге».
Это правда, папа. Я нашла его!
Сопровождавшие нас китайцы – переводчик и миловидная Сунь Ли, главный редактор литературного журнала, – потрясенные находкой не меньше, чем я и Римма, времени зря не теряли: деловито щелкали фотоаппараты, записывали в блокнотик имя и дату смерти, расспрашивали. И тут, как в плохом фильме, из ниоткуда вырос энергичный пожилой мужчина в белой кипе.
– Шалом!
Мы выбрали язык общения – французский, и обменялись визитками. Менеджер компании «Локхид Мартин» приехал из Америки на могилы предков.
– Хотите, прочту кадиш?
– Хочу, – согласилась я.
Он вынул карманный молитвенник и, раскачиваясь, начал читать на иврите. Мы с Риммой замерли слева и справа от него. Я, православная христианка из Москвы, стою у могилы моего незнакомого двоюродного деда, кантора главной синагоги Харбина, и первый встречный иудей из Америки читает над ним – через столько безмолитвенных лет – кадиш. Я плачу. И Римма, глядя на меня, тоже плачет. Вот она – воля и милость Божия.
Потом была главная синагога, бездействующая со времен культурной революции, как и три десятка русских православных храмов, молчаливо подпирающих китайское небо. В Харбине не осталось, похоже, ни одного еврея, но в синагоге – потрясающий музей истории и культуры евреев Харбина. В крупном научном центре изучают наследие не столь далекого прошлого.
С азартом искателя вглядываюсь в мужские еврейские лица на фотографиях конца XIX века и первой половины XX. Породистые бородатые «отцы» города и просто отцы семейств, местные знаменитости: банкиры, фабриканты, идеологи сионизма, инженеры, врачи, музыканты, спортсмены. Их красивые жены, счастливые дети. Вместе со строителями КВЖД, вместе с белыми офицерами и эмигрантами они придали небывалую значительность провинциальному Харбину, самому русскому из китайских городов. Они построили благополучный Харбин, до боли напоминавший Одессу, Ростов, Николаев, наполнили здешнюю атмосферу своими талантами и ностальгией. Кто из этих людей мог быть моим двоюродным дедом?
Стоп! Остановила фотография, вернее, подпись: кантор. И всё. Без имени и даты. Как не корректно, – сработал во мне внутренний редактор.
На фото аскетичный молодой мужчина с узким лицом и близоруким взглядом. Он кажется узнаваемым и родным. Смущает, правда, канторское облачение и головной убор, хотя разрез глаз точно как у папы и его племянниц – Эллы и Зины. Он пел в этих стенах. Его слушали единоверцы, жена, сыновья, друзья, соседи, поклонники. Где они все? Наверняка кто-то еще жив. Должно же остаться что-то, кроме могилы? Может, сохранилось в харбинских архивах и ждет если не меня, то моих внуков? Ведь не последним человеком был в Харбине кантор главной синагоги, свободный художник Соломон Моисеевич Златкин…
Жизнь закручивала свою спираль, с жаром набирала обороты. Однажды промозглой весенней полночью она, влюбленная, как мартовская кошка, почти бегом возвращалась со свидания. В квадратной арке их хрущобы в Гончарном проезде, прислонившись к стене, экономно освещенной фонарем, стоял отец. По поднятому воротнику пальто, по лицу, погруженному в мохеровый шарф, было видно: он здесь давно. Что-то случилось, и отец дожидался ее вовсе не для того чтобы отругать за позднее возвращение или укорить: порядочный молодой человек всегда проводит свою девушку до дома, а лучше – до квартиры. С кем связалась?
– Что за ночное дежурство?
Отец вплотную подошел, сильно прижал к себе и уткнулся носом в ее стриженую макушку. Он дрожал и говорить не мог.
– Кто-нибудь умер, па?
Он мотнул головой.
– С мамой, что ли, решили развестись?
Сдвинув брови, низкие, густо залегавшие почти на верхних веках, он замотал головой еще энергичней.
– Доча, я должен признаться… хотя мне очень трудно, поверь. – Его голос надломился, и она испугалась, что он расплачется, но отец вдруг собрался и выдохнул:
– Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла. Сегодня… – он снова замолк, а ей стало слышно, как стучали его зубы. – Сегодня я обрел дочь, – наконец выговорил он сквозь дрожь и сквозь мохеровый шарф.
– Как это обрел? А до сегодняшнего дня ты не считал меня за дочь? Я не существовала, что ли?
– Да не тараторь! Ты ничего не поняла. Наверное, плохо объяснил. Я обрел сегодня дочь, – высокопарно повторил отец, уже четко артикулируя, и голос его выпрямился, – не тебя обрел, а другую дочь, о которой до сегодняшнего дня знать не знал, слышать не слышал.
И тут он заплакал. Не зарыдал, а именно заплакал длинными слезами, заливавшими его щетинистые щеки.
– Сегодня в министерстве вызвали в первый отдел, – вдруг встрепенулся он. – Прихожу, там человек, совсем незнакомый, но меня не проведешь, я сразу понял, откуда. Обращается ко мне, мол, так и так, пришел поговорить по поводу вашей дочери. У меня ноги подкосились, язык к нёбу прилип: всё, думаю, доигралась моя шалава… наверное, за связь с диссидентами или с правозащитниками… а может, просто использовали, подставили, а теперь шьют какую-нибудь антисоветчину. И я залепетал: – Простите, тут какое-то недоразумение. Дочка – студентка, комсомолка, и политикой она…









































