Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
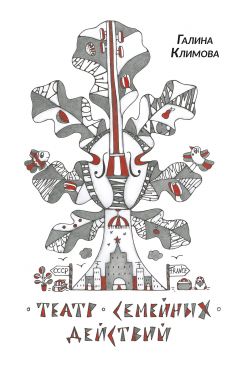
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Избранные сны
Уже несколько лет мы встречаемся.
Не часто. И только во сне.
Но это не менее захватывающе, чем предыдущая жизнь, просто она проросла в иной реальности. Например, как если бы почву заменить гидропоникой. Все продолжает расти, дает свои питательные урожаи.
Не разминувшись здесь и встретившись там, с лету узнаем друг друга. Легко!
Смерти нет.
Времени нет.
Нет социума.
Вот, например. Мы болтаем или вместе едем куда-то по делам, ссоримся, танцуем, и я его ревную.
Два года назад зимой он сильно отличился: громко топал ножищами, пробивая хлипкое дно предутреннего тонкого сна, грозил пальцем и даже чуть не смазал мне по физии, учуяв, что я навострилась выйти замуж за любителя полетать на параплане, бывшего полковника контрразведки, вылитого Никитона, то бишь Никиту Михалкова. Так и вижу этот угрожающий палец, это категорическое покачивание головой, вытаращенные, налившиеся кровью глаза: не смей! не позволю!
Зато сам не заставил себя долго ждать и вскоре заявился в новой голубой рубашке, молодой, загорелый, с неотразимой улыбкой.
– Какая у тебя красивая рубашка, Юрочка!
Он совершенно расплылся:
– А ты что думаешь, мне здесь некому рубашку купить?
И я проснулась от света его счастья.
Любочка Лузина – последняя любовь Юры.
Медовая калорийка с изюмом, философиня в первом поколении, успешная бизнес-леди, общественница, мать двоих взрослеющих дочерей, замужем. Неоспоримое преимущество – моложе Юры почти на двадцать лет. Что еще нужно для счастья?!
Квартиру беспардонно начали заселять всяческие безделушки, обезоруживая своей многочисленностью и безошибочной безвкусицей. Любочка чаще всего дарила разнообразные по размерам и материалам – серебряные, глиняные, фарфоровые, хрустальные – колокольчики: они обживали книжные полки, письменный стол, телевизор, сервант, а самые нежные – пробрались на кухню. Но права голоса они не имели.
Всех их перешиб курносый персидский котенок, очень похожий на рыженькую Любочку и цветом, и какой-то общей пушистостью облика. Наверняка Любочка ощущала эту визуальную и тактильную общность и хотела, чтобы Юра носил котенка на руках, играл с ним и тискал эту мурлыкавшую зверюшку, когда они по каким-то причинам не могли бывать вместе.
– Или я, или котенок?! – не смирялась Тася.
– Конечно, котенок.
Юра волновался и порхал в поисках достойных ответных подарков, дотошно советуясь с женой. В удушающих сомнениях выбирал новый галстук, со вкусом поливался парфюмом перед встречами, следил за кожей рук и состоянием ногтей и довольно скоро обновил недельный комплект трусов, вполне еще приличных.
Ошибиться в диагнозе было невозможно даже народному целителю – клиническая картина тянула на классику. Азартная игра в «третий лишний» затянулась на несколько лет: острый период болезненного отчуждения, потом изнурительной холодной войны с прицелом на капитуляцию, потом вялотекущего сожительства в одной квартире с общим холодильником, но в разных комнатах.
Организационные активы Юры, его связи и мозги деятельно сошлись с Любочкиными амбициями и деньгами.
Их совместная жизнь, очевидно, была на взлете: заграничные вояжи, экологические акции и симпозиумы, научные публикации. А у Таси: вегетативно-сосудистая дистония с паническими атаками, книга стихов, две работы, имитирующие материальную состоятельность, самостоятельность и почву под ногами.
– Разводиться не буду, – бушевал Юра, впадая в гипертонию. – В четвертый раз жениться даже мне стыдоба… срамота в моем-то возрасте, когда я дважды дед, и уже прадед. Все едино, и вы все… одним миром мазаны. – Он хватался за голову обеими руками, запускал пальцы в волосы и тер виски, потом приглаживал вставшие дыбом вихры и успокаивался.
– Как я тебя брошу? Кто я без тебя? Ты тридцать лет меня терпела, тридцать лет, не фунт изюма, но если уж тебе совсем невмоготу, совсем уже во-о, – он полоснул по шее указательным пальцем, – уходи сама, иди куда хочешь.
Хотеть было страшно. Идти некуда. И они не развелись.
Вскоре, как права на наследство, открылись подробности.
Очень озабоченный и уже от одного этого постаревший и погрузневший, Юра по-родственному попросил:
– Слушай, у меня здесь теперь новая жена, очень хорошая интеллигентная женщина, я обязательно вас познакомлю. Я ей много о тебе рассказывал, и она даже заревновала к тебе. Она научный работник, докторскую пишет. Это нелегко, по себе знаю. И ты мне тогда помогла, редактировала мой бред, даже печатную машинку пришлось купить из-под полы на Пушкинской, немецкую «Эрику». Теперь мой черед отдавать долги, и я чем-то должен помочь своей жене, ну хотя бы еду готовить. А я, кроме яичницы, не мастак в этом деле, и здесь пока не научился – совсем нет времени. Помнишь, как однажды щи варил, когда ты лежала в больнице? Кочан капусты в кастрюлю не помещался, а другой кастрюли я не нашел. Ясенька голодный, бульона не хватает, картошка непроваренная. Выручи, распиши на неделю меню с рецептами, попроще да поподробней.
На чистом листе А4 старательно от руки вывожу: «Понедельник. Завтрак…» Прямо как в санатории, где восстанавливался даже почерк.
Никакая химчистка будней не брала этот сон. Он упрямо стоял в глазах. Вот дружок-то, вот помощничек примерный! Раньше не очень-то готовил, а с новой женой – и сам как новенький.
Оставалось лишь удивляться реальным завязкам будущих метасюжетов. Утешала или будоражила любая весточка.
Вдруг звонок: «Любовь Игнатьевна умерла. Почти год назад».
Впервые Тася позвонила ей, чтобы сказать, где и когда будут похороны Юры. Потом уже звонила его предыдущим женам: первой – однокурснице Зое, с которой Юра прожил 14 лет и родил сына Мишу, и второй – Ане, бездетной художнице, старше его на 12 лет. Обе прийти отказались: Зоя была в санатории, Аня доживала свой век безвыходно. И только Любочка смущенно благодарила и верещала:
– Конечно, я не прийти не смогла бы, точно, не смогла бы, но и прийти без звонка не решалась. Я так благодарна, так благодарна, прямо камень с души сняли. Такой человек ушел! Человечище, личность, махина! Конечно, буду. И в церкви, и на кладбище. Может, помочь чем?
В самый разгар московского лета они приснились уже вдвоем – муж и жена, но уловимо запомнился только он.
Возбужденный, моложавый, почему-то в белой песцовой шубе, в темных пляжных очках и с чемоданом почти в человеческий рост, он весь сиял в наэлектризованном ореоле меха, суетился и жутко смущался.
– Чего ты хочешь? – не выдержала я.
И совсем неожиданно услышала сама от себя:
– Наверное, у тебя родился ребенок? Опять мальчик? И ты хочешь, чтобы я его усыновила?
Он радостно закивал, расцвел своей неотразимой улыбкой и абсолютно счастливый, каким можно быть только во сне, закружился со мной в обнимку.
– Хорошо, усыновлю, – не могла уже остановиться и я, опьяненная предстоящими материнскими хлопотами.
Блаженный и обнадеженный, он безоблачно растаял.
Московская жара нестерпима.
Может, Любочка Лузина и вправду защитила докторскую на небесах, пока Юра жарил оладьи из кабачков?
А ведь совсем неплохо: доктор небесных наук.
В последний раз мы виделись с Любочкой, кажется, на вернисаже. Я ее не сразу узнала: она – не она? Похудела, постраннела, линялые волосы, тусклый голос. Я во всех ракурсах цепляла ее глазами, пока она не подошла сама:
– Да я это, я! Что, так уж изменилась? – И сразу вопрос в лоб: – Стихи пишутся?
– Пишутся, пишутся… вот, например:
Когда я не была твоей женой,
твоей гражданской маленькой войной…
Или:
Я – юрская глина,
я – мужья жена,
огнеупорна, обожжена…
– Надо же, – подосадовала Любочка, – у вас вообще-то муж умер, визуально от вас уже не больше половины осталось, а вы рифмочками пробавляетесь, про себя пишете, какую-то юрскую глину выдумали. А если б вашего мужа звали не Юрием, например, тогда бы о чем писали?
– Афродита вышла из пены морской, Ева – из ребра Адама, а я, наверное, из юрской глины, которая почти везде: это и вязкая грязь под ногами, и полное жизни дно древнего моря, и подручный материал для ваятеля. Всё – книга жизни: о нас и обо мне времен моего юрского периода.
– Вы бы лучше про супруга конкретно – Царствие ему небесное! – написали что-нибудь обстоятельное, масштабное, если уж ваша натура так заточена на креатив. Я, например, сама частенько вспоминаю, как мы плодотворно работали, сколько актуального, сколько полезного сделали! Мне его не хватает, с ним было очень комфортно. Очень скучаю, моментами даже тоскую. Позитивная личность, одна биография чего стоит!
– Да, он любил повторять: одной моей жизни на семь других хватит. Я готов умереть в любую минуту, нечего мелочиться.
– Мемуары писать собирался.
– Да я как только услышала про эти мемуары, прямо вздрогнула: вот и старость, вот и смерть не за горами. Успеет ли? Ведь жил так, будто перед ним даже не Русская равнина, а сама вечность простиралась до непостижимого горизонта.
Любочка ревниво ловила слова, шумно сглатывала и моргала часто-часто, как будто ей мешала вытравленная чёлка., длинно нависавшая сбоку.
Я чуть было не разревелась: ведь и она любила., и она тосковала, и ей так же темно и пусто без него, как и мне. Мы молчали в одной тональности, уже не соперницы, не врагини, а почти сестры, осиротевшие, несчастные сестры.
Сколько раз Тасина рука тянулась к телефону, чтобы наговориться о муже или запросто встретиться с Любочкой, распить бутылочку и – опять наговориться о нем. Любочка могла рассказать то, чего Тася не знала или не поняла в Юре, могла подтвердить до мелочей знакомый образ, ни днем ни ночью не выпускавший Тасю из своего магнитного поля, утверждая по всем направлениям силовых линий – и даже вопреки им – крепость их связи… Не обмануло синее слово СВЯЗЬ на свадебном, якобы случайном «Москвиче».
На поминках Любочки не было.
А на кладбище она повела себя престранно. Когда церемония закончилась, и все, окоченевшие от мороза, поднялись в похоронный ПАЗик от фирмы «Титан-Ритуал», Любочка задержалась, что-то достала из сумки и вроде бы стала закапывать, разгребая голыми руками песчаный могильный холм. Может, заигралась в «секретики»? А может, горсть земли захотела взять?
– Нет, нет, – горячо твердила глазастая подруга Лида, – она что-то спрятала, что-то зарыла в снегу под венками, по весне всё откроется.
Когда растаял снег, издалека уже были видны обугленный деревянный крест, металлические скелеты спекшихся венков и дочерна обгоревшая, но живая старая береза. Говорили, что на кладбище собираются сатанисты, жгут кресты, крушат памятники. Кем надо быть, чтобы так ненавидеть не только людей, но даже память о них?
– Простите, сударыня, – прорезалась однажды Любочка, – вам не стишки, вам мемуары за мужа писать давно бы надо.
– Ну вы и хватили, мадам. Как это «за него»? Конечно, мы прожили вместе тридцать лет, ноу когда он умер, я вдруг ощутила, что знаю его лишь на уровне событий, хотя ион – душа нараспашку, и я – открытый человек. Был живу казалось, все известно вдоль и поперек: чем дышит, что на уме, на сердце. Все чуяла. Срослись!
А потом – удивительная аберрация! Даже фотографии изменились, какой-то очевидный сдвиг, смещение, и он – уже другой: значительный., чистый, милостивый. Наверное, продолжение того – знакомого, родного – от шрама на плече до мохнатых мочек ушей. Так и со стихами складывается, как с людьми. Например, с поэтом Николаем Панченко. После похорон столько вдруг открылось: что было понятным – стало пророческим, обычное – чудесным, темное – мистическим. Или вот Таня Бек жила и писала о любви и смерти. А стоило ей умереть, и читанные-перечитанные ее стихи стали другими. Или, может, это мы – другие?
И для себя, и для тех, кто ушел.
Юра на очередном субботнике посадил клен перед нашим подъездом. Клен американский, рослый., неприхотливый. Юра умер, и клен не пережил зимы. И морозы-то особенно не лютовали, и никто вреда не нанес. Не выжил без любви., засох от тоски. Всё какие-то знаки, намеки, необъяснимые сближения, совпадения. Правда, почему-то растительной природы. Например, лет двадцать красовалось у нас на подоконнике семейное, или денежкино, дерево. Я всегда забывала его поливать. И вдруг, когда я уже овдовела, оно впервые расцвело и подгадало точно к моему дню рождения. А в декабре просто так не расцветешь!.. Два белых цветочка, малюсенькие., сморщенные, жалкие. Вот тебе твои денежки и твоя семья. Радуйся, жено!
После смерти близкого человека многое проявляется совсем в ином масштабе – в масштабе личности. И не каждый способен вместить и эту личность, и этот масштаб без искажений. А Любочка говорит: сядьте да напишите. Разве это легко? И возможно ли?
Тася приказала себе уснуть, чтобы непременно повидать Любочку и кое-что растолковать ей, ученой женщине, философу:
– Я что, в Анголе была, когда в джунглях то тлела, то бушевала гражданская война? Или учила французский по прописям в марсельской тюрьме, когда за тысячи километров, в Ташкенте, в те же революционные дни мая 1968-го Зою Терентьевну, его мать, разбил инсульт, от которого она не оправилась?
Марсельская тюрьма оказалась ошибкой, не был Лесное «агентом Москвы». Тогда во Франции от страха всех «советик» хватали и сажали, на всякий случай. А он в Марселе случайно сфотографировал грабеж магазина… Его приняли за соучастника. Он – бежать, ну и так далее. Голодовка, консул. Французы извинились и в порядке компенсации за моральный ущерб подарили поездку – на полицейском катере – на остров Иф, в замок графа Монте Кристо.
А про то, что Лесное был очевидцем крушения Берлинской стены, вообще не написать. Все уже отснято и известно по документальным кадрам, по бессчетным воспоминаниям. Даже юбилейная художественная выставка в Берлине уже прошла. Помню что-то о бывшем секретаре ЦК Компартии ГДР, который уже тогда работал шофером. Вот он-то и привез Юру в нужное время к нужному месту. У нас дома хранится кусочек берлинского бетона. Насмотревшись всего этого, он понял: очень скоро и у нас рванет. И рванет пострашней Чернобыля! Налицо революционная ситуация: верхи не могут, низы не хотят. Во всех учебниках истории была эта фраза. Может, коммунистов на фонарях еще будут вешать.
Намного раньше были Конго и вся французская Африка, Йемен и даже Кампучия – сразу же после свержения режима Полнота.
– Он кое-что мне рассказывал о Кубе, о встречах с Фиделем. Мы, к счастью, успели слетать в Париж, там, сами знаете, Тур Эффель, Мулен Руж и все такое прочее, хотя деловые поездки – это совсем другое, и прошу вас не передергивать, дорогуша! Не разменивайтесь на разговоры. Все заболтаете. Вон какой запал пропадает! Нет, здесь нужны конструктивный подход и креатив, да, да. А ещё – выверенная хронология, архивные данные, фотоматериалы. От вас ждут позитивных мемуаров, а то потомки, и, в первую очередь, сын, Ярослав ваш дражайший, не простят, со свету сживут, не сомневайтесь, съедят с потрохами. И кроме вас, голуба моя, некому. Вы – крайняя. Вы – жена, пусть и третья, но должны хотя бы для потомков постараться, а в широком смысле – для вечности, – пафосно завершила Любочка. – Начните без художеств, без литературщины, по-простому, как в анкете: где и когда родился, в какой семье…
Вспомнив, видимо, о чем-то неотложном, она исчезла.
Надвигалась пора защиты докторской.
А Тасе пора засесть за мемуары.
– Без литературщины… с анкетой она, конечно, хватанула, – Тася скривилась. – А если сочинить персоналию типа энциклопедической, например:
ЛЕСНОВ Юрий Михайлович (03.09.1929, Фрунзе, ныне – Бишкек, – 19.03.2003, Москва), рос. историк, специалист по международным отношениям, политолог, общественный деятель, проф. (с 1982)…
Тася откинулась в кресле, покрутила затекшей шеей:
– Нет, не то, голая схема.
Тасины родители познакомились в ночном московском трамвае, в грохочущей «Аннушке». Сильно поддавший Даня с виртуозностью обезьяны удерживаясь за поручень и нависая обмякшим телом над зеленоглазой стрекозой в берете, вдруг запел: Я ма-а-а-ленькая балерина…
Именно в тот вечер Аня возвращалась с концерта Вертинского, где сам артист обратил на нее внимание, разглядел среди многих кареглазых, сероглазых, голубоглазых и даже пел, казалось, для нее одной. Стало жарко и почему-то стыдно. Захотелось свежего воздуха, сквозняка. Пешком она прошла пару остановок, чтобы вернуть себе нормальное сердцебиение, при котором вроде ничего не происходит, кроме самой жизни.
Было сыро и темно. Ветер продувал насквозь ее видавшее виды пальтишко. Она впрыгнула в трамвай. А там какой-то гражданин, сильно навеселе, и поет – Вертинского. Даня беспардонно навязался в провожатые, хотя трудно было определить, кто кого вел.
Много позже отец внушал: никогда не знакомься в транспорте! Это легкомысленно, банально и, в конце концов, неприлично.
Тем не менее Тася с Юрой познакомились тоже крайне легкомысленно: на танцах в пансионате Левково под Пушкином, когда они отплясывали под маленький оркестрик, и Юра не отпускал ее, крепко держал в танго, кружил в вальсе, раскручивал в твисте и – нахал! – переплясал-таки в чарльстоне. Они заплясались, а потом уже и разговорились, да так, что на следующий день его подружка, подловив Тасю в столовой, приказала:
– А ну, давай, мотай отсюдова! В Москву, nach Hausе, немедленно, а то не поздоровится!
Красная, потная, она угрожающе надвигалась и сопела.
– И не подумаю, – огрызнулась Тася.
– Дуй по-быстрому, говорю, а то плохо будет! Через полчаса придет такси, уедем вместе.
– Катись колбаской, а я уж завтра, и на автобусе. Сильно-то не ревнуй, – постаралась ее утешить Тася, – тебе он, может, и дорог, а для меня – это даже не эпизод в жизни.
Вечером они с Юрой долго бродили по дорожкам Левкова, говорили о джазе, о французских шансонье и почему-то о системе изучения иностранных языков по системе Лозанова. И она спрашивала себя: что это? что происходит? И сама себе отвечала: успокойся, это даже не эпизод в жизни.
Чистая правда, это была – сама жизнь, чей точильный камень будет много лет терпеливо и безошибочно стесывать неровности, шероховатости, болезненно острые углы и сколы, подгоняя мужа под жену, а жену под мужа, чтобы там, где у одного выпуклость, у другого – ровно такая же впадинка, чтобы совпасть, хотя бы в конце жизни, слиться, срастись в один неразделимый профиль. Как на знаменитой камее Гонзага.
Несколько лет назад я подарила на день рожденья Ярославу книгу стихов «Мама – сыну», написанных ему за несколько лет. Книга иллюстрирована семейными фотографиями, его детскими рисунками, школьными сочинениями, записочками и письмами типа: Здрастуй, дарагой Ворабей! Как дела?
Это была первая попытка, первая свободная версия семейной хроники. Может, сохранится? Что вообще остается после нас?
Воспоминания, вещи? Семейные альбомы, письма, диссертации, книги? Сервизы, драгоценности, антиквариат? А может, все это затмит солнце вожделенной недвижимости как самая конкретная и реальная для прагматичных потомков вещь? Все вещественное хорошо знает себе цену, находясь в подвижной системе купи-продай. Это соблазнительно.
Все невещественное – бесценно. Ни купить, ни продать, ни обложить налогами. В каких единицах – времени, любви, вины или печали – можно выразить эту бесценность?
В нашей семье, довольно благополучной по советским меркам, архивов не заводили, над рукописями не тряслись. Но кое-что уцелело: письма, документы, удостоверения и пропуска, по которым легко считывается профессиональная карьера, – дипломы докторов наук, профессоров, бесчисленные грамоты и благодарности от профкома, парткома и проч. В ворохе старинных и просто старых фотографий видишь лица, которые не опознать, и некого уже расспросить: кто этот мужик в белых валенках с галошами, до полусмерти придавивший казенный стул, за спинкой которого стоит убитая жизнью женщина, видимо, жена… И выбросить фото рука не поднимается.
После книги «Мама – сыну» захотелось продолжения, захотелось семейного романа, хроники, альбома, ставших в последние годы востребованными жанрами. Это симптом. Дефицит семейных отношений требует срочной компенсации – еще со времен античных трагедий. Всем хочется семейного романа. Каков он сегодня? Роман для семейного чтения или роман о семье?
Уже более ста лет не читают вечерами вслух всей семьей и не садятся перед экраном телевизора, как это было в 50-е годы, посмотреть спектакль «Любовь Яровая» или американскую версию «Войны и мира». На смену реальным семейным отношениям пришли латиноамериканские мыльные оперы и отечественные долгоиграющие телесериалы. Их многажды переживают и проживают, и обсуждают с большей страстью, чем собственные драмы и трагедии. Люди любят жить чужой жизнью. Многих она захватывает больше, чем своя. Жаль!
При социализме семейный роман крутили с партией или с государством. Социализация (она же – реализация) советских женщин планировалась по мужскому типу: высшее образование, работа, карьера. Два-три поколения советских людей почти не задумывались: что такое хорошая жена и мать, занимающаяся (не по телефону) воспитанием детей? Это было вроде бы не так важно и совсем не престижно. И обществом не поощрялось. Поощрялось перевыполнять производственный план, быть партийкой, активисткой, общественницей, а уж потом – семья. Но когда сломленные и спившиеся сторублевые мужья, искатели счастья на стороне, из защитников и героев стали безликими персонажами второго плана, то в герои семейной эпопеи вышли женщины, взвалившие на себя тяжести работы и быта.
И еще. Некоторые семьи сохраняли дети. Но как зачастую это было непосильно для детей!
Я видела сны:
там – сын мой
весёлый, как мячик
пинг-понговый дачный,
взлетал, не роняя лица,
с кручёной подачи
в Париже учёного мачо,
весёлого, шебутного, ещё молодого отца;
там я на коленках
средь строфики сбивчивых грядок,
или на кухне,
или в лесу на велосипеде,
супруга в подпруге —
таков и почин, и порядок,
как дефиниция из советских энциклопедий;
там – папа
душит в объятьях трофейный аккордеон,
отборной цензурой настраивая баритон
с прононсом одесским:
черти, рожна вам хаять режим!
А сам как рванёт во всю мощь:
Здесь под небом чужим…
И я подголоском: О, караван!
Кто из нас гость нежеланный в такой-то стране?
Я видела сны:
там – небо из рваных ран,
там – сын мой.
Я знаю,
когда он впервые
всплакнёт обо мне.
Дом моего детства, место счастья, – маленькая банька, с первого взгляда – вылитая украинская хата: низенькая, беленая, об одном близоруком окошке. А в саду – зима. И никуда не уходит, не проходит, как затянувшаяся болезнь. Пока я болела, научилась рисовать портреты (в три четверти) горбоносой Консуэло и балерин в шопеновских пачках, не подозревая о Дега и Зинаиде Серебряковой. Но, главное, я взрослела, впервые обнаружив личное пространство, где на свободе жил мой внутренний человек. С подружками стало скучновато. И неожиданно, прямо под боком я разглядела чудо. На стене, где тахта – самодельный пружинный матрас на деревянных чурбачках – висел ковер: лохматый, дремучий, с хороводом крупных алых роз, разметавшихся упитанными листьями по черноземному полю. На левом боку лежать было никак нельзя: сердце играло в табун взбесившихся лошадей.
Но эти розы были мне нужней и полезней лекарств. Я поворачивалась к стене лицом, водила пальцами по лепесткам, расправляла листья, гладила – против шерсти – теплое поле, трогала стебли, и они кололись, как живые.
Вот с кем хотелось дружить. Вот кого полюбила.
Нигде ничего похожего я потом не видела.
Почему тогда же не спросила, откуда он, этот ковер? Почему я так нелюбопытна? Может, это подарок? Или богатый трофей с Русско-турецкой войны?
После многочисленных переездов ковер пропал. И вдруг в Софии, в доме-музее поэта Ивана Вазова, я увидела свой детский ковер. И розы эти – снова мои подруги, сочинительницы стихов. Но теперь у них болгарские имена: Калина, Елка, Росица, Драга… Встретились через сорок лет, чтоб узнать друг друга.
Это был губер.
О старом ковре
не вспоминала с тех пор ни разу,
он как бы умер.
Но через сто лет
в Софии, в доме, где жил Вазов,
меня пригвоздило буквально
то ли слово, то ли имя губер.
Здесь на постели у Сыбы, в спальне,
в ритме строго орнаментальном —
цветник доморощенный… Но откуда
средь жалости пчелиного сброда
и грубо разношерстного люда
рослые розы в траве,
как на старом ковре?
Ручная работа, XIX век.
Это типичный болгарский губер.
В Родопах почти у всех.
Не одичал, не вымерз, не умер,
пока в Москве шел за снегом снег.
Будто в хитонах, все, как одна,
в бутонах кустарных гуляют по кругу
дикая роза – чья-то жена,
роза-сестрица и роза-подруга.
В воздухе носятся имена:
Калина, Калинка —
моя половинка,
Росица,
чьи мочки нежней лепестка,
дражайшая Драга —
взрывная, как брага,
и Елка – в белом стихе легка.
Мне тринадцать без малого лет.
Я в рифмы прятала первый букет,
как рукопись – под матрасом – тайную.
А мама молила из темноты:
упаси болезную от нищеты,
на черный день, на пропитание
научи ее, Боже, делать цветы…
Давно отболела эта пора,
другое детство озолотил
жалостный улей.
Здесь, в доме Вазова, на обеденном стуле
траурный бант, или роза скорби,
на весь белый свет: urbi et orbi.
А за окнами – будней высокая проза,
рослой Витоши снежная роза.
Каких только садов не бывает!
А о них всё пишут, всё вспоминают, как я сейчас о саде поэтов, которого нет, и безвозвратно время его, – тот благоуханный летний вечер, задетый шершавой нежностью поспевающих персиков. На виду у южных звезд, впервые сойдясь, поэты звучали, как одно закольцованное стихотворение, хотя читали каждый свое: по-болгарски и по-русски.
Такие непохожие стихи, такие разные поэты: добрый и чувствительный Атанас, интеллектуалка Ирина, гордый Сашо, выверенная – как евангельская цитата – Юлия, философичный Владимир и твердо стоящий на земле Иван, мистическая цыганистая Мария, раненая любовью Елена и я – с краю… И еще цикады. Они настраивали струны, подкручивали колки натянутых нервов и, жарко наяривая смычками, бросали во тьму чистые зерна звуков. Цикадам подыгрывала гитара, переходящая от Иры к Виктору и обратно. Некогда было перевести дух.
Тайная вечеря. Вечное ученичество. Учитель известен.
И нет среди них предателя.
Они – одаренные радостью слышать и понимать друг друга в этот вечер – созвучны.
Подали пышный белый хлеб, только что испеченный матерью Атанаса, сухое красное вино и жирную овечью брынзу.
Что-то вечное таилось в этом застолье. Может, библейский мотив самого сада, которого больше нет, как нет уже Атанаса, нашего щедрого хозяина.
Но они были там, еще не входя. И остались там, уже уйдя оттуда.
Середина 1990-х. Конец века. Время подведения часов и итогов.
Меня пригласили в одно столичное издательство.
– Надо составить солидный сборник стихов о Москве – скоро юбилей города. Возьметесь?
Заманчиво и страшновато.
Голая ветвь замысла, быстро набирая в росте, зашумела зелеными – наперекор зиме – листьями: женская поэзия! Это будет поэтическая антология женской поэзии, куда войдут поэты, поэтки и поэтессы, даже если они дальше третьего ряда, откуда-то с литературной «Камчатки».
Моя жизненная ось заметно качнулась в сторону женской поэзии. Дни наполнились стихами, как в литинститутские годы. Наступило веселое время открытий, восхищений и восторгов. Эти «литературные университеты» куда питательней литинститутских штудий.
Меня мало знали в литературных кругах. Как серая кошка в сумерках, я была неразличима. Жила вне литературной среды, изредка общаясь с бывшими однокашниками. Дружбы ни с кем не получилось, хотя со многими приятельствовала. Многим было удобно заскочить, мимо пролетая, ко мне на улицу Горького: погреться, поболтать, попить чайку-кофейку, настучать на машинке новые стихи. После первого семинарского побоища, когда на слуху были метаметафористы, когда с придыханием произносили имена Жданова, Еременко и Парщикова, меня уличили в прямом наследовании некрасовской традиции, что в Литинституте было равносильно смертному приговору, Некрасов тогда был не в чести.
С такими разве дружат?
Да и маргинальности во мне не было: ни сторожем, ни дворником никогда не работала.
– Мы с тобой – девочки из благополучной семьи, – объяснила Таня Бек, – таких не любят.
Выйдя после семинарского обсуждения на Тверской бульвар, я не сразу сообразила, в какой стороне мой дом.
– Тебе не стихи писать, тебе бы… замуж да борщи варить, – бросил вслед признанный литинститутский лирик, писавший об облаке, и яблоке, и Блоке.
И я – давно жена и мама восьмилетнего сына – почти год ничего не писала. Только через пять лет издала первую книгу стихов.
И вот теперь – составить антологию.
Вот он, случай!
С усердием рабочей пчелы я летала по Москве. Объясняла: кто я и что делаю, просила разрешения на безгонорарную публикацию, предлагала вариант подборки. Казалось очевидным, что подборки должны разниться по объему, – и ни к чему «всем сестрам по серьгам». Здесь другая справедливость. А мои авторицы вдруг стали считать строки. Начались громкие сцены и припадки. Но в противоположность этому – как согревающее глубинное противотечение – появились литературные контакты, завязались приятельские отношения, заработали сарафанное радио и цыганская почта. Нашлись симпатизанты и волонтеры, подсказывавшие забытые, исчезнувшие, изъятые цензурой или не услышанные в свое время имена поэтесс, названия их сборников, номера телефонов публикаторов и правообладателей. Так я подружилась с Ириной Волобуевой, Тамарой Жирмунской, Татьяной Бек и Ольгой Чугай. Они – мои соучастники и помощники. Музы как люди: строптивые, добрые, корыстные, жертвенные.
Одна поэтесса потребовала снять ее стихи по идеологическим соображениям, не найдя принципа партийности в антологии. Она запротестовала, – ее незапятнанное имя не может находиться под одной обложкой с именами Натальи Горбаневской, Ирины Ратушинской, Алины Витухновской.
Другая номенклатурная поэтесса, стихи которой ежегодно «в красный день календаря» печатались в «Правде», наоборот – внезапно прозрев, настояла поместить в книге разоблачительное антипартийное стихотворение – ей захотелось отстраниться и очиститься… Так и умерла, не дождавшись выхода книги, но это ее стихотворение было напечатано.
А знаменитая и не самая бедная в Москве поэтка – поставила вопрос ребром:
– Вы мне – гонорар, я вам – стихи… на улицу не в чем выйти, ношу ботинки сына, а у него сорок третий размер… сестре в Киев лекарства надо послать. Цена вопроса сто долларов! Другие пусть как хотят, а мне – сто долларов, и – баста!
Сто долларов по тем временам были внушительной суммой, но книга без ее стихов была бы с пробоиной. И я заплатила.
Предводительница «московитянок» – очень своенравная и вздорная, на первый взгляд, дама, шумно волновалась за неизвестную Аллу Рязанову, умершую несколько лет назад от туберкулеза.









































