Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
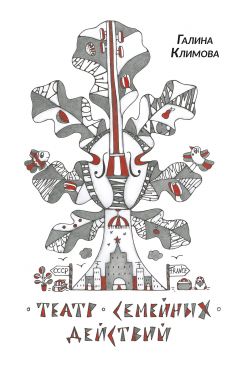
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Если нет места, снимайте мою подборку, а ее стихи дайте… Я ее матери обещала. Бог с ними, с моими стихами!
Разве можно было отказать?
Судьба посильней литературы.
Сразу же позвала к себе Инна Лиснянская. Они с Липкиным жили тогда на Аэропорте. Дверь открыла сама Инна Львовна, невероятно экзотично – неужели для меня? – одетая: неопределенного покроя хламида, длинная сигарета, зажатая, как пахитоска, между пальцев с очень яркими, длинными и хищными ногтями, но главное – такая же ярко-красная шляпка.
– «Хулиганка», – мелькнуло в голове. – Какая вы… – продолжила вслух.
– Люблю шляпки, хотите примерить? Из Парижа привезли. Вам пойдет, вы красотка, – куражилась Инна Львовна, – наверно, еще и стихи пишете?
В прихожую неслышно вошел Семен Израилевич.
– Сёма, познакомься, это составитель антологии женской поэзии.
– Антология, говорите? Это хорошо. Только почему женская? Что за разделение полов? Как в бане. А кто составит антологию мужской поэзии? Что-то я ничего не слышал о мужской поэзии…
Инна Львовна хрипло хохотнула и, твердо взяв меня за руку, подтолкнула:
– Ладно, сначала идемте ко мне, на мою половину. Потом с Сёмой поговорите.
Она прилегла на кровать, продолжала курить и для приличия оправдывалась в своей многолетней привычке.
– Вот стол Марии Сергеевны, вот зеркало, – подсказала Лиснянская.
– Неужели Петровых? Расскажите, какой она была.
– Какой-какой… сама собой была, это главное. Читайте стихи – и ее, и о ней Мандельштама, например, или Тарковского… А вот общая фотография участников «Метрополя», ведь мы с Семеном Израилевичем вышли тогда из Союза писателей в знак протеста. Нас здесь не печатали.
– Я знаю и пишу об этом в антологии.
Лиснянская, одобрительно кивнув, прицельно всматривалась в меня, а я вдруг одеревенела от ее разноглазия. Куда смотреть, не знаю: в тот глаз, который смотрит прямо, или в тот, который – в сторону? Пауза густо расползалась между нами, и я забыла, зачем пришла.
– Ну, покажите, что вы там выудили?
Подборка ей понравилась, и в тональности разговора проступила доверительная интонация. Стали пить чай, она очаровывала меня импровизациями, «зачитывала» километрами стихов на заданную тему:
– У меня такая особенность: могу писать о чем угодно, в любом размере, с любой рифмовкой… на спор!
Потом, как по клавиатуре, пробежались по поэтическим именам, разделяя их – «мои – не мои», «любимые – нелюбимые». Она позвонила Белле Ахмадулиной, рассказала об антологии и обо мне. Потом опять закурила, держа сигарету в манере Серебряного века. Я залюбовалась:
– Какие у вас красивые руки!
– Вознесенский сказал, очень сексуальные. Слава богу, Зои рядом не было, – рассматривая на просвет ладонь и пальцы, она рассмеялась мелким понятным лишь ей смехом. – В Баку со мной был такой случай: еще совсем молоденькая, почти девчонка, я залетела как-то к старому еврею-ювелиру в подвальчик на рынке, – посмотреть кольца. Всегда любила крупные камни в серебре. Вот это, – она подняла вверх безымянный палец с большим малахитом, – это от Беллы. А я ей прямо с руки сняла – теплый коктебельский сердолик. У нее почти все пальцы в огромных кольцах. Это уж перебор, чересчур, по-моему. Я поскромней.
Так вот, разглядываю кольца, примеряю на разные пальцы, и так поверну, и этак поиграю… а уж хочется, сил нет, но и денег тоже нет. А ювелир все новые и новые из шкатулки достает, товар свой нахваливает и заодно меня красавицей называет. Смеемся оба. И так ему понравились кольца на моих пальцах, так руки мои приглянулись, что он не выдержал:
– На, золотая моя, возьми от сердца, носи на счастье, – с азербайджанским акцентом произнесла она. – И Сёма очень любит мои руки. Я их берегу, а что еще у меня осталось?
Через несколько лет, еще при жизни Липкина, вышла в свет их общая книга стихов «Вместе», на обложке – две руки, в мужской – доверчиво расположенная женская, похожая на узкую с нервными длинными пальцами руку Лиснянской.
В последний раз я видела их обоих накануне отъезда в Переделкино, откуда Лиснянская вернулась уже одна.
Я забежала накоротке. У Инны Львовны кто-то был:
– Зайдите пока к Семену Израилевичу, поговорите минут десять-пятнадцать!
Вжавшись в низкое тесное кресло, поэт читал в полутемной комнате.
– Ага, московская муза! В форточку, что ли, залетела? Значит, правда, весна не за горами. Вот и мы завтра снимаемся с зимовья… в Переделкино, – подняв полные детской печали глаза, он вопросительно замолчал.
– Вам грустно, Семен Израилевич? Не хочется уезжать?
– Да нет, там хорошо… можно слушать птиц, можно гулять, можно встретить кого-нибудь, поговорить. Прогулка – теперь моя мера жизни. И это совсем не грустно, это – одиноко.
– Одиноко? Там?
– Везде одиноко.
– Вам одиноко? Да у вас всегда живая очередь, кого только нет: и поэты, и журналисты, и издатели… Столько людей! Не квартира, а дом открытых дверей.
– Да они все не ко мне. Они к Инночке, а она меня очень бережет и ограждает.
Шумно открылась дверь.
– Сумерничаете, секретничаете? Интересно узнать, о чем?
– Да вот я новую книгу принесла. Хочу, чтоб Семен Израилевич и вы посмотрели.
Липкин взял книгу, улыбнулся глазами.
– Хорошо издана.
– Ладно, Сёма, времени совсем нет, а дел полно. Ты тут пока почитай, а мы пойдем ко мне, хочу новые стихи показать.
И она вышла. Вслед за ней поднялась и я.
– Вот видите? И так всегда. Ну да ладно, идите, идите, – он безнадежно махнул рукой, – а то Инночка рассердится. В прошлый раз, когда телевизионщики снимали, она вдруг заревновала: меня на три минуты больше снимали, чем ее. Пришлось перезаписать.
Когда мы с Лиснянской уже прощались, в прихожую вышел Липкин. В руках моя книга.
– «Ни я, ни Адам не знали, что такое детство», – процитировал он, широко улыбаясь. – Очень хорошо. Если в книге есть хоть одна такая строчка, книга состоялась. Поздравляю!
Мы обнялись. В последний раз. Через три недели Липкин умер.
Мы обе жили в Москве, но виделись всего однажды.
Но до и после – почти два года телефонных разговоров, стихов, монологов или почтительных пауз, что столь похоже на эпистолярное общение, на дружескую исповедь, затянувшуюся в повторах и умолчаниях по причине невозможности встреч, недомоганий, сплина и боязни плохих дорог.
Наш телефонный сериал возник как побочное дитя поэтической антологии «Московская муза».
Знаменитая Кашежева! Когда-то самая молодая звезда эстрадной поэзии, комсорг Союза писателей СССР. Песни на ее стихи с утра до ночи крутили по радиостанции «Юность». Ее пластинки и книги выходили немыслимыми, по сегодняшним меркам, тиражами.
Но она не была поэтом моей группы крови.
Ее звонок – первый сигнал «обратной связи». Вскоре появились литературные приятельства и привязанности, не раз принимаемые мной за дружбу. Собирались в ЦДЛ. И сам собой возник литературный салон «Московская муза», продержавшийся десять лет.
Но первой протянула руку Инна Кашежева. Полтора часа мы говорили только об антологии.
– Вы сами-то понимаете, что натворили? Собрать под одной обложкой сто тридцать стерв (это ведь не «тридцать витязей прекрасных»), сто тридцать боевых орлиц, которые если что, – горло раздерут, глаза выклюют, сто тридцать прекрасных поэтесс – разноголосых, разнесчастных, трагических… Вспомнить, разыскать, примирить – уже подвижничество. А вы вроде бы и не заметили этого. Только наши женщины так себя ведут. Всё. Сажусь за рецензию. Мне есть что сказать. А как вам живется в женском Ноевом ковчеге?
Кашежева называла меня только по имени и отчеству. Это установилось с первого нашего разговора и до последнего. Много раз она демонстрировала заведенное ею джентльменство: взрывчатая смесь московской интеллигентности, необузданного кавказского благородства и покровительства.
– Да нет, никто не обрывает телефон. Отклики доносятся, но в тексты вникли только вы.
«Литературка» не заставила себя ждать и напечатала рецензию Инны Кашежевой «В окне «До востребования».
Не устаю повторять, как я благодарна Инне Кашежевой, как летела к телефону в 11 или в 12 ночи, зная, что только она может позвонить в это время: ведь она – знаменита, она – человек богемы, а я – трудящаяся жена, мать, научный редактор и шофер в одном лице, одним словом – трудилка. Она не понимала, как можно так рабски жить, ко времени просыпаться и идти на службу, приковывать себя добровольно к рабочему столу, выполнять план, вовремя возвращаться домой, готовить ужин и при этом писать стихи. Моя двойная двужильная жизнь была ей не близка, я ее раздражала тупым нежеланием что-то изменить. Она то подсмеивалась надо мной, то злилась и бросала трубку: «Всё, хватит. Вам уже спать пора, дорогая. Что там у вас назавтра: статьи по географии или пирожки с капустой?»
Нас соединило одиночество.
Быстро поняв, что я из неприкаянных, Кашежева взяла меня под крыло и в первую очередь категорически потребовала вынуть стихи «из стола». Начались ежевечерние обсуждения, как в учительской. Она была именно училкой – не мамочкой, не подругой, не мэтром. От меня требовалось немедленно исправить поведение, повысить успеваемость по главному предмету моей жизни – поэзии.
– Срочно, срочно издавать вторую книгу. Она у вас в столе залежалась, задыхается. Ей неба, воздуха не хватает, а вы статьи по географии редактируете. Что за равнодушие? Грешно так жить. Бросайте все, садитесь за книгу, и энциклопедия без вас не остановится, и дражайший муж с голоду не опухнет. Жду на следующей неделе первый вариант сборника.
– У меня даже приблизительного названия нет.
– А я вам подскажу. Вы ведь – сирота на морозе. Вся как есть. Так и вижу вас в мелком мандраже. Чего мудрить: Сирота на морозе. Точно и не банально. И ни у кого не было.
Я рассмеялась. Как она угадала? Стихи, стихи…
Получив гонорар за «Московскую музу», я купила длинное демисезонное пальто и издала книгу стихов. Кашежева, уже тяжело больная, радовалась за меня. Ее переломанные в аварии ноги не слушались: кости ломило, ныли тромбозные вены. Она ходила на костылях. Раз в неделю заставляла себя приезжать в газету «Достоинство», где – золотое перо – подрабатывала статьями на социальные темы. С деньгами и лекарствами было туго. А я с оказией получила посылку из Франции. Спросила разрешения привезти лекарства.
– Что вы, что вы, это очень дорого, я не смогу заплатить.
И только узнав, что это гуманитарная помощь и не надо платить ни копейки, разрешила:
– Опустите лекарства в почтовый ящик. Я не в силах открыть дверь. На пуфике доезжаю только до туалета и обратно. И к тому же я совсем без зубов. Не хочу, чтобы вы меня увидели такой: в роскошной квартире с белыми стенами, белыми шелковыми шторами, в роскошной двуспальной белой кровати – и с черной пропастью беззубого рта. Боюсь напугать, – она неожиданно и страшно хохотнула.
По моим представлениям, Кашежева была непомерно гордой и взрывной. Не уверена, умела ли она прощать? Даже Римму Казакову, с которой их связывала многолетняя дружба, стихи и литературные поездки по всему Советскому Союзу, вряд ли простила.
Однажды Римма призналась:
– Это Инка научила меня читать с эстрады, держать аудиторию, разговаривать с публикой. У меня раньше и голос пропадал, и стихи забывала. А Инка – всегда выходила как на бой или как на праздник в своем ауле, знала, когда пошутить, когда похулиганить. Выглядела просто, строго, по-европейски: черные брюки, белый свитер, короткая стрижка. Ее обожали, не отпускали со сцены, забрасывали цветами, задаривали. А какие у нее были паузы! И меня, как зверька, буквально выдрессировала, научила чувствовать зал и не бояться. Инка умела дружить. А как поддержала меня, когда травили! Одна она поддержала. Никакого начальства не боялась, никаких сплетен.
Я знала, что Римма хранила письма Инны Кашежевой. Она не раз обещала дать их в будущую книгу, когда я заговаривала о желании издать избранные стихи Кашежевой, статьи и воспоминания о ней. После смерти Риммы Казаковой письма пропали.
Виделись мы с Инной Кашежевой всего однажды. Праздничные майские дни. В Центральном доме работников искусств на Пушечной – презентация антологии «Московская муза». Ведущая вечера Тамара Жирмунская. Вокруг нее на сцене за колченогим журнальным столиком Римма Казакова, Татьяна Кузовлева, Татьяна Бек. Небольшой зал напоминал глубокий сухой колодец, и если с верхних рядов амфитеатра смотреть на сцену, то кружилась голова.
Римма, раскрасневшаяся и возбужденная, то и дело открывала пудреницу и проходилась пуховкой по блестевшему носу, по раскрасневшимся щекам. Одна за другой читали Лариса Румарчук, Елена Николаевская, Елена Исаева, Нина Краснова и другие. Когда настала очередь Риммы, она, тяжело поднявшись, запинающимся голосом обратилась к залу:
– В эти святые дни… в светлые дни нашей Победы… поймите и простите, мы все люди… И тут за кулисами мы позволили себе по бокалу шампанского, поэтому я буду читать…
С верхних рядов что-то зашумело, потом загрохотало, и с нарастающей громкостью своенравной волной катилось по деревянным ступенькам прямо к сцене.
Римма замолчала. Сощурившись и вытянув шею, она всматривалась сквозь свет софитов в сторону приближавшегося деревянного грохота:
– Что случилось? Кто там гремит? Господи, – казалось, она не верила своим глазам, – неужели Кашежева? Инка, это ты, что ли, гремишь костылями?
– Я, Риммочка, все еще я, дорогая моя! Решилась в свет выйти. Видишь, парадный фрак из сундука достала, галстук – на шею, костыли – под мышки и к вам, мои дорогие подруги, прямо в объятья к вам! Очень хотелось увидеть виновницу этого торжества. Кстати, где она? Что-то на сцене другие лица.
– Господи, как же ты добралась на костылях? – в микрофон удивлялась Римма. – Ну и вид, – сокрушалась она. – Сколько же мы не виделись, Инка? Сколько лет ты не появлялась?
– Инна, дорогая, иди на сцену, – перебила Жирмунская, – садись с нами. Вечер продолжается, – с улыбкой обратилась она к публике, которая уже почувствовала себя лишней на этом празднике женской поэзии.
– Ты, Инна, читать будешь?
– Ты же знаешь, Тамара, я уже больше десяти лет не читаю и не выхожу на сцену. Я сюда не за этим пришла. Я специально пришла, я специально вылезла из своей берлоги, чтобы при всех и от всех, дорогие коллеги, поклониться в пояс одной отчаянной женщине, московской музе, которая вспомнила о нас и собрала в одной книге, такой книги еще…не было… Почему ты здесь командуешь, Тамарка? – Она вдруг перешла на крик.
Жирмунская вызвала меня на сцену.
– А ты, Инна, не стой на ступеньках, тебе тяжело. Давай садись рядом с нами, мы тебе поможем! Или вот в первом ряду есть свободное место. Помогите ей!
– Нет, в первом ряду мне не место. Я здесь не зритель и не слушатель. А на сцену мне не подняться, я не хочу сидеть вместе с вами, змеюки вы подколодные, – снова закричала Кашежева, потрясая костылем. – Я от всех вас – отдельно. Вот тут с краешку примощусь, с вашего позволения.
И она – то ли подросток, то ли проворная старушонка – неожиданно ловко вспрыгнула и присела на самом краешке сцены, спустив ноги, бесполезно болтавшиеся, как у тряпичной куклы. Сначала она чмокала, что-то невнятно бубнила себе под нос, потом в полный голос стала беспощадно комментировать каждое выступление, бросая ядовитые реплики и раззадоривая публику.
– Такие стихи писать нельзя, – припечатывала Кашежева, – ты семь лет не писала, так и не пиши больше!
– Ну и ритм… надо же: два притопа, три прихлопа… слушать тошно.
– Твои стихи лучше гвоздем на заборе писать, а не бумагу портить, – вынесла приговор Кашежева, услышав матерком разукрашенные строчки.
– Инна, не хулигань! Тебе не удастся сорвать вечер, – строго осадила Жирмунская. – Прекрати! Прошу тебя, Инна, не мешай! Или тебя выведут отсюда, или читай сама… если сможешь, конечно!
Зал затих. Запахло литературным скандалом, возбуждавшим гораздо сильней, чем женская поэзия.
Выйдя на сцену, я чувствовала себя без вины виноватой. Надо мной – темным омутом – молчание зала, где-то на галерке – моя семья и друзья, сзади – президиум из маститых муз простреливал взглядами все мои жизненно важные органы, сбоку – на сцене, задрав стриженую голову и повернув ко мне лицо с пылающими черными глазами, сидела Инна Кашежева, очень немолодая в свои пятьдесят с небольшим. Сердце мое колотилось в горле, сбивая с дыхания, но память и голос не подвели. Я отчитала положенные по регламенту два стихотворения и хотела уйти, но окрик Кашежевой остановил:
– Не спешите, дорогая моя, послушайте меня. Все послушайте! – обратилась она к публике.
Ее низкий вязкий голос вдруг окреп и профессионально оформился, и она произнесла короткий, но яркий спич о русской женской поэзии, о нашем нераздельном поэтическом сестринстве.
– Я пришла поклониться вам в пояс, – закончила Инна Иналовна.
Схватив костыли, она шумно сползла со сцены, распрямилась в свой небольшой рост и поклонилась. Зал аплодировал стоя.
Эти аплодисменты предназначались ей, Инне Кашежевой, как когда-то в Политехническом, в Лужниках, в ЦДЛ и во многих залах, и на стадионах огромной страны, где она читала, где ее знали и любили.
Многим запомнился «женский» вечер.
Мы продолжали дружить по телефону. Общее одиночество не отпускало нас. Мы тянулись друг к другу. Она мало с кем общалась, осознанно выйдя из литературного круга. Так уходят со сцены или в монастырь. Ей стали неприятны поклонники ее поэзии, очевидцы головокружительного взлета, парения, успеха, в одночасье ставшие – ее прошлым. Она искала забвения, но и спасительную соломинку тоже искала, одновременно подставляя дружеское плечо. Мы часами говорили о литературе, о поэзии, читали новые и старые стихи. Она меня часто ругала, но в этом была такая поддержка и такая вера.
Однажды узнаю от Тамары Жирмунской, что Кашежева чуть ли не голодает. Дочь ее очень близкой и уже умершей подруги Наташи, студентка юрфака Маша, у которой никого, кроме Инны, не осталось (они жили вместе в одной квартире, а другую сдавали), уходя на весь день, оставляет только порцию пельменей: шесть штук!
– Надо спасать Инну! Ей очень плохо, и телефон молчит!
Ночью до нее дозвонилась Римма Казакова:
– Инна, давай я к тебе приеду, с Машей поговорю. Что ты от всех отгородилась, в затворницы играешь? Ведь у тебя и друзья, и поклонники, и Союз писателей, наконец. Может, тебя в больницу или в санаторий направить? Так дальше нельзя, ты погибнешь.
– Спасибо, подруга, за беспокойство, но я не нуждаюсь ни в какой помощи, тем более Союза писателей, – резко оборвала Кашежева. – У меня есть всё. Мне ни от кого ничего не надо. Зря вы себе страшилки рисуете, бабы! Всё хорошо, Риммочка. Все идет как надо. И куда надо. Ты о себе лучше побеспокойся, она выдержала паузу, – есть о чем, есть о чем, дорогая!
На следующий день Инна Иналовна перезвонила мне и нарочито веселым голосом, будто анекдот рассказывала, убеждала, что всё у нее как надо, всё хорошо, а всякие бабские домыслы смешны и нелепы. И, сменив тему, прочитала свои стихи об Анне Ахматовой.
Это было в начале весны 2000 года. А в середине мая позвонила Маша. Она и раньше звонила по просьбе Кашежевой и даже привозила ее книги.
– Несколько дней назад схоронили Инну Иналовну.
– Не может быть! Как же так, Маша? Когда? Почему ты мне не позвонила, почему не сказала?
– Инна Иналовна никого не хотела видеть. И не хотела, чтобы ее кто-то видел. Особенно те, – Маша запнулась, – кого она любила.
Она положила трубку. Так же внезапно Маша вдруг исчезла в необъятной Москве, а в той квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров поселились другие люди. Вместе с Машей исчез архив Инны Кашежевой.
Мы с Риммой не раз собирались поехать на могилу Инны, хотели издать книгу ее избранного и даже предлагали московским издателям, но, увы… Теперь уже нет и Риммы. Может, она, наконец, встретилась с Кашежевой в иных пространствах, и они обе, заводные, раскованные, гастролируют, как в молодые звездные годы?
Ни Кашежеву, ни Казакову я не видела мертвыми.
Они обе, так много значившие для меня, живы.
Кого только не привечала Риммина кухня!
Сколькие были здесь обогреты, накормлены, водкой-чаем-кофе напоены и утешены! Скольким подарены автографы, стихи, щедрые подарки, ходатайства на издание книг, на получение квартир или путевок и даже входные билеты – в литературу.
Я тоже попала на знаменитую кухню Риммы Казаковой.
Перед этим она коротко расспросила: кто да что, да откуда? Произнесла свое многозначительное: ммм-да… И я приехала.
Кухня гудела уже остывающим застольем. На пятачке перед балконной дверью телевизионщики ставили свет, возились с микрофонами. Без продыху звонил телефон, но Римма все перекрыла:
– Щи с водкой будешь?
Это был пароль, и я знала отзыв.
Сошлись легко. И уже через полгода, когда вышла «Московская муза», я уговорила Римму лететь в Болгарию на презентацию книги.
– Читать стихи? Да кому я нужна? – ей остро хотелось слышать, что нужна. И нужна как поэт.
– Я ведь уже не секретарь. И поэты меня не любят. Даже «эстрадники» не признают за свою, наверно, требуют, мать их, – она заставила себя рассмеяться, – хотя в Болгарии у меня много друзей. Я переводила болгар. И даже любовь была, большая настоящая любовь… Но зачем возвращаться в прошлое? – с надеждой спросила Римма.
Это была «эпоха перемен», когда Римма, бедовая девчонка по имени Рэмо (Революция, Энгельс, Молодежь) на какой-то миг растерялась от нахлынувшей стихии свободы, от трагических обстоятельств, связанных с болезнью сына, и, как бы защищаясь от всего, эпатировала: «Хочется новых книг и… замуж!»
Стоял май 1998 года.
Наш поэтический женский десант – первая литературная ласточка после распада соцлагеря – был встречен в Софии с неожиданным интересом, не имеющим ничего общего с идеологией и официозом прошлого.
В Болгарии Римма Казакова звучала как крупный российский поэт из тех, кого любил народ. Разве забудешь, как из зала – не подсадные утки, не друзья или знакомые, нет, – влюбленные в поэзию наизусть по-русски читали ее стихи? Она удивлялась, боясь поверить.
Какая-то болгарская девочка напомнила Римме ее раннее стихотворение: «Моя мама читает его вслух, если плохое настроение».
Какой урок любви и верности преподала нам тогда Болгария!
В Москву мы вернулись боевыми подругами. Болгария очень сдружила с Риммой не только меня, но также Елену Исаеву и Галину Нерпину.
Римма воспрянула духом, снова стала писать, и вскоре ее избрали первым секретарем Союза писателей Москвы. Жизнь налаживалась.
Мы не раз потом бывали в Болгарии, которая стала нашим поэтическим убежищем. Вместе отдыхали на Золотых Песках, вместе выступали с рециталами и печатались в одних и тех же изданиях.
В начале весны 2008 года, едва наш самолет коснулся земли, но кудрявые холмы в иллюминаторе еще застили небо Варны, пришла sms-ка:
«Час назад мы потеряли Римму».
Мгновенно пробило током и в голове замкнулось: ровно десять лет назад, в таком же мае, цветущем маками и лавандой, была наша первая поездка, наши стихи и песни в любимой Варне, Пловдиве, Софии, и были Риммины стихи: Аз те обичам, София, аз те обичам!
Как же все закольцевалось! Не прервалось, не кончилось, нет, закольцевалось, и радугой над нами – Болгария.
Москва еще протирала спросонья глаза, когда крепкая деревенская молодка пересекла Каланчевку. В руках она тащила корзину с отвислыми боками, деревянный чемодан и пару мешков с мукой – через плечо. Вцепившись в подол цветастой юбки и спотыкаясь, за ней поспевали дочки: с узлом – старшая, лет четырех светлоглазая и светловолосая, и темненькая малая лет двух – с медным чайником. Казалось, эти неказистые пожитки нисколько не обременяли, но свободно вмещали все их прошлое из далекой суровой Сибири, не без оснований обещая убедительное продолжение здесь, в России, где жил Роман Иванович Орешкин.
К нему и ехала Феня с детьми.
В Сибири, под Петропавловском, много раз переворачивалась власть: то красная, то белая, то снова – красная. Феня не могла забыть ужас, когда в 20-м году красные взяли село, и давай бандитничать, насильничать, отнимать зерно, муку, скотину, запускать «красного петуха» по домам и амбарам, а самих крестьян, работящих, зажиточных, отстреливать как кулаков на радость местной голытьбе и пьяни. Хорошо, что Гаврила вовремя ушел к белым.
Феня в длинном темном чулане кормила годовалую Соню, когда внезапно распахнули дверь, но кроме пустых полок, затянутых паутиной, комиссары ничего с пьяных глаз не разглядели, хотя штыком все же пригрозили. Соня, умница, не подала голос, а Феня такого страху натерпелась, что перегорело грудное молоко, и у свекрови – старуху за волосы таскали по полу – язык отнялся.
Хорошо все-таки, что Гаврилы не было, а то бы всех порешили, как Пехтеревых, или вывезли бы в степь, как Колтышевых, на съедение волкам. Всех. Даже малолеток не пожалели. А они, Калгановы, выходит, счастливо отделались: зерном да скотиной. Ну, еще сожгли амбар с шерстью. Сколько лет эта волглая шерсть гнила и воняла, а чтоб крышу перекрыть, денег жалели, руки не доходили. Бог с ней, с шерстью. Да и зерно было прелым. Все скопидомничали, мышам на радость, впрок откладывали на черный день. Вот он и наступил.
Быстроглазую, статную и скорую на руку Феничку Сидорову, кацапку из семьи переселенцев, приехавших в Сибирь из-под Могилева за собственным куском земли, отдали замуж за Гаврилу Калганова в полные пятнадцать лет, а тому было четырнадцать. Быстро заслали сватов, быстро столковались и без лишних сомнений обвенчали молодых на Покров.
Калгановы жили в достатке. Их просторный сосновый пятистенок и прибыльное хозяйство давно нуждались в молодой женской отваге и хватке: приготовить, прибрать, скотину обиходить, огород содержать, работников трезвых вовремя нанять. Феничка, ловкая, сильная, на спор с молодыми мужиками – не охнув – мешки с мукой в амбар носила. Однако неопытная по молодости – поставит в печку готовить баранину, пока туда-сюда, а баранина уже сгорела. Не беда, другого барана заколют или драчливому петуху шею свернут и ощиплют его, тепленького, лишь бы свекрови никто ни-ни… Огонь-девка, на месте без дела не усидит, домашние звали ее Ходя. И пела, и плясала, а как насмешничала! Вот и с Гаврилой позволяла, не боялась. Лягут бывало в постель, он, как телок, к ней тихонечко, ласково так подползет, хоть и страшно, и невозможно ему до жаркости. А Феня затаится, как охотник – не дышит, хитро выжидает. Только он руку ей на грудь положит, Феня – цап-царап! – цыганской иглой в эту самую руку и кольнет. Иногда до крови. Играли, баловались как дети, хохотали, порскали каждый в свою подушку, кувыркались, толкались, спихивали друг дружку на пол, нежились на пуховых перинах, слюбились. Через три года Феничка – зря наговаривали, что бесплодная, – родила Софию, которая и лицом, и фигурой вышла в свекровь: скуластая, приземистая, кургузая, с тяжелой длинной спиной: «У-у-у, вылитая мордва». При чем здесь мордва?
Но когда София Гавриловна, тетя Соня, в свои неполные семьдесят начала не по-хорошему колобродить, заговариваться и вилкой тыкать в суп, когда альцгеймер разыгрался всеми красками слабоумия, в памяти всплыли рассказы про поволжскую (якобы мордовку, похоже, что мокша) бабушку Гаврилы Калганова, неповоротливую, неподъемную, как куль с мукой: уж такая чудненькая да странненькая…
Соня до того обеспамятовала, что сына не узнавала, забывала внуков накормить, и часто была похожа на сумасшедшую, но могла поговорить о погоде или о своем артериальном давлении, цифры которого с профессиональной педантичностью через каждые четыре часа днем и ночью записывала столбиком в дневник.
В целом Сонина жизнь выдалась благополучной.
Ее единственного сына Олега до 10-летнего возраста растила в Ногинской баньке все та же баба Феня, а Соня тем временем налаживала новую семейную и профессиональную жизнь. Она дважды была замужем: первый муж – хирург Иван Ильич Балашов (вдвое старше Сони) спился на дармовом казенном спирте и умер почти под забором, второй муж – Николай Николаевич Мартемьянов, директор ипподрома во Львове, эксперт международного класса по скаковым лошадям, тоже не дурак выпить, но алкашом все-таки не стал.
Их отдельная квартира в бельэтаже, не советских габаритов и планировки, в самом центре Львова – с запирающимся на ключ парадным, разноцветными изразцовыми печами в каждой комнате, антикварными шкафами, с трельяжем и бронзовыми статуэтками именитых скакунов работы Лансере, с телефоном и ванной на ножках, с балконом, выходящим во внутренний полутемный двор-колодец, пропахший кошками, – всё казалось верхом роскоши. Это подтверждали железные решетки на огромных окнах в стиле модерн. К Соне обращались «пани доктор», к Николаю Николаевичу – «пан директор».
Феня с внучкой, по бедности, наезжали летом подкормиться во Львов, где Тасины волосы Соня намывала яичными желтками. По выходным – ипподром. Нарядные, надушенные, сидели они в директорской ложе, а потом шофер привозил их обратно в «Москвиче», забитом букетами длинных гладиолусов, георгинов, разноцветных люпинов и астр, пахнувших успехом и благополучием. Все вместе выходили в прекрасный Стрыйский парк, в концерт, где серебряное сопрано Виктории Ивановой сливалось с летним звездным небом.
Две неразлучные дворничихи – мужиковатая басовитая Марыся и пухленькая Ганя – водили Таську, москальку и паненку, гулять в парк Костюшко и глядели, чтобы бандеровцы – Матка Воска Ченстоховска! – не украли.
Соня накупала всякие девчачьи брошки, пластиковые сумочки, разноцветные гольфы с помпонами, каких в Ногинске сроду не видели. Она катала Тасю на детской железной дороге, и школьного возраста проводники и кондукторы при встрече отдавали им пионерский салют. Ей хотелось устроить племянницу в цирковую школу, когда та влюбилась в цирк. Соне очень не хватало девочки, дочки, живой хорошенькой и послушной куколки. С сыном ей было неуютно. И Олегу с ней было по-сиротски холодно. Они не научились даже слышать друг друга, а уж говорить… Он дважды убегал из дома, его искали с милицией и через несколько дней привозили обратно, виноватого, озлобленного, похожего на волчонка.
Ох, как тяжела была Соня на руку, как жестока сердцем!
А Николай Николаевич пропадал или на ипподроме, или в командировках по аукционам и конезаводам – не до пасынка. Все были далеки и особенно не вникали друг в друга, не образовали семейного треугольника.
После института Олег (для домашних – Алесик) – ветеринарный врач, которого любили городские собаки и кошки, морские свинки, хомячки и, конечно, лошади. Прекрасный жокей, он много лет занимался конным спортом, пока однажды на соревнованиях не упал с лошади: разрыв легкого, а сердце сместилось в правую сторону грудной клетки. Выздоравливал долго.









































