Текст книги "Театр семейных действий (сборник)"
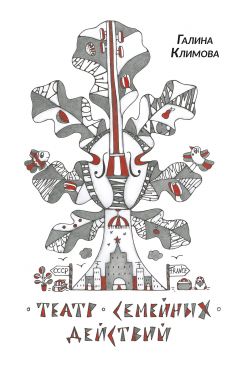
Автор книги: Галина Климова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Политика здесь ни при чем. Я сейчас вызову вашу дочь, и она все объяснит.
Входит невысокая, как ты, хрупкая молодая женщина с черными глазами и убранными в пучок черными волосами. У меня даже нигде не ёкнуло.
– Знакомьтесь, товарищи: вот Даниель Федорович Златкин, тот самый человек, не сомневайтесь, уважаемая, тот самый, которого вы столько лет искали. А это, – он выдержал паузу, – это ваша дочь, уважаемый товарищ Златкин!
– Как моя дочь?
Я совершенно опешил, решил, что недоразумение, и тревога за тебя отпустила. Но тут эта женщина обращается ко мне:
– Да, папа, я твоя дочь – Виктория. Я тебя хотела увидеть, познакомиться. Ты не волнуйся, мне ничего от тебя не надо, но обидно за маму. Марину Хрунову помнишь? Это – моя мама. Она не разрешала искать тебя, а мне хотелось. Мы долго жили в бараке, бедно жили, знаешь, у меня, стыдно сказать, даже горшка ночного не было, а вместо него – немецкая каска с войны… я ее боялась, может, поэтому писалась по ночам. Знаешь, очень обидно за маму, особенно когда сосед наш, инвалид психический Жариков, обзывал ее фронтовая подстилка, а меня безотцовщина и еще так, что произнести стыдно. Однажды я нашла в комоде, в старой наволочке твои фронтовые письма и фотокарточку. Ужасно обрадовалась, даже расплакалась. Оказывается, у меня, как у всех, есть отец, хотя в метрике в графе «отец» прочерк, но отчество было – Даниелевна, с первого раза не выговоришь. Я сразу показала твои письма и фото соседу, чтобы заткнулся, но он, когда впадал в запой, все равно обзывал. Мне было восемь, когда я узнала, что ты есть, узнала и запомнила твою фамилию и стала ждать – вот вырасту, и мы встретимся. В восемнадцать лет вышла замуж, в двадцать родила Павлика. Муж, ударник в ресторанном оркестре, выпивоха и, как оказалось, дебошир. Недавно набросился на маму и тоже орал: такая-сякая б…, фронтовая подстилка, неизвестно от кого родила. Я не могла больше жить в этом кошмаре, решила искать тебя, чтобы увидеться и предъявить всем – вот мой настоящий отец, вот от кого я родилась.
– Она обратилась за помощью к людям из комитета, – продолжал отец, – и меня нашли. И еще она спросила:
– Маму помнишь? Почему ты ее не искал?
И знаешь, я растерялся. Сам не знаю, почему не искал.
Потом мы с Викой пошли в кафе. Марина, ее мать, была переводчицей, хорошо знала немецкий, даже диалекты. Маринка нежная, миловидная, коса до попы. Замечательно пела, меццо-сопрано, а я – на аккордеоне. Не осуждай меня, доча, пойми, война – это тоже жизнь, но жизнь в некой энной степени: и концентрация посильней, погуще, и градус выше. Не всякий выживет. Там каждый день и даже шаг, каждая папироска, встреча, взгляд, письмо, слово, – всё как в последний раз. И каждый поцелуй… В общем, влюбился по уши. И Маринка тоже. Мы были такие молодые и счастливые! Ты не подумай, что она была, ну, мягко говоря, доступной, таких тоже на фронте хватало, хотя я их не осуждаю… все мы были очень молоды. Нет, Марина была девушкой с понятием. Мы любили друг друга. Невозможно было скрыть свою близость, всё и все на виду. Кто-то радуется, кто-то завидует, а наш полковник, сволочь редкая, решил нас наказать и направил ее, девчонку, на передовую, представляешь? Сволочь полковник! Расставались со слезами, обещали писать, а после войны встретиться в Москве, на Красной площади и пожениться. Я писал, она отвечала. А потом всё оборвалось. Ни следа. А она, оказывается, дочку родила, мою дочку, и назвала, видишь, со смыслом: Виктория – победа. Мои письма до нее, наверное, не дошли, и – гордая советская девушка – она не стала меня разыскивать, решила, раз не нужна мне, то и дочку для одной себя родит и вырастит.
Они уже почти дошли до Котельников. Холодный сырой ветер с реки задирался и зло трепал волосы, морозил щеки и губы. Захотелось вернуться.
– Вика сейчас у нас дома. Очень хочет с тобой познакомиться. Разница между вами всего два года. Правда, она уже обожглась и успела хлебнуть: собирается разводиться, маленький сын на руках. Вот жизнь! В один день я еще раз стал отцом – у меня две взрослых дочери, мало того, я еще и дед. Ты уж будь с ней поласковей, пожалуйста! Она – сестра твоя, общая кровь, привыкай.
– А мама знает?
– Такое не скроешь.
– Расстроилась?
– Лучше не спрашивай.
Вика ждала на кухне, разглядывала семейный альбом. Глазами и лицом она была похожа на отца, но еще больше на его сестру Аню, на свою тетку, и это было так очевидно, что экспертизы не надо. Оказалось, она окончила дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, мы с отцом отпали: точно – наша. И вдруг отец спросил:
– А ты в детстве по ночам кричала?
Она вскинула влажные глаза:
– Кричала, да еще как!
– А причина?
– Снился страшный сон, один и тот же. Он повторялся несколько лет, и я его очень боялась.
– Расскажи! – отец вытянул худую шею, прикрыл мелко моргавшие веки и почти не дышал.
– Какая-то безлюдная каменистая местность, похожая на пустыню, не знаю где, огромная каменистая пустыня – ни деревца, ни травинки, библейский пейзаж, и всё полыхает – горят камни, воздух дрожит от огня, дышать нечем, а я…
– Стоп, – прервал отец, – стоп-кадр… ты, – они глядели глаза в глаза, – ты от страха, от этого чудовищного огня хочешь убежать и спрятаться, а поблизости какая-то будка, как деревенская уборная, ты влетаешь туда, захлопываешь дверь и смотришь через щелку на огонь, он все сильней, все ближе, и будка, кажется, вот-вот вспыхнет, и ты погибнешь…
– Да, я ужасно боялась сгореть в этой будке. Орала, как безумная, и просыпалась от крика. А ты-то откуда знаешь?
– Дорогая моя девочка, ты – моя дочь, никаких сомнений, – дрожащим голосом торжественно объявил отец, – и я, ребенком, точно так же орал по ночам и видел тот же сон. Доченька моя, – он обнял Вику и целовал, целовал ее волосы.
– Однажды я рассказала этот сон на исповеди, и батюшка ответил: это спасительный сон, ты спасешься.
– Значит, и я спасусь? – осторожно спросил отец.
– Значит, и ты.
Наутро поехали в «Детский мир» покупать машинки, колготки и байковые рубашки для Павлика. Через день Вика уехала к себе в Иваново. Ее дальнейшие отношения сложились только с отцом. Он, как мог, помогал: прописка и жилье в Подмосковье, работа концертмейстера в детском ансамбле. И только через десять лет после смерти папы сын Вики, Павлик, выросший до полковника Павла Александровича Ильина, разыскал Тасю через Интернет. Павлик писал о своей матушке Виктории Даниелевне, которая очень больна, инвалид второй группы по астме (фамильный генетический код), живет в городе Видное, где она – регент церковного хора.
Как тут не вспомнить о канторе из Харбина?
Никогда не снилось и не мерещилось Тасе, что она снова выйдет замуж, тем более за лирика с лицом поэта XIX века, которого знала издали по строчкам из «Нового мира»:
Легко ли быть непризнанным поэтом,
неузнанным, обидчивым, как дым,
охаянным и походя задетым
упоминанием пустым?
Когда-то на картах Ленорман ей нагадали двух мужей, болезнь почек и смерть за границей… А ведь Юра и Сережа успели однажды встретиться и однажды – не встретиться. Тоже, наверное, намек из будущего, но его – при нашей близорукости и суете – никто не разглядел. Сергей – издатель третьей книги Тасиных стихов. Познакомил их Игорь Тер-Аракелян, сын Ирины Волобуевой.
– Пойдем к Сергею, он – доброкачественный человек с совестью и со вкусом, фуфло не напечатает и не «обдерет».
И правда, условия оказались вполне божескими, книга нужна была к сроку и вышла вовремя. Когда издатель позвонил домой, Юра объяснил, что жена в Болгарии, тираж вывозить некому, сам он – после операции, и никакие тяжести…
– Да нет проблем, – не дал договорить Сергей. – Вы вечером будете дома? Я, с вашего позволения, часов в шесть приеду с тиражом. Дверь открыть сможете? Диктуйте адрес.
Когда Тася вернулась из Болгарии, пачки книг, сложенные аккуратными столбиками, уже обжили балкон их квартиры.
– Ты что, сам все привез и перетаскал?
– Да что ты? Это все издатель, очень интеллигентный и любезный. Я ему кофе предлагал – он отказался, я ему деньги – не взял, хотя на такси приехал.
Тасю очень тронул этот жест. Времена стояли такие, что человеческое участие и порядочность удивляли гораздо больше, чем повсеместные агрессия, пофигизм и рвачество.
На презентацию новой книги пришли друзья, литераторы и поэты: Таня Бек, Володя Салимон и ведущий вечера Александр Ревич. И, конечно же, издатель, хотя и не к началу.
Первый авторский вечер – большая радость. Так совпало, что тогда же к Лесновым должен был приехать ночевать знакомый француз. Побыв немного на вечере, Юра поспешил домой.
Когда в полночь, заваленная цветами, счастливая и хмельная, Тася ввалилась в прихожую, ее встретил сильно раздосадованный и разобиженный муж:
– Зачем ушел, идиот? Затмение какое-то нашло. Тебя бросил. И француз, паразит, не приехал. Почему я не вернулся? Какой вечер пропустил! А Бек-то как про тебя сказала? И с издателем не увиделся, коньяку с ним так и не выпили. Все сорвалось, сам себя наказал. Прости дурака!
Почти через три года после смерти Юры на посольском приеме Тася встретила своего издателя. Элегантный, обращенный внутрь себя, он демонстрировал завидный аппетит, торопливо заглатывая обжигающий гуляш. Так мог есть только оголодавший в своем одиночестве человек. Дождавшись, пока он дочерпает соус, Тася окликнула: «Сережа, помнишь меня? Я – Леснова».
Он приветливо закивал.
Будто вчера расстались, они завели ни к чему не обязывающий окололитературный разговор, фланируя между столиками на открытой террасе, что-то подрифмовывая друг другу и решились на общий проект – эпистолярный роман в стихах: он пишет от имени учительницы из Торжка, она – за старшеклассника из Москвы, бывшего ее ученика, и между ними – любовь, письма.
Литературный проект состоялся лишь отчасти и односторонне. Учительница из Торжка выпустила несколько книг стихов.
А они оба – немолодые подранки, силясь удержать равновесие посреди прошивающей насквозь зимы, захотели попасть в новый набор, прорваться в лётную летнюю школу: она – с неисправимым своим поспешением, он – внешне сдержанный, с подпрыгивающей походкой теряющего равновесие пингвина. И ей вспомнился сирота, прихрамывающий Филип Кэри, герой романа Моэма «Бремя страстей человеческих». О, как в свои четырнадцать лет она была влюблена в Филипа Кэри!
И через полгода – вне всякой связи с литературой – Сережа сделал Тасе предложение. Она растерялась и отказала. Боялась, не сможет садаптироваться к новому человеку с его привычками, вкусами, манерами, с его образом мыслей и образом жизни, и – главное – с его прошлым, которое часто бывает тяжело для самого себя, а уж для других… Понимала она, что и ее залежь, и ее скарб могут оказаться ему не по силам.
Примерно через полгода, на Троицу, Сергей повторил предложение.
На исповеди Тася рассказала о нем и батюшка напрямую спросил:
– А замуж-то он тебя зовет?
– Зовет, только я боюсь.
– Беги, Таська! Завтра же беги в ЗАГС! Не мучайся, живи настоящей жизнью, живи своей жизнью и – чтобы без оглядки. Прошлое оставь прошлому! Потом придешь причащаться. А сам-то он крещеный или атеист? Без креста ему тебя не удержать.
Свадьбу гуляли не в ресторане и даже не в Доме литераторов, но, по воле случая, в старинном особняке Рябушинского на Ленинградском проспекте, в Болгарском культурном центре. Каких только чудес не случается в Москве! Очень расчувствовалась Римма Казакова:
– Очень, очень рада за вас, ребята! Может, и я еще замуж выйду? Так хочется любви!
Посажеными родителями на свадьбе были Александр Михайлович Ревич и его верная Мура.
Со вступлением в Союз писателей я не спешила, хотя и Римма Казакова тормошила, и настаивала Ирина Волобуева. Когда-то сногсшибательная красавица, очень крупная, породистая, с мягкими карими глазами и взлетающими ресницами, Волобуева, почти слепая и беспомощная, давно уже не выходила из дому, и только в солнечный день ей смутно брезжили очертания предметов, она угадывала цвета и все еще «гуляла головой в окне» на балконе восьмого этажа на 2-й Песчаной. Часто по-соседски я забегала к ней на чай с пахлавой и на новые стихи.
Теплый приветливый дом с традициями бакинского армянского гостеприимства, с экзотической коллекцией многочисленных и самых немыслимых жирафов со всего мира – деревянных, глиняных, стеклянных, пластмассовых, мягких, поющих, двигающихся, – разной величины, утилитарного смысла и эстетической ценности.
– Когда-то, наверное, я была жирафом, точнее – жирафой, – объясняла Ирина Георгиевна, – помнишь, у Хлебникова: «завысокая жирафа стоит и смотрит». У нас одинаковые глаза и ресницы, да и рост у меня – жирафий. Какая-то трогательная есть в нас нелепость, общая несуразица, правда?
Стихи она читала наизусть. Ей было почти девяносто. Поэтесса одной темы, Ирина Волобуева всю жизнь писала о любви. В советские годы, когда развод перечеркивал жизни и ломал карьеры миллионов, отмеченных «строгачами» по партийной линии и ярлыком «морально неустойчив», в то самое время красавица и коммунистка Ирина Волобуева написала полное нежности стихотворение «Вторая жена» и, как говорится, проснулась знаменитой.
Ослепнув в старости, она складывала стихи по ночам, удерживая их в памяти до утра, чтобы ее сын Игорь смог записать. Ужасно, но она пережила Игоря и жаловалась:
– Что-то смерть меня не берет, не жалует. Странный он человек, этот ваш Бог, я уж так его прошу, так прошу Но стихи не отпускают. Это они не отдают меня, мучают и не дают умереть. Не зря рифмуют стихи – грехи. А смерть, я чую, где-то совсем рядом: то вьется вихрем, то юлой жужжит, то осой… вдохнуть страшно… или наподобие сосульки – прозрачной ледяной палочкой ввинчивается в грудь. И больно, и хорошо до слез. Я ей подсказываю: давай, давай, поглубже, до самого сердца, чтоб душа вылетела. Но тут внезапно всплывает строчка, и смерть исчезает! Снова – утро и снова – я живая. И жизнь прошла, и смерть не удается, – как сказал поэт.
Волобуева часто произносила: Ревич.
– Не знаю, понравятся ли Ревичу твои стихи? – волновалась она. – Через Ревича не переступить. Старик с норовом, вздорный, как стукнет палкой, прямо Иван Грозный с картины Репина.
Однажды Волобуева сказала:
– Говорила с Ревичем, читала ему твои стихи. Ноги в руки, – завтра он ждет тебя.
Литературные «генералы» моей жизни.
Мягкий Роберт Рождественский, написавший рекомендацию в Литинститут, которая сыграла как раз против, а не за…
Евгений Винокуров, советский поэт и мэтр, руководитель знаменитого литинститутского семинара, мнительный, погруженный в свое самочувствие, равнодушно скрипевший башмаками во время кровопролитных обсуждений, но деликатно и доброжелательно всех, в конце концов, примирявший, сводя счет в дружескую ничью. Винокуров не боялся в подцензурные годы разбирать на семинаре стихи Ходасевича, Гумилева, Георгия Иванова. Прививая нам вкус к эмигрантской литературе, он не уставал причитать: «Биографии у вас нет, а без биографии какой поэт? Нет поэта без биографии. Нет в ваших стихах ни крови, ни мяса. Мышц нет…»
Инна Кашежева – любимица Политехнического, сирота на морозе…
Римма Казакова, бесстрашная Рэмо!..
Я ехала к Ревичу, как на экзамен по математике на аттестат зрелости, годная лишь на то, чтобы окончательно завалить. Он сразу же предложил кофе, а у меня от кофе жуткая тахикардия, однако отказаться даже не промелькнуло. И стало еще страшней.
Мне знаком этот тип людей, мальчишеский и вольтеровский одновременно. Когда впервые увидела Валерия Петрова, болгарского поэта и переводчика Шекспира, вспомнился Александр Ревич, который «смыслы образов и звуков множил, так семь десятков лет на свете прожил и только на восьмом заговорил». Ревич – из неприкаянных, из одиночек. После войны не сразу нашел себя и не сразу решился на Москву, ведь позади были немецкий плен, побег, особый отдел СМЕРШ, штрафбат, заменивший «высшую меру», Сталинград с тремя ранениями, и никуда не деться от пятого пункта и беспартийности. Меченый! Он был меченым. Его долго не печатали, не признавали как поэта и не допускали к переводам. Десятилетиями поденного труда стирал Ревич грань между понятиями поэт и переводчик.
– Только великих и стоит переводить, – повторял Ревич, глядя голубыми когда-то глазами в упор, с прицелом.
«Стрелок, точно, командир стрелкового батальона», – вспомнилось мне.
– Нельзя размениваться на середняков, нечего себя опускать. Себя надо только поднимать, только тянуть и тянуться до великих, до гениев, – припечатал он.
И сам он – глыба, боговдохновенная глыба. Меня поражал его каждодневный интерес к жизни людей, не обязательно литераторов и не обязательно ровесников. Этот интерес не затмевали ни собственные стихи, ни чужие, ни оскароносные фильмы, ни музыка, ни боксерские заполночные бои, которые Ревич смотрел по телевизору, будучи тяжело больным. Казалось бы, азарт и жадность к жизни – все должно бы скукожиться от немощей и нездоровья, от пережитых потерь и угасающей инерции будней, когда многим его сверстникам уже и позвонить некому, а говорить интересно лишь о болезнях, лекарствах и метеозависимости. Интерес к другим у Ревича деятельный, участливый: всегда кому-то помогал, поддерживал, устраивал чьи-то дела, часто далекие от литературы. Однажды позвонил из реанимации Склифа:
– Киска, девочка, это я, – с тяжелой одышкой прошелестел он, – я здесь стихи написал, приснились, – в трубку ворвался кашель, – мне один замечательный врач, совсем мальчик, армянин, дал свой мобильник – вот и звоню, но Мурке ни слова.
– Тебе же нельзя говорить! Хочешь стихи прочитать?
– Да нет, это потом, – раздраженно прервал он, – я хотел узнать вот что: тебе болгары пишут? Давно о них не слышно, – выдохнул он, заходясь в новом приступе кашля.
Ревич – моя поэтическая родня, моя семья.
Мы очень разные, но одной группы крови, и сразу учуяли друг друга.
– Ты моя, – часто повторял Ревич.
– Ты – наша дочка, – подтверждала Мура.
Что-то необъяснимое, далеко не литературное, не художественное, что чувствуешь печенкой, породнило нас. Вот и пошел по Москве гулять миф, что я – побочная дочь Ревича. Мое «удочерение» началось много раньше, а потом и Александр Михайлович и Мария Исааковна настояли, чтобы я обращалась к ним обоим по именам и на «ты»: Алик и Мура.
– У меня так же было с Антокольским, – завелся Ревич, – требовал, чтобы я перешел с ним на «ты» и называл Павликом, а у меня язык не поворачивался. Мы по этому случаю, конечно, выпили на брудершафт, облобызались, сидим, разговоры разговариваем, я забылся и говорю: Павел Григорьевич… И больше уже ничего не успел сказать, – схлопотал оплеуху, да какую! И он мне:
– Никакой я тебе не Павел Григорьевич, я для тебя – Павлик.
Я уже слышала, что в литературе нет ни отцов, ни детей, ни учителей ни учеников. Но здесь вдруг догадалась: Алику и Муре не хватает дочки, – об этой их потере горькое обоюдное молчание, стихи Ревича и слезы Муры о маленькой ясноглазой Леночке, которая с акварельных портретов, развешанных на стенах их малогабаритной двушки, все не наглядится на них, ни на день не оставляя.
Ревич – это воплощенный миф. Он бесконечно любил мифы, придумывал свои, хранил и пестовал чужие, пересказывал без устали даже те истории, которых, по определению, никак не могло быть. Однако в его воображении они жили, и Ревич доказывал всем, что – жили. Доказывал со страстью, с огнем. Неустанно творил свою мифологическую реальность, вплетая ее нити в ткань будничной жизни и, конечно, в стихи, в биографию. Однажды он вдруг обмолвился, что – не Ревич, это только осколок его настоящей фамилии. В другой раз прозрачно намекнул, что годами ходил в «литературных неграх», и под его переводами известный поэт ставил свое имя.
Александр Михайлович – из непростой семьи. Его отец, Михаил Павлович Ревич, ученик Римского-Корсакова, однокашник Стравинского и Гнесина, мечтал стать виолончелистом и композитором. Регент церковного хора, он великолепно пел, пожалуй, не хуже своего брата Матвея, оперного певца, хотя и уступал кузену Вениамину Сангурскому, знаменитому басу, выступавшему вместе с Шаляпиным… Мечта Михаила Павловича не сбылась, жизнь не состоялась и по личным причинам (родители возражали против его занятий музыкой), и по историческим: революция, он – на стороне «белых», потом Гражданская война, он – в Добровольческой армии… Но маленький Алик хорошо запомнил, как отец что-то сочинял за их кабинетным роялем на Никольской, в Ростове-на-Дону. Потом, кроме Алика, у Михаила Павловича были другие дети и другие семьи. Алика растили мама Вера и две тети – Люся и Розуля.
В Гражданскую войну, спасаясь от буденновцев, отец, белый офицер, бежал с Кубани от станицы к станице, как живая мишень в открытой степи… Двадцать лет спустя, в годы Великой Отечественной войны по той же самой степи, теми же тропами – от станицы к станице – пробирался его сын, советский лейтенант Александр Ревич, вырвавшийся из немецкого плена. Невероятная судьба. Это помогло ему простить отца и понять «с какою болью, побежденный, на победителей смотрел, и в нем душа перегорела, когда с повинной головой пришел из дальних мест домой…» В тот раз они оба – отец и сын – чудом избежали расстрела. Много позже Михаила Павловича все же настигла немецкая пуля – фашисты расстреляли его под Кисловодском. Боль за отца и любовь к нему не утихали, прорастая и в стихах, и в поэмах.
А сколько нежных строк посвятил Ревич своей жене Муре, своей Музе, с которой они прожили – бурно, трудно и счастливо – без малого семьдесят лет.
Они знали друг друга с детства. Мура – дочь профессора Майзеля, знаменитого московского педиатра – каждое лето проводила с родителями в Железноводске, куда ее отца приглашали лечить детей из номенклатурных семей. В 1920-е годы было принято отдыхать и лечиться «на водах». Большой популярностью пользовались курорты Кавказских Минеральных вод с многочисленными и разнообразными источниками. Усилиями доктора Майзеля в Железноводске открыли один из первых детских санаториев. Туда же из Ростова приезжала работать врач Вера Рафаиловна Сабсович, мама Алика Ревича. Семьи сдружились, но дети особого интереса друг к другу не проявляли. Алик увлекался футболом, а Мура, раздевшись до трусов, только длинные косы стегали по загорелой спине, гоняла с местными мальчишками вдоль подножия Железной горы в поисках ящериц или птичьих гнезд.
Однажды отец попросил, чтобы Муру одели понарядней, – их с дочкой пригласили в санаторий. Они поднялись довольно высоко в гору, дошли до каменного забора, заросшего диким виноградом, отыскали калитку, у которой уже поджидал человек в форме. Вошли во двор, и Муре показалось, что это – царство, где живут волшебные сказки: столько цветов, певчих птиц, бабочек и, главное, фонтан в переливах звуков, в разноцветье струй и брызг. Воспитательница в белом халате вела навстречу детей: двух мальчиков и девочку.
– Поиграйте вместе, а потом чай с печеньем.
Мальчишки дичились, а девочка Ляля так обрадовалась встрече со своей ровесницей «из города», куда их не выпускали, что первая подбежала к Муре, и они защебетали. В фанерном ящике, стоящем в траве, спали крохотные щенки. Дети наперебой уже вчетвером их гладили, таскали и тискали, отнимая друг у друга, и даже искупали в фонтане. Неподалеку, прислонившись к тенистому дереву, за ними наблюдала светлоглазая девочка с большущей куклой, почти одного с ней роста. Девочка не подходила к ним и не звала к себе, просто стояла и смотрела.
– Это – Светлана Сталина. К ней нельзя.
Детей позвали на чай с печеньем. Печенье было «небесное» по виду и по вкусу. В центре стола стояла ваза с ирисками в разноцветных обертках, очень ярких. Мурка запустила в вазу руку и вытащила полную горсть ирисок:
– Можно взять? Я маме хочу отнести, угостить!
Дома отец рассказывал жене Анне Саввишне, выпускнице Сорбонны, одному из первых в России адвокатов по ювенальному праву, как замечательно играли дети – двое сыновей Постышева и племянница Ленина, как позже пришел веселый Серго Орджоникидзе, и ребята гроздью висели на нем, играли в «коняшку», он их таскал на закорках и посвистывал, а потом взял за руки девочек и пошутил: «Вот так бы и жил – с куклой и с кошкой, с Лялькой и с Муркой».
Мура и Алик встретились в последний год войны, когда он приехал на побывку в Москву, где на Плющихе жила его мама. Алик безоглядно влюбился в бывшую мальчишницу Муру, превратившуюся в зеленоглазую красавицу, и Мура не устояла перед его ослепительной, почти голливудской улыбкой. Они оба были влюблены в поэзию. Через год Ревич поступил в Литинститут и на истфак университета. Они поженились, родили сына Борю, и жизнь побежала… Долгие годы Ревич с трубкой сидел за столом, а чаще лежал на зеленом диване и переводил, и считал строчки… Он никогда нигде не служил, не знал, что такое – ходить на работу к определенному часу. А Мура, учительница английского языка, строго по часам работала в школе, бегала по частным урокам, кормила семью, давая возможность мужу – писать…
Ревич не был человеком стаи или тусовки (тогда и слова-то такого не знали), для многих, предпочитающих беглое мелкоформатное общение, он был неудобно крупной личностью: самостоятельный, бескомпромиссно резкий в мнениях и жестах. При этом он один из немногих современных поэтов – своеобразный магнитный полюс – крепко держал свой круг – пестрый, разновозрастный, разбросанный по миру, куда входили поэты, стихотворцы, переводчики, прозаики, литературоведы, художники, студенты, священники, врачи и чистой воды графоманы. Круг не был чем-то незыблемым, неожиданно куда-то пропадали одни, прибивались другие, возникали новенькие. Он умел дружить и часто вспоминал своих старших друзей – Акимыча и Арсения – Аркадия Штейнберга и Арсения Тарковского, цитировал их, читал наизусть и посвящал им свои стихи и поэмы. С большим пиететом относился к Учителям: к Пушкину, Лермонтову, Блоку, Пастернаку, Маяковскому, Ходасевичу. Благодарно помнил и писал об Илье Сельвинском, Павле Антокольском, Георгии Шенгели, Анисиме Кронгаузе, Петре Семынине, Николае Глазкове и о других, близких по духу. Ревич любил открывать людей, влюблялся в чужие стихи легко и безоглядно, а это – особый дар, довольно редкий для поэта. Он разглядывал автора пристрастно, придирчиво, почти через лупу, очень ценил нравственные качества личности – как фундамент таланта. Когда по телефону ему читали стихи, были возможны три оценочных категории.
Первая. Если полная безнадега, он – невзирая на лица, возраст, степень близости и известности – кричал так, что телефонная трубка почти рассыпалась:
– Салон! Это не стихи. Это – салон!!!
Вторая. Когда что-то не получилось, не вырулило на должную высоту, но в стихе есть живой нерв, Ревич очень вкрадчиво елейным голоском блаженного: «Трогательно, очень трогательно, девочка!»
И третья. Когда получилось:
– Кажется, хорошие стихи, а? Кажется, настоящие, а? Нерукотворные, а?
Александр Михайлович очень похож на моего отца: весь габитус, динамика жестов и гримас, тембр голоса, артистическая манера «вкусно» произносить слова и сам лексикон, ведь оба – южане, знатоки суржика: Ревич – из Ростова, папа – из Николаева. Ревич так же легонечко насвистывал (сколько же птиц в его поэзии!), когда, облачившись в фартук, мыл посуду или готовил фирменный омлет с сыром, по виду напоминающий торт, – знак особого расположения к гостю. Он напевал те же отрывки из опер, какие пел папа. Как жаль, не успела их познакомить.
Русские поэтессы, не похожие на европейских суфражисток и феминисток, редкое зрелище в Варне. В то лето жара стоять не могла, она тяжело падала уже с утра, раздавая направо-налево тепловые удары. Аппетита быть не могло. Но, подчиняясь расписанию, мы вяло завтракали под ореховыми деревьями. Кислое молоко, мед, травяной чай.
– Тебя к телефону!
Кто бы это? Только вчера прилетели…
С нами в пансионате тоже литературная компания и тоже гендерная, только сплошь мужская: софийские издатели, варненские поэты и писатели вокруг знаменитого Генчо Стоева. Часам к десяти, когда стемнело, стихийно сдвинули столы, и началось братанье водки с ракией, до трех ночи песни под гитару и стихи, стихи по кругу, и разговоры под ледяное шампанское, под мастику – о литературе, о политике. Кто же звонит в этакую рань?
– Скажите, что завтракаем. Пусть перезвонят.
– Подойди, очень просит.
– А кто просит?
– Ангел.
Все онемели от игры слов и смыслов: ангел – младший небесный чин, хранитель и покровитель наших душ и тел, хотя сам существо бесплотное. А здесь болгарский Ангел – депрессивного вида мужчина в очках, немного философ, больше прозаик, сохранивший мальчишеские интонации и манеры. Он сидел вчера напротив меня, и мы говорили о трагедии соответствий и несоответствий. А когда я дочитала стихотворение о синей розе, он удивился:
– Вот, оказывается, какая ты…
Я до сих пор не знаю, какая я? Но он, видимо, знал. И я ему поверила, потому что имя ему – Ангел.
– Хороший будет день, если с утра ангелы звонят, – отшутилась я и взяла трубку.
Разговор был коротким: вечером в галерее «Кавалет» у поэтессы Елки Няголовой проводы Генчо Стоева, и меня пригласили.
Не в силах выползти из-под сени развесистых орешин, мы по третьему разу заказывали травяной (по-болгарски, билков) чай.
– Тебя к телефону!
– Дубль второй!
– А кто просит?
– Апостол!
Все так грохнули, так расхохотались, что привели в замешательство и официантов, и всю обслугу Чего смеются? Даже слезы вытирают. Может, они так плачут, эти русские?
Я моментально вспомнила Апостола, похожего на итальянца в амплуа первого любовника. Он дивно пел русские и советские песни, ему подпевали жена и дочь, красавицы обе.
– Ничего себе жизнь, между ангелом и апостолом…
И пошли стихи о Болгарии – родине Ангелов и Апостолов.
Мóля[1]1
Мо́ля (болг.) – прошу вас…
[Закрыть], мой Ангеле, мóля,
между нами Черное море
волн табуном, все ходуном,
и морской конек – скакуном.
А дальше украдкой на красном быке,
Европой до нитки, но в азиатском платье
все ворковала б на воровском языке
про любовь и разлуку, —
водой не разлить их объятье.
Быка за рога, – и дальше по трассе
на аквабайке смертельной красы,
на ревущей скорости, переходящей в страсти
в самой гуще сардин и хамсы.
По горлу Варненского залива,
по рукавам великих мне рек,
как сухопутный прийду человек,
тише воды боязливой.
Ты здесь, мой берег?
А я – твой брег.
Как-то разбирая после ремонта архив, Сергей наткнулся на коробку из-под конфет, дырявую, со сломанными бортиками. В ней, перевязанные тесьмой, хранились письма бабушки Фени, тут же лежали тетрадки со стихами, пустые конверты, открытки, а снизу высовывалась машинопись, тронутая желтизной, но с явными признаками жизни:









































