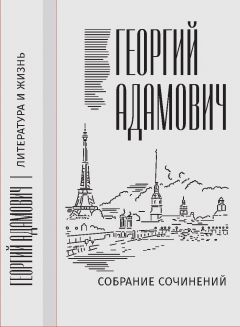
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Новый журнал». Кн. 47 и 48
Следовало бы начать с того, что в последних двух книжках «Нового журнала» очень много интересного, если бы такое указание не было трюизмом: «Новый журнал» интересен всегда, и в каждом его номере есть не только материал для увлекательного чтения, но и «пища уму». Есть всегда над чем задуматься. По привычке или по инерции многие повторяют: но «Современные записки»… Бесспорно, «Современные записки» были богаче, полнее, живее, разнообразнее. Раскроешь теперь любой их выпуск, взглянешь на оглавление, и как старуха-графиня в «Пиковой Даме» вздыхает «кто пел! кто танцевал!», хочется воскликнуть: какие имена! какие люди! Но «иных уж нет, а те далече», и общее наше оскудение с каждым годом все очевиднее. Ничего с этим не поделаешь, никто в этом не виноват.
Предпоследняя книжка «Нового журнала» открывается «Трудными дорогами» Г. Андреева, переведенными, наконец, из отдела воспоминаний и документов в отдел художественной прозы. Это повышение в ранге «Трудными дорогами» вполне заслужено, если даже по существу они и представляют собой воспоминания.
Я не читал той книги Г. Андреева – «Горькие воды» – о которой в сорок восьмом номере журнала пишет В. Александрова, но судя по «Дорогам», отзыв ее об авторе как о человеке с «не очень громким писательским голосом» чрезмерно осторожен. Конечно, никто не знает, каков от природы у Андреева «голос», да и не все «громкие» голоса ценны и долговечны, но эпитеты вроде «слабоватый», в рецензии В. Александровой встречающиеся, могут внушить представление, что речь идет о писаниях, требующих снисходительности. Между тем «Трудные дороги» – повесть по-настоящему талантливая, отлично передающая то неповторимое, прихотливое смешение чувств, которое возникло у человека совсем еще молодого, бежавшего из каторжного лагеря, знающего, что на удачу в побеге нет надежды, и все-таки наслаждающегося этой короткой свободой, этой возможностью бродить, говорить, спать, даже голодать без надзора и окриков сверху, обреченного и счастливого в то же время. Некоторые страницы ужасны в своем беспощадном и спокойном реализме, и именно благодаря спокойствию они убедительнее многих иных рассказов отражают то «удавье дело», – как говорит Андреев, – которое никакими проблематическими будущими земными раями оправдано быть не может: достаточно прочесть хотя бы рассказ о встрече с группой полумертвецов, раскулаченными крестьянами, сосланными в тайгу, чтобы с новой силой – пусть и в сотый раз – это почувствовать.
В сущности, то, что в последние сорок лет произошло в России, – даже если признать, что совершено оно было именно во имя будущих равенств и благополучий, – возвращает нас к недоумениям Ивана Карамазова насчет цены, в которую должна обойтись «финальная гармония», и не случайно тема эта в ранней советской литературе постоянно сквозила и маячила, – у Юрия Олеши, например, или у Леонова, – пока не оказалась заглушена гулом производственного и строительного энтузиазма по правительственным рецептам. Правда, Карамазов говорил только о детях, никому никакого зла еще не сделавших и страдающих невинно. Но вопрос так широк и глубок, настолько «проклят», что ограничить его детьми невозможно. В русской литературе он задолго до Достоевского был с совершенной ясностью поставлен Белинским, и как свойственно было нашему подлинно «неистовому» Виссариону, тут же в двух словах, с лихорадочной поспешностью разрешен (письмо к Боткину).
У Андреева, помимо страшных бытовых картин, очень хороша природа. Не следует, однако, разглядывать его слог в лупу, останавливаясь на каждой строчке. Отдельные фразы могут показаться написанными наспех, начерно. Но в целом могучий, девственный сибирский лес, могучие сибирские реки, солнце, зима, снег, – все это отражено с естественной верностью тона и заразительным восхищением. Автор «Трудных дорог» – писатель сравнительно новый для эмиграции, из «Ди-Пи». Будем надеяться… стереотипное предложение это незачем кончать: каждый договорит его сам.
Г. Евангулов, наоборот, – писатель, давно эмиграции знакомый, опытный, успевший приучить читателей к своей повествовательной манере. «Игра» напомнила мне давний рассказ его – если не ошибаюсь, называвшийся «Четыре дня» и помещенный лет двадцать тому назад в «Современных записках». По фабуле рассказы различны: там было о мучительно-затянувшейся голодовке, здесь – о картах, но в обоих героем – или, вернее, жертвой – оказывается человек беззащитный перед судьбой или своими страстями (что в индивидуальном существовании большей частью сливается в одно неделимое целое, хотя люди и не отдают себе в этом отчета).
В новом евангуловском отрывке виден опыт не только писательский, но и игорный: психологически все в нем так же правдиво, как внешне, и в изображении парижских карточных притонов. Кстати, что в нашей литературе написано о картах и азарте самого верного, самого незабываемого? Когда-то был об этом в писательской среде долгий спор. По-моему, на первом месте, вне сравнений, – Николай Ростов, проигрывающий Долохову сорок тысяч, а у Достоевского не «Игрок», нет, а отчаянные его письма к жене из всяких Гамбургов и Баден-Баденов, с мольбами о прощении и клятвами никогда больше не играть, клятвами, которым юная, но успевшая узнать мужа Анна Григорьевна, конечно, не верила.
В сорок восьмой книжке «Нового журнала» – «Бред Шелля» покойного М. Алданова, отрывок из романа уже известного. Под действием какого-то наркотического средства Шелля, агента американской разведки, то мучают кошмары, то смущают соблазнительные видения прошлого, и это дает повод Алданову высказать несколько остропроницательных соображений о советских порядках в последние сталинские годы или перенестись в Версаль, где стареющий король Людовик XV безмятежно развратничает, успокаивая себя тем, что «потоп» настанет «после». Не раз уже мне приходилось говорить об одной из отличительных черт алдановского дарования – о его вежливости к читателю, о его постоянной озабоченности тем, чтобы не дать читателю скучать.
«Бред Шелля» – красноречивый образец этого. Отрывок непрерывно держит внимание и мысль настороже, и в переходах от содержательности идейной к содержательности живописной исключительно характерен для автора. Особенно замечательно начало, в котором Шелль, беседуя в бреду с русским изобретателем-ученым, уговаривает его бежать с ним в Америку и объясняет, почему в советских условиях невозможна творческая работа. Неожиданно доводы Шелля «перекликаются» – как теперь принято выражаться – с мотивами дудинцевского отныне знаменитого романа, о «Хлебе едином», романа, которого Алданов знать не мог. Добавлю, что на «Хлеб единый» помещена в журнале большая рецензия Романа Гуля, одна из самых верных, которые приходилось до сих пор читать (кроме замечания, что «написан роман по старинке»: что это значит? не пора ли пересмотреть вопрос о ценности новизны «как таковой»? Не пора ли одуматься поклонникам «новизны для новизны», «во что бы то ни стало», ради щекотания нервов? М. Слоним недавно поместил в «Новом русском слове» статью о новаторстве, пылкую и на первый взгляд как будто убедительную, но только потому, что сущность вопроса в ней полностью обойдена).
От Алданова к Ремизову – будто с одной планеты на другую, или, по крайней мере, из одного века в другой. Нет, кажется, в нашей литературе двух писателей столь различных в отношении к своему «святому ремеслу», в приемах, во взглядах, в настроениях, в характере, – решительно во всем. Можно, разумеется, довести эклектичность вкуса до того, чтобы одинаково ценить обоих, можно и к обоим остаться равнодушным, безразличным. На деле, однако, как всякий более или менее близкий к литературным кругам человек знает, взаимное отталкивание распространяется и на читателей: поклонники одного недолюбливают другого. (Об этом писал в дневнике своем еще Александр Блок, и притом именно по поводу Ремизова: но в качестве «антиремизовца» он назвал драматурга Гнедича, о котором всерьез говорить вообще трудновато.)
Отрывок из романа «Плачужная канава» написан давно, более сорока лет тому назад. По сравнению с позднейшими произведениями Ремизова он сдержан, менее витиеват и причудлив по языку, да, пожалуй, и по общему своему складу. Было бы крайне желательно прочесть весь роман полностью. Даже и в той сравнительно небольшой его части, которая помещена в журнале, чувствуется, что основной, глубокой своей теме Ремизов был верен всегда, при любых вариациях в ее разработке: тема эта – некое «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», вопль к небу, страстная тоска о человеке, которому на земле вовсе не «скучно и грустно», а прежде всего страшно.
Стихов много, и есть среди них стихи очень хорошие. Нельзя не обратить внимания на А. Величковского. Его поэзии, может быть, и чужды элементы прелести или очарования, но зато в ней есть тяжесть, скромность, упорство, настойчивость, глухая печаль, а главное – свой, особый напев. Даже в моменты явного литературного простодушия, – как в коротеньком стихотворении о свече перед иконой, – он остается в этом смысле самим собой. Олег Ильинский – стихотворец, несомненно, даровитый, но дарованию его, по-видимому, еще далеко до зрелости. Мне могут возразить, что стихов будто бы «зрелых», – независимо от возраста пишущего, – то есть таких, где все эмоции будто бы пережжены и переплавлены, где в неизменный пятистопный ямб уложены размышления о суете сует, где все пристойно, приятно, благоприлично и все чуть-чуть ни к чему, – что таких стихов у нас хоть отбавляй… Совершенно верно! Но и размашисто-декламационные выкрики о венгерском восстании тоже ни к чему, еще больше ни к чему! Есть какое-то разительное, мучительное несоответствие между событиями, вроде будапештской драмы, и торопливыми, квази-поэтическими иллюстрациями к ним. Читая стихи о Венгрии, я вспомнил знаменитое изречение Андре Жида насчет того, что «хорошие чувства идут на изготовление плохой литературы». Справедливость требует, однако, добавить, что в иных случаях литература Ильинского бывает и хорошей, например, в цикле о «Памяти».
О Иване Елагине и Ольге Анстей – отложим разговор для другого раза, чтобы не отделываться несколькими словами по поводу случайно попавшихся стихов. Наша критика у обоих этих поэтов в долгу, даже если и были о них отдельные заметки.
Оставляю под конец два стихотворения Георгия Иванова, как всегда мастерские, со все больше усиливающимся у него стремлением к смешению поэтичности с прозаизмами, будто сахара с солью. Метод был бы для другого стихотворца опасен, но Георгия Иванова спасает то, что надо признать его чудесной особенностью: как сердце, по Пушкину, «любит оттого, что не любить оно не может», так и стихи его всегда поют, – очевидно, потому что «не петь не могут».
Статья моя разрослась, а сколько бы еще надо в двух книжках журнала отметить, даже если ограничиться словесностью, которую в прежние времена называли «изящной»! Воспоминания Е.Д. Кусковой о «Давно минувшем» вызвали, кажется, у всех читателей оценку единодушную и обезоружили даже тех, кто в спорах политических склонен винить автора в грехах чуть ли не смертных. Для русской провинциальной жизни конца прошлого века, для характеристики тогдашней интеллигенции, сбитой с толку, притихшей после 1 марта, но все еще беспокойной и свободолюбивой, для блужданий ее между толстовством, народничеством и едва-едва начавшим распространяться марксизмом – это документ первостепенной важности, порой даже в самом стиле своем. «Замужество – серьезный этап в жизни девушки… Простая запись в мэрии не отмечает с достаточной силой этого психологического перелома души при переходе в новую стадию существования». Е.Д., может быть, сама не почувствовала, когда писала эти строки, сколько в них «аромата эпохи» и как много они в самом выборе слов дают уловить и понять. Очевидно, «давно минувшее» в процессе писания действительно ожило в ее сознании, слилось с настоящим.
Возразить я позволю себе только насчет Некрасова. В воспоминаниях приведены его величавые и трагические строки «Волга, Волга, весной многоводной…», а дальше сказано: «Удивительно! тогда все это волновало, трогало!» Уверяю Екатерину Дмитриевну, что и теперь, почти три четверти века спустя, это трогает и волнует многих: по-моему, должно бы волновать всех тех, кто к поэзии не утратил слуха.
Юрий Анненков очень живо, ярко, порой и с благоговением, пробивающимся сквозь привычную для него иронию, рассказал о своих встречах с Блоком. Н. Валентинов – о встречах с Андреем Белым, примешав, впрочем, к воспоминаниям крайне спорные и довольно желчные соображения о творчестве поэта и о символизме.
Выделить особо надо бы «Мысли о музыке» Н. Метнера. Не решаюсь судить о них с чисто музыкальной точки зрения, но как мысли об искусстве вообще, они остры, смелы и верны. Сошлюсь хотя бы на строки, – пусть и не совсем справедливые по отношению лично к Прокофьеву, – о мнимых новаторах, которые по Метнеру только тем и новы, что «показывают язык своим бывшим учителям» и наперебой стараются изумить мир «жалким школьничеством»[33]33
У Хиндемита, в одной из ранних его опер, притом в самый комический ее момент, дважды звучит мелодия из «Тристана». Допускаю, что Хиндемит очень талантливый музыкант, но что в какой-то мере он и «жалкий школьник», не сомневаюсь тоже. До чего все это глупо, на какие низменные отклики рассчитано!
[Закрыть]). К сожалению «жалкое школьничество» все успешнее, все беспрепятственнее в наши десятилетия сходит за высокие и многозначительные искания, и тем-то оно и страшно.
Алданов – человек и писатель
Смерть Алданова вызвала большое количество откликов, воспоминаний, попыток охарактеризовать его творчество и определить его значение. Несомненно, это был один из двух-трех самых любимых писателей эмиграции, пожалуй, именно тот, которого в эмиграции больше других считали «своим»: в самом деле, хотя начал Алданов писать еще в России, все книги, давшие ему известность, написаны уже здесь, после революции. Едва ли можно сомневаться и в том, что когда теперешним неурядицам настанет конец, когда будет повсюду признано, что Россия одна, и что те, кто были противниками установившегося в России строя, не только остались на чужой земле русскими людьми, но и по мере сил сделали свой вклад в единую русскую культуру, – когда вся эта трагическая бессмыслица, с какими-то рубежами и занавесами будет ликвидирована, – у Алданова найдутся бесчисленные новые читатели, которые пожалеют, что не знали его прежде.
Останется ли к тому времени в живых кто-нибудь из друзей Марка Александровича, кто мог бы рассказать о нем, как о человеке? Догадаются ли новые читатели, почувствуют ли по книгам, что это был за человек? Некоторые возразят, вероятно, что личность автора не имеет значения, что важны лишь произведения его. Да, теоретически это, пожалуй, и так, но на практике это лишь наполовину верно, и во всяком случае в первое время после смерти писателя, до всяких «литературных портретов», хочется запечатлеть, сберечь, удержать в памяти его чисто человеческий облик. В особенности, когда речь идет о таком человеке, как Алданов.
Была у него черта, всем, кто с ним встречался, хорошо известная и, кстати, отмеченная чуть ли не во всех статьях, посвященных его памяти, – черта, глубже связанная со всем его отношением к жизни, чем это многим казалось: крайняя и совершенно естественная приветливость, крайняя благожелательность и какая-то осторожность в обращении с человеком, будто с драгоценным, хрупким сосудом. Случается, ведь, что встречаясь даже с одним из людей, принадлежащих к разряду «приятелей», не знаешь, что он на этот раз тебе скажет: то сострит как-нибудь неуловимо-язвительно, то передаст злую сплетню, притом с плохо скрытым удовольствием от передачи, с «аппетитом», как выражался Тургенев. Нет уверенности, нет гарантии, что встреча действительно будет отрадной, не покоробит, не оставит дурного осадка. С М.А. гарантия была абсолютной, и это с его стороны не было лицемерием или хотя бы любезностью по расчету: толкование, которое не раз приходилось слышать, все в том же порядке злых и, в сущности, ни на чем не основанных догадок. Шла ли эта благожелательность прямо от сердца, была ли скорей продиктована рассудком, решить трудно. Но позы, притворства не было.
Алданов знал, что такое жизнь, знал и чувствовал, сколько в жизни тяжелого и жестокого, и не хотел, даже органически не способен был, эти ее свойства увеличивать. Его не развлекала обычная житейская суета сует, особенно литературная игра самолюбий, он знал ей цену и отстранял ее. Он производил впечатление человека очень усталого. Но усталость в его улыбке, в его глазах, в отдельных его замечаниях была не столько от недомоганий или каких-либо забот, сколько от созерцания той жалкой и глупой «человеческой комедии», к которой нередко на три четверти сводится наше существование, в особенности существование общественное. Не думаю, чтобы он обольщался насчет людей или идеализировал их. Нет, он был очень умен, редкостно умен и все человеческие слабости видел, как мало кто другой. Но почти никогда он о них не говорил, а если и говорил, то вскользь, нехотя, со снисходительностью, которой не было предела. Кажется, это Аминадо пустил о нем остроумную шутку, которую он со смехом вспоминал, втайне соглашаясь с ее содержанием:
– Какая разница между Господом Богом и Марком Александровичем Алдановым? Бог правду видит, да не скоро скажет. Алданов правду видит и не скажет никогда.
Из-за этого его считали великим дипломатом. Но если он дипломатом и оказывался, то по побуждениям, которые далеки были от эгоистического расчета со всеми ладить и при этом вести какую-то свою «линию». Убедительный пример: он едва ли во что-нибудь верил, т. е. едва ли верил в возможность какого-либо загробного продолжения жизни, в потусторонние встречи, награды и воздаяния. В этом смысле он был материалистом и та грусть, которая была в нем и которая запечатлена во всех его книгах, была, мне кажется, прежде всего грустью, возникшей от уверенности, что все обрывается здесь, с разрушением мозговых клеточек, что за роковой чертой ничего человека не ждет, что никакой души, способной существовать вне материи, нет.
Конечно, как человек подлинно образованный, он понимал, что знать в этой области нам ничего не дано, что вера так же свободна от логических доказательств или опровержений, как свободен и атеизм. Но чувствуя, насколько нужна иным людям их вера, даже порой самое их сомнение, – как последний проблеск света, как соломинка утопающего, – он своего скептицизма никогда никому не навязывал, не возражал, не спорил, а только качал головой и разводил руками, как бы говоря: «ну, что же, если вам так жить легче, так и живите!» Не раз я бывал этому свидетелем, – потому что там, где соберутся русские люди, редко ведь обходится без разговора о «последних тайнах», о метафизических «проклятых вопросах», – не раз я бывал этому свидетелем, и всегда мне это представлялось поведением истинно достойным и истинно человечным.
Там, где соберутся русские люди, в особенности русские литераторы, сам собой возникает разговор и на другую, какую-то неисчерпаемую литературную тему, – и, улыбаясь, Марк Александрович часто говорил мне: «Ну, давайте выясним же, наконец, кто больше – Толстой или Достоевский». Действительно, беседа, с чего бы она ни началась, неизменно соскальзывала к Толстому и Достоевскому. Приходится иногда слышать, что пора бы сопоставление этих двух имен оставить, что оно надоело, чуть ли не набило оскомину: все будто бы одно и то же. Толстой да Достоевский. Достоевский да Толстой! Никак не могу с этим согласиться. Этой темы хватит нам для размышлений еще надолго. Это – тот круг, который очерчен нам самым характером русской культуры, не говоря уже о том, что это – область, где всемирное значение русской культуры обнаруживается особенно ясно.
Должен, однако, добавить, что если М.А. и говорил «давайте выясним же, наконец, кто больше», то говорил шутя, только напоминая, что в беседе еще не было сказано ни слова ни об «Анне Карениной», ни о «Карамазовых», и зная, что это неизбежно произойдет. Для него вопроса, кто больше, кто выше, кто значительнее, не существовало. Он подлинно молился на Толстого и в последние годы даже почти никогда не называл его по фамилии, а говорил Лев Николаевич, с безграничным благоговейно-любовным уважением. Помню, он как-то сказал, что если встретил бы Достоевского или Гоголя, то, вероятно, спросил бы их о некоторых, не совсем для него ясных, чертах их творчества, потом, пожалуй, стал бы спорить, даже возражать, горячиться. «Если бы я встретил Толстого, то молчал бы и только поклонился бы ему до земли».
Он считал «Войну и мир» и «Анну Каренину» величайшими книгами, когда-либо человеком написанными (несколько меньше ценя «Воскресение», что мне всегда казалось не вполне справедливым), и заметил как-то, разумеется в шутку, что если бы Толстой записал счет от прачки, то и это получилось бы у него гениально. Он утверждал, что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате», – и замечательно, что при всей своей осторожности и сдержанности, он однажды повторил это в присутствии Бунина, причем Бунина это ничуть не задело, не покоробило, как, я уверен, не покоробит ни одного из наших новых писателей утверждение, что, сколько бы ни было сейчас дарований, «золотой век» русской литературы все-таки уже позади. Но помимо художественного гения Алданова изумляло у Толстого то, в чем все-таки далеко не все отдают себе полностью отчет: величье личности, сокрушительная сила искренности, цельность, неукротимость духа, постоянная обращенность к «единому на потребу», то, чего нет ни у Достоевского, ни у Гоголя, ни у Пушкина, решительно ни у кого.
Однако, при всем своем преклонении перед Толстым, Алданов ни в малейшей мере не был толстовцем, и в этом отношении показательна одна черта в его писаниях – отношение к Наполеону (судя по газетным отчетам, об этом говорил на одном нью-йоркском собрании И.Л. Тартак). Кто-то еще в прошлом веке остроумно заметил, что если Наполеону изменили его маршалы, то нашлась у него другая, более блестящая свита: чуть ли не из всех поэтов столетия, Байрона, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова и других. Алданов не то что хотел бы записаться в свиту, нет, но Наполеон его глубоко интересовал, тревожил его воображение, постоянно присутствовал в его памяти, – настолько, что нет, кажется, ни одной статьи его, не говоря уж о целой книге, где имя Наполеона несколько раз не упоминалось бы.
Объяснение этого, по-видимому, в том, что, всецело принадлежа к типу людей «кабинетных», Алданов гораздо больше размышлял, думал, искал и писал, чем жил в смысле волевого риска, в смысле каких-либо удач или катастроф, возвышений и срывов, движения, фактов, превращающихся в события, всего прочего в этом роде, и что образец жизни исключительно яркой, прожитой как азартная игра, «самой головокружительной в мировой истории карьеры», как сказано, насколько помню, в «Ульмской ночи», с монументальным концом на Св. Елене, этой «великолепной могилой», по Пушкину, внушал ему безотчетно-завистливое удивление.
Обыкновенный, рядовой человек совмещает в себе, пусть и в зачаточных формах, деятеля и созерцателя, героя и мыслителя. Деятеля, героя в Алданове не было совершенно, вся сила его натуры ушла в другую крайность, и к человеку, который как падающая звезда или метеор внезапно озарил весь исторический небосклон и оставил в наследство потомкам единственную в новые времена историческую легенду, он, вопреки всем сарказмам Толстого, не мог быть равнодушен.
* * *
В создании образов Алданов, как мне уже приходилось писать, был скорей скульптором, чем живописцем – черта, роднящая его из прежних наших больших писателей с Гончаровым. Подобно Обломову, незабываемому Обломову, некоторые из алдановских персонажей едва ли не самое округленное, самое законченное, что в новейшей русской литературе создано: например, адвокат Кременецкий в трилогии, этот русский вариант флоберовского аптекаря мсье Омэ, или хотя бы Александр II в «Истоках», лучшем, на мой взгляд, из его романов. Именно как скульптура образ виден со всех сторон и рельефность его исключительна. Оттого-то исторические портреты или портреты выдающихся современников – область, в которой Алданов был исключительным мастером. У него, правда, нет того, чем прельщают художники иного склада: волнения, рождающегося неизвестно как, почему и откуда, скорей всего из самого сочетания слов, из напева, явственно звучащего во фразе, из одной, как будто случайно подмеченной подробности, одного оттенка, порой одного эпитета. Зато есть редкая способность построить широкое повествование со сменой действия и даже сменой поколений, есть умение вести рассказ в соответствии с замыслом, а не как импровизацию, есть то, что Пушкин отметил в знаменитых словах о «едином плане Дантова Ада». Каждому свое, и не надо одному писателю ставить в упрек то, что в иной области другой писатель сильнее.
Одна тема, одно положение проходит в разных видах через все романы Алданова, и по-видимому, это самое личное, о чем он, – по природе не склонный о себе говорить, – когда-либо писал. Самая его фраза начинает тут звучать каким-то глухим музыкальным дребезжанием, вообще-то ему мало свойственным. Тема эта – о человеке, уже не молодом, знающем, что играть с судьбой в прятки поздно, спрашивающем себя в задумчивости и растерянности, зачем он, собственно говоря, жил, что в жизни заслуживало внимания, труда и жертвы, как надо было жить, чтобы при подведении итогов жизнь не казалась «пустой и глупой шуткой». Конечно, первым в нашей литературе, и с беспримерной силой, спросил себя об этом толстовский Иван Ильич, но едва ли правильно было бы говорить о подражании только потому, что тема не совсем нова. Несомненно, «Смерть Ивана Ильича» имела очень большое влияние на многих новых писателей. Лев Шестов утверждал, например, что из нее вышел весь Чехов. Мог, значит, выйти и Алданов. Но это – вопрос теоретический, которым займутся, вероятно, будущие «литературоведы».
Если я сейчас остановился на образе человека, подводящего итоги, то потому, что образ этот позволяет многое понять и почувствовать в Алданове, в его сложной, скрытной, не то чтобы противоречивой, но ушедшей в себя, притаившейся в раздумии, спрятанной под бесчисленными замками натуре.
Дюмлер в «Истоках», Вермандуа в трилогии и другие недоумевают: зачем они жили? стоило ли цепляться за такую жизнь, какой они жили? А автор за ними одержим почти навязчивой мыслью: что следовало бы сказать людям, если бы пришлось писать завещание, что надо было бы передать им самого важного, самого нужного? Не хочу ничего упрощать и не буду сводить идеи и побуждения долгой творческой жизни к наспех придуманным формулам. Но даже и не делая этого, даже помня, сколько у самого Алданова было бы колебаний и поправок при попытке составить это свое «завещание», можно все-таки сказать, что внушен его message был бы стремлением облагородить и упорядочить наше существование, отстоять в их незыблемом содержании понятия добра, свободы, справедливости, в наш век часто считающиеся выветрившимися и подлежащими коренному пересмотру, а то и просто сдаче в архив.
В нашумевшем романе Дудинцева есть восклицание – «Это все девятнадцатый век!» – достаточно красноречивое в своей пренебрежительности. В этом смысле Алданов хотел бы отстоять девятнадцатый век, и именно в этом смысле, в готовности стоять – не идти, а стоять, – против течения, против слепых, неизвестно куда рвущихся и к чему ведущих стремлений эпохи, в нем было очень много мужества. Гораздо больше, чем принято было думать.
Он с грустью и удивлением смотрел на новейший мир, – потому что удивляло и печалило его отсутствие подлинно-бережного отношения к личности, притом не только в странах «тоталитарных», где этого никто и не ждет, но и там, где о личности как о величайшей ценности, толкуют по любому поводу. Повторяю, он едва ли верил в существование божественного промысла. Насколько могу судить, он склонен был бы признать наиболее правдоподобным то, что в минуту отчаяния сказал Тютчев: «нет в творении Творца и смысла нет в мольбе». Но все его умственные и нравственные стремления были основаны на том, что если вместо всеблагого и всемогущего Провидения есть только черная, вечная пустота, то это ничего не изменяет и даже побуждает жить так, как будто по высшим непреложным законам нам велено было… не любить, нет, где уж тут любить!.. а хотя бы уважать друг друга, помогать друг другу, не подставлять друг другу подножек, не уподоблять нашего мира каким-то джунглям, притом даже не величественным, а мелким джунглям, смешным и скучным. Апостол сказал: «вера без дел мертва».
Алданова вера не трогала и не волновала, он был метафизически спокойным человеком, отчего, может быть, и остался чужд людям, которые к этим сторонам духа особенно чувствительны. Но в том, что дела без веры не мертвы, что отсутствие веры не должно отразиться на характере дел, в этом он не сомневался. Это было его основным убеждением. Даже больше: уверенность, что никакой награды за дела нас нигде не ждет, была источником его морали. К чему награды? Человек должен быть человеком не ради них, а ради самого себя. «Если Бога нет, все позволено», – утверждал Смердяков. Все написанное Алдановым есть опровержение этой ужасной мысли, восстание против нее: не может все быть позволено, ибо человек – живая, несомненная, наделенная способностью страдать реальность, – есть во всяком случае.
Мне часто он казался взрослым среди детей, или, пожалуй, вернее – трезвым среди людей не то чтобы пьяных, но все-таки какого-то хмеля хлебнувших. Особенно в литературе, и в частности при сравнении с писателями более молодыми, которых – как я знаю по многим свидетельствам – это от него отдаляло, а то и отталкивало. Молодежи, людям «молодежного» склада, бывало над его книгами скучновато из-за отсутствия иллюзий в этих книгах, отсутствия малейшей уступки игре, фантазии, сказочности, мнимым полетам мнимого вдохновения, всего, что будто бы неразрывно связано с поэзией. В нашей литературе не было человека, который решительно отверг бы всякую маску и притворство, не было человека честнее, правдивее его, и в литературной судьбе его, внутренне не столь удачливой, как может это показаться по внешнему признанию и успеху, многое этим объясняется.
Было бы крайне интересно остановиться на причинах разлада Алданова с поэзией, и вообще на недоверии такого рода людей, как он, – прирожденно-трезвых, взрослых и грустных, – ко всему, что в расплывчатое понятие «поэзия» обычно включается. К сожалению, в двух словах об этом мало что скажешь. Есть поэзия легкая, которая всюду ищет и всюду беспрепятственно находит для себя пищу, все в поэзию будто бы чудотворно претворяет, «вспыхивает» от любого соприкосновения. И есть другая поэзия, – скупая, требовательная, верящая только тому, что уцелеет после всех испытаний, пройдет через все препятствия, и что, будучи полито серной кислотой словесного и эмоционального скептицизма, все-таки поэзией останется: редкими крупицами золота вместо ворохов мишуры.









































