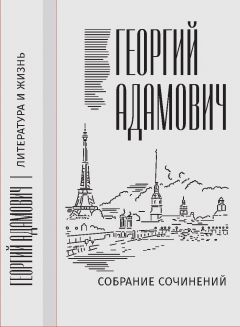
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Плетнев в своей статье дает сводку того, что известно о взаимоотношениях Достоевского, а заодно и Владимира Соловьева[34]34
* Совсем недавно, в потоке воспоминаний о «великом Октябре», промелькнула в советской печати любопытная мелочь: когда после революции было решено поставить в главных русских городах памятники выдающимся писателям, Наркомпрос составил перечень их и представил на утверждение Ленина. Из списка этого Ленин выбросил имя Владимира Соловьева, – надо полагать, не без крепкого словца! Удивительно, по-моему, вовсе не то, что Ленин Соловьева вычеркнул, удивительно, что Луначарский мог думать, что он сооружение памятника Соловьеву одобрит. Тут, как ни ищи, точек соприкосновения с коммунистическим идеалом не найти.
[Закрыть], с Федоровым. Невозможно выбрать, что именно было бы уместнее процитировать, на что указать: в статье все заслуживает самого пристального внимания.
А другое? Интереснейшие статьи Л. Сабанеева о Стравинском, Ю. Иваска о Баратынском, воспоминания покойного Бориса Романова о Павловой и Нижинском, такие же порывистые, как был их автор, воспоминания Е.Д. Кусковой, многое еще: всего не перечтешь и обо всем, к сожалению, не расскажешь.
Тютчев по-французски
«Переводчик в прозе – раб, в стихах – соперник». Изречение Жуковского еще в первой половине прошлого столетия стало программным и дало обоснование нашей литературной традиции – переводить стихи стихами. Но, вероятно, каждый, кому приходилось думать о стихотворных переводах, а тем более работать над ними, испытывал сомнение: не безнадежно ли «соперничество» и не приводит ли оно в лучшем случае к тому, что возникает новое русское стихотворение, может быть и превосходное, однако лишь напоминающее образец? По существу поэзия непереводима, т. к. передавая логическое содержание строки, переводчик лишь в редчайших, исключительных случаях может передать и ее звучание, – а ведь если в стихах важен был бы только логический смысл, не стоило бы их и писать.
Тургенев когда-то читал Флоберу пушкинское восьмистишие «Я вас любил, любовь еще, быть может…», тут же переводя его и стараясь убедить, как оно хорошо – на что Флобер только разводил руками: «mais il est plat, votre poète!» – и по-своему был прав. В этих строках, по-пушкински сдержанных и чистых, смысл углублен и возвеличен ритмом, интонацией, особенно в конце, где непереводимое «как дай вам Бог» в самом замедлении своем явственно вскрывает истинную тему стихотворения, т. е. колебания поэта, сомнение его, действительно ли прошлое стало полностью прошлым, нет ли еще в «любил» и какой-то доли «люблю».
Тургенев, разумеется, переводил прозой. Если бы он попытался перевести стихами, результат был бы, несомненно, еще хуже: получился бы банальнейший мадригал. В прозе, по крайней мере, смысловая оболочка текста не была извращена.
Тютчев по-французски… Я раскрыл небольшую книжку, составленную знаменитым славистом проф. Андре Мазоном и Николаем Оцупом с некоторым страхом: неужели перевод в стихах? Сразу одна за другой в памяти промелькнули отдельные, волшебные тютчевские строки, – неужели можно было, даже при безупречном мастерстве, переложить их в другие стихотворные строки? Нет, слава Богу, перевод сделан прозой! Очарование оригинального текста исчезло, но, по крайней мере, не произошло подмены его текстом будто бы «адекватным».
Заранее можно было быть уверенным, что Тютчев лучше выдержит переводную операцию, чем Пушкин, и даже первоначальный, беглый просмотр книги это подтвердил. Не буду сравнивать одного великого поэта с другим, не буду решать, кто «выше», кто «лучше»: думаю, что досадная, хоть и неискоренимая в людях склонность к таким сравнениям наиболее правильно разрешается в процессе чтения. Когда читаешь Пушкина, неизменно говоришь себе: нет, конечно, он – первый из первых! При чтении Тютчева впечатление такое же: кто же другой писал у нас подобные стихи? А Лермонтов, с его как бы случайными, гениальными проблесками, с такими строками, как «ночь тиха, пустыня внемлет Богу…», строками, о которых Розанов, помнится, удивительно верно и неожиданно сказал, что это будто эпитафия над древним Египтом и его спящей в пустыне, загадочной цивилизацией? А Некрасов, неровный, то падающий, то взлетающий, но во взлетах неотразимый, «не поэт, а океан»? Нет, воздержимся от сравнений, от сравнительных оценок, – к чему они?
Если от Тютчева в переводе остается больше, чем от Пушкина, то единственно потому, что мысль и чувство у него не окончательно растворены в звуках, не полностью слиты с ними и способны жить самостоятельной жизнью. Конечно, Тютчев, при стихотворной технике еще более изощренной, чем техника пушкинская, все же менее совершенен, – именно потому, что его поэзию отчетливее и легче можно разложить на составные элементы. А перевод ведь и начинается с разложения. От Пушкина, в особенности от лирики его, в переводе не остается почти ничего, ибо его поэзия живет лишь как явление целостное, органическое, от Тютчева же остаются отдельные мысли, отдельные образы, способные произвести должное впечатление и вне целого, независимо от словесной оболочки. Приблизительно то же можно было бы сказать о Гёте, а в качестве примера поэзии непереводимой назвать Расина.
Проф. Мазон в коротком предисловии к сборнику указал, что выбор стихов он предоставил Оцупу, как «поэту и глубокому знатоку Тютчева». Оцупу принадлежит и содержательное, интересное не только для французского, но и для русского читателя введение, и примечания к тексту.
Несколько слов о выборе стихов. Оцуп разбил сборник на отделы и во введении объяснил, что предпочел сгруппировать стихи по их основным мотивам, – природа, любовь, история и так далее, – а не руководиться хронологией. Ограниченность места заставила его в каждом отделе сделать значительные пропуски, и особенно пострадали при этом политические стихи Тютчева. Оценивает их Оцуп довольно сурово, утверждая даже, что между ними и подлинно тютчевскими созданиями такая же пропасть, как между «Дневником писателя» и художественным творчеством Достоевского. Мнение это распространено и, хотя я лично не могу с ним согласиться, возражать нет оснований. Да и пришлось бы для убедительности возражения сделать цитаты, привести примеры, развить некоторые соображения, т. е. превратить газетную статью в статью специальную и выйти за приемлемые для нее размеры и даже характер. Но есть пропуск, который меня поразил: в отделе, посвященном природе, отсутствует один из чудеснейших тютчевских шедевров:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный…
Конечно, «о вкусах не спорят: – (хотя Бунин правильно говорил: «только о вкусах и спорят»), – но я слишком хорошо знаю Оцупа, знаю его литературное чутье, его острый слух к стихам, чтобы допустить недооценку таких строк. Случайность, рассеянность? По-видимому, то или другое. Кстати, эта «Осень» могла бы дать в примечаниях повод к любопытному и до сих пор никем еще не сделанному указанию.
Тютчев, как известно, был широко образованным человеком и, в частности, усердным читателем французских классиков. Давно уже было отмечено, – и Оцуп об этом напоминает, – что его знаменитое уподобление человека «мыслящему тростнику» заимствовано у Паскаля. Но день «как бы хрустальный», восхищавший Брюсова, считался его личной находкой… Между тем в одном из писем мадам де Севинье есть такие слова: – «les journées de cristal du début de l’automne». Едва ли можно сомневаться, что этот образ Тютчев у нее взял, едва ли можно счесть более правдоподобным простое совпадение, тем более что пример с «тростником» доказывает склонность поэта к таким заимствованиям! Должен, однако, откровенно признаться, что в огромной переписке мадам де Севинье мне не удалось до сих пор, – как я ни старался, – эти «хрустальные дни» отыскать. Их приводит Сент-Бёв в одной из своих «понедельничных бесед» как образец восхитительного стиля маркизы, и у него я их и нашел. Но Сент-Бёву можно верить: он не мог ошибиться, не мог эти слова и выдумать.
Переводы, собранные в книге, принадлежат Шарлю Саломону и сделаны больше полувека тому назад. Проф. Мазон и Оцуп ограничились тем, что внесли в них некоторые поправки. Позволю себе предложить и небольшие дальнейшие изменения: почему, например, «Царь небесный» переведен «le Tsar des cieux»? Слово «tsar» имеет специфически-русский оттенок и оно едва ли в данном случае уместно, пусть речь идет именно о русских «бедных селениях». Не лучше было бы заменить его безличным «roi», как именно и переведен «царь земли» в другом стихотворении? В стихах о «поздних бледных роз дыхании», которым «декабрьский воздух разогрет», слово дыхание переведено «le parfum». Не лучше ли было бы «le souffle»? У Тютчева природа живет, розы дышат, а не только пахнут, и если дыхание превращено в аромат, исчезает неподражаемый тютчево-шеллингианский колорит этих строк.
Надеюсь, ни читатели, ни составители сборника не заподозрят меня в стремлении «придираться к мелочам». Нет, книга настолько нужная, полезная и в целом хорошо составленная, что о каких же придирках может быть речь! Но совершенства на свете нет, а в работе над Тютчевым дополнения, изменения и поправки возможны без конца. Разумеется, в прозаическом переводе все то, что составляет магию стиха, должно быть обойдено и опущено, иного и требовать нельзя! Однако в стихотворении «Проезжая через Ковно», где Тютчев поистине магически переставляет слова в двух относящихся к Наполеону строках, – сначала «своими чудными очами», затем «очами чудными своими», – не следовало ли бы сделать перестановку, грамматически вполне допустимую и в переводе? Худо ли, хорошо, кое-что от оригинального текста, слабый отблеск его был бы все-таки сохранен.
Мелочи? Да, конечно, мелочи. Но при невозможности в прозаическом переводе воспроизвести ритм, стилистическая верность тексту приобретает особое значение. Я ограничился двумя-тремя указаниями или предложениями почти что наудачу. Можно было бы сделать их и много больше.
Для французского читателя, в особенности для студентов, изучающих русскую литературу, – а сборник, по-видимому, на них главным образом и рассчитан, – необходимо было указать ударения. При расстановке их допустимы два принципа: ударения общие, как в прозе, причем в таком случае на словах односложных никаких отметок не требуется, или ударения, указывающие, как должны быть произнесены стихи (в сборнике дан и русский текст). Оцуп, по-видимому, склоняется ко второму принципу, хотя и не без колебаний. Иногда он в односложных словах ударение ставит, и ставит совершенно правильно, – как, например, на слове «нет» в строке «нет, никому еще не удавалось». Иногда поступает иначе, – например, в строке «Так. Но прощаясь с римской славой…», где на «так» никакого значка не ставит, хотя без остановки, без «акцента» на этом «так» строку прочесть нельзя! Или «Бой невозможный, труд напрасный…»: на «бой» значка нет. Колебания, впрочем, вполне понятны.
У Тютчева больше чем у кого-либо другого из наших поэтов школьные схемы – ямб, хорей и другие – обнаруживают свою несостоятельность (или, по крайней мере, свою грубую приблизительность), и насчет того, как следует его стихи читать, порой возможны разногласия. Тютчев склонен к стилю восклицательному гораздо больше, чем сравнительно спокойный Пушкин. Одна из любимых его словесных форм – восклицание «о, как», постоянно у него повторяющееся. Где здесь ударение, на «о» или на «как»? По-моему, скорей на «как», но можно сделать его и на «о», ломая ямб. Или в дактиле: «слезы людские, о, слезы людские» – нужна ли остановка, нужно ли повышение голоса на «о»? Повторяю, колебания естественны, неизбежны, именно потому, что тютчевская стихотворная манера со схемами не считается и в них не укладывается.
Под конец мне трудно удержаться от общего замечания, пусть к французскому переводу оно и не относится. Пожалуй, это не замечание, а тоже восклицание: какие стихи, сколько в этих стихах ума и неистощимо-щедрой сердечной энергии, какой поэт! Недаром Лев Толстой сказал, притом сказал в те годы, когда этого не говорил еще никто: «без Тютчева нельзя жить». Во введении своем Оцуп указывает, что первым о величии Тютчева заговорил Некрасов. Это если и верно, то с оговоркой, – потому что некрасовская оценка была все-таки сдержанна и отводила Тютчеву место среди поэтов «второстепенных». Слово «великий» было, если не ошибаюсь, впервые употреблено Достоевским, в одном из его последних писем: «Покойник Ф.И. Тютчев, наш великий поэт…». Тогда это должно было казаться преувеличением, тем более что Достоевский вспомнил Тютчева как своего поклонника, ставившего «Преступление и наказание» выше «Отверженных» Виктора Гюго. Но теперь об этом нет и не может быть споров.
Если сборник проф. Мазона и Николая Оцупа поможет французам уловить и почувствовать хотя бы часть того, что в тютчевские стихи вложено, молодые французские читатели должны бы понять, что Россия передала им одно из своих сокровищ.
Скиф в Европе
Повесть Романа Гуля «Скиф в Европе» – очень интересная книга на очень интересную тему. Интерес исторический сплетается в ней с психологическим, сплетается неотделимо, нерасторжимо, по той причине, что люди, о которых Гуль рассказывает, если и не «творили» историю, то все же на ход ее влияли. Подзаголовком к книге даны два имени – Бакунин и Николай Первый. Имена сталкиваются, сшибаются, как было это сто лет тому назад, и любопытство сразу возбуждено.
Повесть свою Роман Гуль написал по образцу тех «художественных биографий», которые стали в наш век распространенным литературным жанром. По-видимому, забота художественная была у него даже на первом плане: действие развивается скачками, исторические эпизоды то освещены исключительно ярко, то, наоборот, оставлены в полутени, кое-где вступает в свои права и воображение, – словом, с историческим материалом у автора обращение своенравное и властное. Да и самый стиль его, нервный, прерывистый, до крайности «импрессионистический», не похож на стиль и язык исторического исследования.
Главы о Николае и Бакунине идут параллельно. Два этих человека в жизни никогда не встречались, и как ни заманчиво было бы для романиста сцену их свидания представить, на такие «эксцессы», превращающие повествование в сказку, мало кто решается (впрочем, недавно я видел в газетах отчеты о книге, где Наполеон, бежав со св. Елены, подготовляет в Париже свою реставрацию). Гуль от основных фактов не отступил, и хорошо сделал, что не отступил. Царь и бунтарь у него представлены в рамках точных, или, по крайней мере, – правдоподобных.
Николаю I в нашей литературе не повезло. Два гиганта, Лев Толстой и Герцен обрушились на него с такой ненавистью (у Герцена почти что патологической) и притом с такой силой, что образ его врезался в память, как образ всероссийского жандарма, тупого, самоуверенного и безгранично-жестокого. Вполне ли это верно? Я задаю себе этот вопрос, зная, как в наши дни легко и легкомысленно оправдывается, даже возвеличивается в русском прошлом все реакционное, и не имея ни малейшего желания по этому пути следовать.
Но с Николаем Первым дело не так просто, как иногда кажется, и по всем данным, частично оставшимся недоступными для современников, человек это был незаурядный, а главное – одушевленный истинным стремлением к служению России на царском посту (вопреки тому, что сказал о нем Тютчев). Несомненно, был в нем и солдат, «прапорщик», по Пушкину, и страной он не столько управлял, сколько командовал. Была в нем заносчивость, непомерная гордость, сказывалась и узость общего кругозора, недостаток образования, недостаток «культуры», как выразились бы мы теперь. Но все-таки это был человек, если и не великий, то понимавший, чувствовавший сущность и природу государственного величия, человек, игравший свою роль не как обреченный, а как судьбой к ней предназначенный, – особенно в конце жизни, перед Севастополем и во время него, когда все вокруг разваливалось и он сознавал, что вину за развал не вправе ни на кого сваливать.
Знает ли, помнит ли читатель те удивительные, литературно-великолепные страницы в мемуарах Сен-Симона, где рассказано о смерти Людовика Четырнадцатого? Кое-что общее в этом рассказе с концом Николая I есть: одиночество, печаль, твердость в неудачах. Людовик, «Король-Солнце», тоже не был гением, хотя, вероятно, с помощью льстивого окружения тоже склонен был гением себя считать, но умирал он с величавым достоинством, – а ведь разваливалось в его делах и в его системе все с не меньшей очевидностью, чем в николаевской России, и предлог для малодушия нашелся бы. Сен-Симон его терпеть не мог, но тут уступил, нашел слова правдивые и беспристрастные. Беспристрастия должен бы дождаться, наконец, и Николай Первый. Не случайно же он оставил по себе у большинства лично его знавших память как о «настоящем» царе, не случайно произвел на современников такое впечатление! Маклаков рассказывает в своих воспоминаниях, как он был поражен, когда студентом впервые прочел Герцена: вырос он в окружении вовсе не исключительно консервативном, но и в этой среде привык слышать о Николае отзывы, не похожие на суждения герценовские. Маклаков не знал, кому верить, отцу ли, другим знакомым людям прошлого поколения, – или Герцену? Из русских царей еще большее впечатление на современников произвела, пожалуй, только Екатерина, хотя она совсем другими способами этого достигла, да и была совсем другим, бесконечно более гибким человеком[35]35
Два слова о Екатерине. Покойный М.А. Алданов встречался в начале эмиграции с некоторыми членами императорской фамилии и при своем страстном интересе ко всем историческим мелочам, ко всему, что только представители династии и могли слышать от своих отцов и дедов, наводил разговор именно на «фамильные» темы. Стоило, однако, назвать ему имя Екатерины, как на лицах собеседников отражалось смущение, ответы становились сдержанны и уклончивы. Алданов не раз мне об этом рассказывал и добавлял: «У меня сложилось впечатление, что для дома Романовых, вероятно, по очень давней, более чем столетней традиции, воспоминание о Екатерине – нечто вроде воспоминания о семейном скандале, о котором не принято говорить». Если догадка Алданова была правильна, – подчеркиваю, однако, что он высказывал ее именно как догадку, без твердой уверенности, – то потомки «северной Семирамиды» оказались к ней по меньшей мере несправедливы. Разумеется, основания для смущения были, «скандал» был, особенно в последние, зубовские годы Екатерины: об этом сохранилось слишком много свидетельств и воспоминаний, чтобы могло существовать два мнения. Но понятия семьи и династии – понятия разнородные, и какова бы ни была частная жизнь Екатерины, она для блеска, славы и престижа династии сделала больше, чем кто бы то ни было. Недаром Фамусов, рассказывая о своем царедворце-дяде, который провел «век при дворе», чуть ли не с благоговением добавляет: «И при каком дворе! Тогда не то, что ныне! При государыне служил Екатерине». Да и Ключевский в своей знаменитой, и действительно превосходной, юбилейной статье, написанной к столетию со дня смерти Екатерины, в общем довольно сурово оценивая ее государственную деятельность, под конец говорит о ее «всесветной славе», отбросившей лучи и на ее окружение, о том, что Екатерину «любили, как любят артиста, блестяще исполнившего свою роль».
[Закрыть]*.
Роман Гуль в обрисовке царя следует Герцену и Льву Толстому. Приводит он даже ту знаменитую, и что говорить, действительно ужасную резолюцию, – «Слава Богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить. Провести двенадцать раз сквозь тысячу человек», – которая приведена и в «Хаджи-Мурате».
В «Скифе в Европе» Николай – человек взбалмошный, гневливый, ограниченный, словом самодур и «прапорщик» до мозга костей. Но под конец повествования, там, где факты говорят сами за себя, возникает некоторое психологическое противоречие: в соответствии с тем представлением о царе, которое складывается при чтении первых трех четвертей книги. Николай должен был бы доставленного в Россию Бакунина немедленно повесить. Но царь, – правда, заключив «мерзавца» в крепость, – предложил ему написать свою «исповедь», а прочтя написанное, сказал: «он умный и хороший малый». Об этом рассказано и в «Былом и думах», и у Герцена, так же, как теперь у Гуля, получается тут явная неувязка. Кое в чем, однако, Гуль с Герценом расходится. Никогда специально Бакуниным не занимавшись, я не берусь судить, на чьей стороне историческая правота. По Гулю, разъяренный царь требовал сначала от саксонского, затем от австрийского правительств выдачи государственного преступника. На докладах о Бакунине Николай будто бы кричал: «Достану и за границей!», не допуская и мысли, чтобы кто-нибудь смел его ослушаться. А Герцен пишет: «Австрия предложила России выдать Бакунина. Николаю вовсе не нужно было его, но отказаться он не имел сил».
К главному своему герою автор «Скифа в Европе», по-видимому, чувствует симпатию, вглядывается в него со вниманием и дает яркий его портрет: «всемирный смутьян», революционный романтик, мечтатель, трибун, а немножко и болтун. Не он первый испытывает к Бакунину влечение, не он и последний, конечно! Однако если Гуль хотел передать свое чувство и другим, то напрасно включил в повесть отрывки из «исповеди», документа отвратительного, пусть и вызвавшего у Николая замечание об «умном и хорошем малом». Бакунин по своему признанию, – впрочем, вызывавшему и сомнения, – хитрил и царя перехитрил. Но когда он много позднее, бежав из Сибири, говорил об этом в Лондоне все с тем же Герценом, то солгал, будто написал нечто вроде газетной «передовой статьи», с рассказом о событиях, в которых участвовал. На самом деле эта «передовая статья» была покаянным воплем, мольбой о прощении, раболепнейшим объяснением в любви и верноподданнических чувствах.
Как известно, бакунинская исповедь была обнародована только в 1919 году, Ленин, унаследовавший от Маркса неприязнь и пренебрежение к Бакунину[36]36
* Неприязнь и презрение – вполне взаимные – Маркса к Бакунину доходили до того, что в своей «Новой Рейнской газете» он намекнул, будто неукротимый бунтарь ведет игру двойную и доставляет сведения о своих друзьях в Петербург, причем для придачи словам большего веса Маркс сослался на Жорж Занд. Та возмутилась и немедленно опровергла сообщение. (Приведено в обстоятельной французской работе о Бакунине русского автора Б. Гепнера.)
[Закрыть]*, опубликовал ее, вероятно, не без удовольствия. Но на старых революционеров, типа Веры Фигнер, она произвела впечатление угнетающее. Приходится удивляться, что эта «исповедь», вероятно, забытая, так долго пролежала в прежних архивах без того, чтобы кто-нибудь догадался ее напечатать! С охранительно-полицейской точки зрения это ведь был документ полезнейший: «смотрите, вот ваш кумир Бакунин, полюбуйтесь-ка, что он писал царю и как перед ним пресмыкался!» На иные горячие головы это был бы ледяной душ.
Передавать содержание «Скифа в Европе» незачем: достаточно указать, что действие приурочено к концу сороковых и самому началу пятидесятых годов прошлого столетия, когда чуть ли не вся Европа была охвачена революционным пламенем и, казалось, должна в нем сгореть. Мелькает множество исторических лиц, в том числе Рихард Вагнер, не без изумления слушающий неистовые речи Бакунина о близкой и неминуемой гибели цивилизации, науки, искусства, в котором единственное исключение он согласился бы сделать для бетховенской Девятой симфонии (рафаэлевской Сикстинской Мадонной он, как известно, при наступлении пруссаков на Дрезден предложил рискнуть, как щитом!). Появляется и Полудинская, женщина безнадежно и безответно любившая Бакунина.
Я уже сказал, что в общих чертах историческая достоверность в повести соблюдена. Но попадаются и странные несообразности: в Париже, например, Бакунин с Герценом иронически беседуют о благословении, присланном папой по «электрическому телеграфу» французской императрице по случаю рождения у нее сына. Ко времени, когда Луи Бонапарт был провозглашен императором, Бакунин давно был в России, а когда родился так называемый «императорский принц», единственный сын Наполеона III, то по повелению Александра II Бакунин был переведен в Шлиссельбург и никаких бесед с Герценом вести не мог. Что это, вольность нарочитая, умышленная, как иногда бывает в «художественных биографиях»? Допускаю это предположение потому, что Гуль эпоху изучил основательно и промах столь очевидный с его стороны маловероятен.
В книге чувствуется скрытый пафос, какой-то личный свободолюбивый, взволнованный «message», и посвящение ее «венграм, павшим в 1956 г. в борьбе за свободу Европы» это впечатление усиливает. Может быть, и подчеркнутая суровость в отношении Николая I должна быть объяснена тем, что и он, Николай, венгров «усмирял», и что в сознании автора «Скифа в Европе» далекое прошлое оказалось связано с настоящим. По-видимому, так. Эпиграфом к книге Роман Гуль взял блоковских «Скифов», которые приведены полностью. Надо признать, что в качестве введения в повесть о славянском «мессии» Бакунине это выбор чрезвычайно удачный, хотя положение и изменилось, и у Блока скифство настроено миролюбиво, скорей обороняясь, чем нападая. Но родство есть. Конечно, в те годы, когда Блок писал «Двенадцать» и «Скифов», Бакунин был ему близок, «созвучен», и во многом, что он тогда говорил, как в призыве «слушать музыку революции», был оттенок бакунинский, мятежный, пусть и без бакунинского ликования.
Если не ошибаюсь, это ведь именно Бакунин советовал своим друзьям гегельянцам «искать в революции Бога»: слова совсем блоковские, по духу, по складу. Ответ напрашивается сам собой, и, пожалуй, Блок, в отличие от Бакунина проверявший свои слова жизнью, болезненно отзывавшийся на отрыв слов от дела, пожалуй, Блок, после своего недолгого и горестного бунтарского опыта, с таким ответом согласился бы: искать Бога можно во всем, значит можно и в революции. Но найти Его в ней нельзя.









































