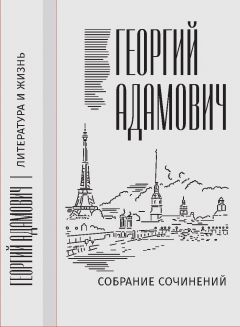
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Марьянка» Рассказы Леонида Зурова
Среди писателей, сложившихся в эмиграции, нет ни одного, который постояннее и сильней помнил бы о России, чем Леонид Зуров. «Память сердца», можно было бы определить его отношение к России словами поэта, т. е. память самая верная. Вне России, вне русских тем, русской природы, русских исторических несчастий и передряг творчество Зурова нельзя себе представить. Иным воздухом он, как художник, не мог бы, кажется, и дышать.
Зуров пишет уже давно, лет тридцать или немногим меньше. Его знают и ценят. Но, очевидно, не только книги «имеют свою судьбу», – по Горацию, меланхолически процитированному Пушкиным в связи с тем, что «Полтава» «не имела успеха», – а и писатели. Первая повесть Зурова «Кадет» обратила на него общее внимание, – отчасти благодаря Бунину, судье строгому, сразу признавшему в юном авторе выдающееся дарование. Зуров, как говорится, вошел в литературу. Однако мало-помалу вокруг него образовался некий холодок, и так как слишком долго было бы объяснять и анализировать, чем холодок этот мог быть вызван, ограничусь лишь «констатированием» факта, досадного и несправедливого, и перейду к только что вышедшему сборнику зуровских рассказов «Марьянка».
Это – книга, которая должна бы вызвать длительный отклик, должна бы возбудить – особенно в эмиграции – внимание и даже волнение. Глубокая, неподдельная ее «русскость», ничего не имеющая общего с дешевым историческим маскарадом или слезливой слащавостью, очевидна с первых же страниц. Что скрывать, мы начинаем здесь забывать Россию. Обосновавшись более или менее прочно на Западе, мы обогатились здесь иными впечатлениями и свыклись с иным бытом. Я вовсе не какую-либо «денационализацию» имею в виду: «денационализация», если заметна, то преимущественно среди молодежи, притом зеленой. Нет, в разговорах Россия упоминается постоянно, и даже надежды на возвращение в родные места, при изменившихся порядках, едва ли ослабели. Но то, что можно бы назвать «чувством России» и что трудно без усилия в течение долгих лет хранить, – т. е. не только верность особому духу и строю русской культуры, не только нечто бесплотное, отвлеченное, а и чувство русской жизни и природы, русских красок, оттенков, бытовых черт, шорохов, звуков, того, что, по Тютчеву, «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный», наконец, «несравненного благоухания России», как, если не ошибаюсь, сказано где-то у Бориса Зайцева, – это улетучивается, исчезает или искажается.
Книга Зурова восстанавливает и напоминает далекие, начавшие тускнеть и бледнеть картины. То волнение, которое, вероятно, испытает каждый русский ее читатель, возникает благодаря самым темам книги и правдивому авторскому подходу к ним. Рассказы в большинстве случаев совсем короткие, порой даже без всякого внешнего действия. Но это обрывки и осколки огромного исторического действия, всколыхнувшего Россию в наш век, и писатель с чудесной непосредственностью дает эту связь почувствовать.
Природа и история. Обыкновенно они, в качестве творческих мотивов, друг друга исключают. Для Зурова ни глубокая, седая русская старина, ни революция неотделимы от пейзажа, нерасторжимы с ним, – и характерно, между прочим, что он гораздо чаще, и с более заразительным увлечением рисует пейзаж зимний, чем лето или весну. Критик-фрейдист из этого наблюдения сделал бы, пожалуй, выводы неожиданные, касающиеся авторского сознания, его «зимнего» отношения к бытию (у Герцена, самого парадоксального и одного из самых удивительных по словесной находчивости русских стилистов, есть фраза о «зимних глазах» Николая Первого). Предпочитаю предположение более простое: зима, в русском ее великолепном и величественном обличье, – то, чего нет на Западе, кроме, может быть, стран скандинавских, и писатель-эмигрант, безотчетно для самого себя, с особой настойчивостью вспоминает то, чего здесь ему недостает. Думаю, что это именно так. А умение Зурова найти для русской зимы образы и эпитеты, в которых с почти физической реальностью запечатлена январская стужа или синеватый блеск крепкого, улежавшегося снега, принадлежит, конечно, к личным свойствам и достоинствам его дарования.
Остановимся для примера на рассказе «Дозор», рассказе сравнительно длинном: не потому чтобы он был решительно лучше других, а потому что в нем история с природой сплелись особенно тесно. Излагать его фабулу «своими словами» было бы делом пустым и никчемным: этот прием или, вернее, эта операция, к сожалению, прочно утвердившаяся в критически-рецензентском обиходе, не дает ровно ничего. Толстой по этому поводу хорошо сказал: «Если смысл художественного произведения можно передать иными словами, незачем было писать художественное произведение». Постараюсь лишь дать понятие о содержании и общем характере рассказа.
Назимов, молодой офицер, возвращается с развалившегося фронта в родное имение. Знакомых мест он не узнает: все, что казалось близким, приветливым, дорогим, все стало чуждым и враждебным. Крестьяне грабят соседние усадьбы. Один мужик, впрочем, вызволил Назимова из беды, когда по дороге того арестовали. Нужен был поручитель, кто-нибудь, кто заявил бы, что знает Назимова, а собравшийся в школе народ молчал.
«Я за него поручаюсь», – неожиданно сказал маленький мужик в лаптях, которого Назимов никогда в жизни не видел.
Ему тогда выписали пропуск и отпустили. Он уходил, был в сенях, когда его сзади кто-то окликнул:
– Постой-ка, постой!
Он оглянулся, не зная, что думать, но его нагнал тот же мужик, в лаптях, оборах, рваном, плохо чиненном полушубке, криво надетой шапке, радостно всклокоченный, но не пьяный, а счастливый – как теперь понял он – тем, что они сами самостоятельно решали и заседали. Догнав, он протянул ему руку, а потом, улыбнувшись, сказал ему на прощание, при всей своей бедности и худобе:
– Ну, вали, вали, с Господом Богом!
Однако спустя несколько дней тот же мужик в компании с другими явился к Назимовым грабить их. Надо уезжать. Надо уговорить отца и мать все бросить, спасая самую жизнь. Назимов недоумевает: «За что, за какие грехи? Какое страшное за нами наследство?.. Тяжело и мучительно жить, трудно верить, что нет больше пощады. Ему казалось, что за эти годы он потерял все, и любовь, и радость, изгнанный из детского рая… А что там, на широких, ведущих к Петербургу дорогах? Там скрипят, как в снежных, прокаленных морозом степях, отступая, обозы, голоса солдат, что возвращаются с фронта, будят баб по ночам, кто-то, дойдя до дома в солдатской шинели, стучит в окошко избы, и босая мать испуганно спускает ноги с постели. Там на востоке Бог знает что происходит в эту морозную ночь. Глухо и враждебно живет земля, наполненная страхом и смертью… Там – посты по реке, чужой народ, пришедший издалека, солдаты в белых до пят бараньих шубах с поднятыми воротниками, смотрят в эту сторону, мерзнут, слушая русскую ночь».
Надо уехать, бежать ночью, втайне от всех. «Мать ждала его у завязанных узлов, закутанная по-дорожному в платок и шубу.
– Тихо ли? – спросила она.
– Славу Богу, все тихо.
Он хотел снимать иконы. Мать сказала:
– Погоди, Саша, надо в доме последний раз помолиться.
Он посмотрел на отца. Большой и послушный, одетый матерью, запоясанный, отец был в красном мужицком тулупе. Около узлов лежали ружья.
Мать долго крестилась, а когда кончила молиться и повернулась к мужу, лицо ее было мокро от слез.
– Душа, а душа, – сказала она, – что же это?
И они, схватившись в охапку, как дети, заплакали».
Что же это? За что? – безответные эти вопросы возникают и в сознании автора, а не только в сознании его героев. Ничего гневно-мстительного, звучащего, скажем, у Шмелева, в писаниях Зурова нет. Он, вероятно, скорей сказал бы, что все виноваты во всем, что ничего исторически-беспричинного и ничем не объяснимого в случившемся не было. Но отдельные люди, каждый из которых несет лишь ничтожную, стомиллионную долю общей ответственности, отдельные люди страдают все-таки безвинно, и никакими ссылками на летящие при рубке леса «щепки» оправдать этого нельзя. За что? Вопрос остается, вопрос повисает в воздухе вечным укором судьбе, и не чувствуют, не понимают этого лишь те, кто заменил живое представление о существовании статистическими его схемами. Впрочем, это вопрос древний, как мир, поистине «проклятый» и неразрешимый. Скажу, кстати, что один из самых зияющих, самых роковых пробелов советской литературы именно в том, что она, вся на крови выросшая, этого вопроса или не видит, или невозмутимо его обходит.
В книге Зурова далеко не все рассказы так трагичны, как «Дозор». В ней много лиризма, есть в ней и юмор, есть, наконец, то, что трудно было бы одним словом определить, но что заставляет иногда отложить книгу, задуматься, пожалуй замечтаться, унестись мыслью далеко-далеко, особенно сидя в парижской квартире, с уличным грохотом и автомобильными гудками внизу, – «Гуси-лебеди», например. Как все в этом коротеньком очерке хорошо, какая в нем свежесть и прелесть! Случайно ли то, что он помещен в сборнике последним? Автор как будто хотел внушить, что бытие и время в своей «всепоглощающей и миротворной бездне» растворяют все, что могло смущать и мучить, и с неустанным постоянством восстанавливают мир в его первозданной чистоте. «Так было, так будет». Россия была и будет. Кто хотел бы это чувство, эту уверенность в памяти освежить, должен книгу Зурова прочесть.
«Встреча» Стихи Софии Прегель
Сборник стихов Софии Прегель «Встреча» принадлежит к числу книг внутренне цельных: в ней без всякой назойливости или слезливого самолюбования запечатлена какая-то драма. Книга эта – рассказ о себе, но рассказ сдержанный, позволяющий лишь догадываться по мелькающим в нем образам и картинам внешнего мира о том, что в сознании автора произошло. Я умышленно упоминаю о драме «какой-то», и не собираюсь, конечно, ее объяснять и более или менее произвольно истолковывать. Едва ли это и было бы возможно.
Общее впечатление от сборника: остановка, ликвидация былых обольщений, финальная «муть и пустота», как сказано в первом стихотворении сборника, «одиночество и так далее», как сказано в самом конце его. Была жизнь, и по мере того как шли годы, рассеивались иллюзии, и в итоге оказалось, что жизнь – «не то». Разумеется, можно бы возразить, что это – тема вечная, объединяющая бесчисленных поэтов, в частности почти всех романтиков, и талант каждого из них обнаруживается лишь в способности найти на вечную, тысячу раз использованную тему свои, не похожие на других вариации. Софии Прегель это бесспорно удалось. В ее книге, помимо своего голоса, есть неподдельная вескость, мужество, печаль. Поэт, может быть, и сдается судьбе, но сдается не дешево и во всяком случае отказывается от утешений и тепловато-тошнотворных соболезнований. Скорей наоборот, поэт по-блоковски говорит: «товарищ, дай мне руку… как страшно все!» – дай руку, чтобы не только мне, а и тебе самому было легче смотреть правде в глаза.
Прежние, более ранние стихи Прегель были несколько другого тона. В них чувствовалось инстинктивное восхищение миром и жизнью, неукротимая радость, возникавшая от участия в том, что жизнь дает. Пожалуй, и теперь кое-что от этих «мироутверждающих» настроений уцелело, однако личный, практический их оттенок сделался отвлеченным и теоретическим. Иначе говоря, Прегель и теперь склонна допустить, что мир прекрасен, хотя бы личный ее опыт оказался другим: личная, единичная неудача не колеблет для нее общего представления о мире, в котором «все добро зело» и где человек, если и вправе кого-либо обвинять, то лишь самого себя. Когда-то Мережковский насмешливо заметил, что у нас – было это в годы чулковского «мистического анархизма» и прочих досужих измышлений – «каждая блоха, у которой нога подвернется, не приемлет мира». Прегель – на противоположном полюсе: что бы ни случилось, куда бы судьба ни завела, спасибо за то, что счастье в жизни возможно и что если не тебе, то другому оно бывает дано. Спасибо за то, что мир существует.
Сводя к нескольким основным положениям содержание «Встречи», я по мере сил отвечаю на вопрос, излюбленный критиками прошлого века, но ничуть не потерявший значения и в наши дни: что писатель хотел сказать? Настоящий писатель всегда говорит что-то общее, т. е. передает некий «мессаж», порой безотчетно для самого себя. Сочинять стихи можно и без «мессажа», но поэтом без него быть нельзя, и если это – не единственный признак поэзии, то все же едва ли не самый существенный.
Прегель пишет широким, свободным стилем и ведет свою стихотворную родословную от поэтов анти-ювелирного, антикамерного склада, в русской литературе ярче всех представленного Некрасовым. Родства внутреннего нет, подражания не заметно никакого, но в расчете на дыхание и напев преимущественно перед игольчатой остротой и точностью слова связь обнаруживается. Кстати, с большим удовольствием прочел я не так давно в нью-йоркском «Новом русском слове» – не помню, за чьей подписью, – что пора бы о Некрасове прекратить споры, и кажется даже, что споры эти «позорны». Позорны они или нет, пора бы, в самом деле, наконец, согласиться, что Некрасов – один из трех-четырех величайших русских поэтов, неровный, но в лучшие свои моменты трагически-неотразимый и мощный. И притом поэт глубочайше-религиозный, вопреки наносному, поверхностному шестидесятничеству – если только признать, что самый верный путь к религии и вере лежит через страдание, слух к нему, понимание его.
На днях, в статье о Маклакове и Толстом, мне пришлось сослаться на поистине смехотворное предсказание Влад. Соловьева насчет того, что «Баллада о камергере Деларю» переживет «Войну и мир». К числу соловьевских промахов не менее безапелляционных и удивительных надо отнести и его рифмованное обличение Некрасова, будто бы заменившего «святыню муз шумящим балаганом» и славу свою основавшего на «расчетливом обмане». Если к тому же вспомнить стихи самого Соловьева, пусть и более возвышенные по дословному содержанию, но все-таки только «стишки» рядом с некрасовским океаном, досада становится особенно нестерпима. Насколько проницательнее оказался Достоевский, отнюдь не единомышленник Некрасова, сказавший о нем сразу после его смерти столько справедливого, глубокого, нужного и верного!
Но об этом – мимоходом: к слову пришлось. Поэты такого склада, как Прегель, в наше время редки, по крайней мере, в эмиграции. Ей как будто тесно и душно в эмигрантском житье-бытье, ей, как бодлеровскому альбатросу, были бы ближе просторы, бури, поднебесье. Своеобразие книги отчасти и заключается в противоречии между тем, что поэт видит или находит в действительности, и тем, к чему по природе ему свойственно стремиться, что он найти хотел бы. Драма, пожалуй, именно в этом. Поэзия Софии Прегель задумана, зачата в прообразе своем иначе, чем оказалась в реальности выполнена, и мы смутно чувствуем тяжесть падения, паралич крыльев, которые все же были именно крыльями и созданы были для полета.
Непосредственные темы «Встречи» – раздумие над ушедшими годами, иногда Россия, очень часто одиночество. Довольно скупая на признания, Прегель, однако, не скрывает, что «разбилась о равнодушие, одиночество, тишину». Но было бы ошибкой счесть, что сборник, при своей цельности, лишен внутреннего движения с неожиданными перебоями, отступлениями, открытиями: будь это так, он был бы значительно беднее, чем есть. Вот, например, одно из тех стихотворений, которые похожи на минуту отдыха, передышки или забвения в трудном и горестном пути. Оно – без названия, но кто из русских парижан не узнает в нем сразу Сент-Женевьев-де-Буа?
Купол церковки синий.
Кладбище на чужбине
В мокрых листьях берез.
Строго и домовито:
Елки чисто повиты
Мелким бисером слез.
На откосе пустынно
Догорает рябина.
День и робок, и прост.
Эти кусты косые,
Это ли не России
Задремавшей погост?
А для того, кто верил,
Жизни иной преддверье,
Встречи миг роковой.
Для неверивших это
Сон в земле несогретой,
Скудный сон без просвета
В тесноте гробовой.
Иногда возникают – тоже как перебои – прелестные, неожиданные, сразу запомнившиеся образы. Например:
И сердце изнемогало,
Счастливых мук не тая,
Пугалось и замирало,
И звезда влюбленных мигала:
«Ты мой, я твой, ты моя».
Последняя строчка действительно «мигает», в самом ритме своем.
Процитировать следовало бы и многое другое. Однако, если главная цель того, кто о сборнике стихов пишет – внушить желание его прочесть, то надо с этой задачей справиться самому, не перекладывая ее на плечи автора. Не знаю, удалась ли она мне. Как водится, одни скажут – да, другие, пожав плечами, возразят – нет, по причинам и побуждениям, которых порой нельзя и предвидеть. Но повторю в заключение, что «Встреча» заслуживает пристального и долгого внимания, а тем, кто хотел бы ее только перелистать, не стоит книги этой и касаться: отдельные стихотворения доставят им, вероятно, мимолетное удовольствие, но истинной человечности поэзии Софии Прегель и непрерывно светящегося в ней огня они не заметят.
Заметки о Тургеневе
Первая мысль, первый, сам собой возникающий вопрос над еще чистым листом бумаги: каково место Тургенева в русской литературе? что осталось? что уцелеет и в будущем? обеспечено ли бессмертие, хотя бы условное, т. е. на несколько веков?
Имя Тургенева – не из тех основных, бесспорных, насчет которых, при любых внутренних счетах с ними, сомнений нет. Тургенев – во втором ряду русской литературы, пусть и на одном из почетнейших в этом ряду мест. Когда-то в него влюблена была чуть ли не вся Россия. По свидетельству современника «Дворянское гнездо» читалось «в пароксизмах наслаждения». Но прошли года, десятилетия, изменились требования, вкусы, оценки, и Тургенев слегка поблек, вернее, оказался заслонен Толстым и Достоевским, а отчасти и Чеховым.
Как это на первый взгляд ни странно, его повести и рассказы «поблекли» меньше его романов, которым он, вероятно, придавал больше значения. Не только такие вещи, как «Вешние воды» или «Первая любовь», но и «Записки охотника», со вступительным «Хорем и Калинычем», чудесным рассказом, которым по традиции напрасно докучают всем русским школьникам: оценить его они не могут. В романах, в каждом тургеневском романе есть тоже множество прекрасных страниц, в них виден редкий ум, блестящее изобразительное мастерство, но утомляет и расхолаживает в них стремление уловить некое «последнее слово», намерение показать «новых людей»: от сороковых годов, отраженных в «Рудине», до народничества семидесятых, запечатленных в «Нови».
Новое, подчеркнуто-новое быстро ветшает, и надо сказать правду, эта сторона тургеневских романов имеет сейчас значение преимущественно историческое и, давая ценнейший материал для изучения развития русской интеллигенции в прошлом веке, живого интереса вызвать уже не может. «Что за роскошь!» – сказал Чехов об «Отцах и детях», лучшем, мне кажется, романе Тургенева, – и действительно роскошь! Смерть Базарова, отдельные великолепные мелочи, самая фигура Базарова, гораздо более глубокая и оригинальная психологически, чем идейно, наконец остроумнейший, Гоголя достойный, эпизод с «передовой» дурой Кукшиной (хотя бы, например, ее ответ: «Помилуйте, там Бунзен!» на вопрос Базарова, зачем, собственно говоря, она едет в Гейдельберг. Или «в наши дни как же можно без эмбриологии!») – роскошь, роскошь! Но бесконечные пререкания Павла Петровича Кирсанова с молодыми нигилистами отдают плесенью. Возражения по адресу обоих лагерей давно найдены, – злободневность этих споров, впрочем, как и всякая злободневность, давно выветрилась.
Мне бы не хотелось, особенно в юбилейные дни, говорить что-либо хоть в малейшей степени обидное для памяти большого и благороднейшего писателя, но, несомненно, были у Тургенева черты боборыкинские: во что бы то ни стало уловить последние, наиновейшие веяния! По-видимому, он считал это своей творческой задачей, своим назначением, и при всем уме своем не понял того, что как будто от рождения знал Толстой: того, что «новых» людей нет, не было и не будет, что изменяется в людях только оболочка – или, иначе, та пища, которую эпоха предлагает сознанию, – а не самая их сущность. Как известно, Толстой заснул над «Отцами и детьми», к великой, молчаливо затаенной обиде Тургенева, давшего ему роман в рукописи.
Утверждать рискованно, но крайне вероятно, что сонливость одолела его именно на словопрениях Базарова с Кирсановым, помещенных в начальных главах романа.
* * *
Говоря о писателе, невольно принимаешься сравнивать его с другими.
С Толстым сравнивать Тургенева не к чему, и сам Тургенев, конечно, с этим согласился бы, особенно в последние свои дни, когда дрожащей рукой он умолял «великого писателя русской земли» не оставлять литературы, – кстати, «русской земли», а вовсе не «земли русской», как большей частью ошибочно цитируется, с придачей тургеневской фразе велеречиво-напыщенного склада. Для сравнения с Достоевским мало данных и оснований.
Но есть в русской литературе романист тургеневского ранга, жестоко и болезненно Тургенева ненавидевший, назвать которого уместно – Гончаров. Ему у нас не повезло. Его мало читают, плохо помнят, и даже Чехов, обычно мягкий в суждениях, отозвался о нем пренебрежительно. Гончарова уважают, но не любят, слава его стала, в сущности, музейной, а писатель это замечательный, хотя и лишенный того дара, который несколько туманно можно назвать поэзией. Гончаров – ничуть не поэт. Тургенев – поэт, и благодаря этому навсегда затмил, оттеснил Гончарова.
Однако рука у Гончарова, пожалуй, тверже тургеневской, рисунок увереннее, только без того «чего-то» неуловимо-волшебного, что Тургенев умеет в свои писания ввести. Как все-таки жаль, что «Обломов» или даже «Обыкновенная история» у нас на деле, а не на словах, почти забыты! Кто захотел бы их перечесть, должен был бы оценить мастерство и стройность повествования. Очароваться нечем, – как до сих пор очаровывают некоторые главы «Дыма» или «Накануне», например, удивительная по грусти и прелести, по какому-то музыкальному дребезжанию сцена в Венеции, где Елена с умирающим Инсаровым слушают новую оперу, «Травиату», – да, очароваться нечем, но есть над чем подумать и каждому писателю нашлось бы чему поучиться.
Толстой, в разные годы относившийся к Гончарову по-разному, писал ему уже в восьмидесятых годах, что «многому научился» у него. Меня всегда это интересовало: чему Толстой мог у Гончарова выучиться? К пустым, лживым любезностям он ведь склонен не был. Вот одна из возможных догадок: в «Обломове», с переездом героя на Выборгскую сторону для окончательной спячки, появляется женщина по имени, – если не изменяет мне память! – Агафья Михайловна, хозяйка квартиры и будущая жена Ильи Ильича. Рассказывая о ней, Гончаров постоянно упоминает о ее локтях. Локти, как-то особенно на кухне мелькающие, особенно Обломову полюбившиеся, – отличительный признак доброй и хлопотливой Агафьи Михайловны… И не эти ли локти внушили Толстому его знаменитый изобразительный прием: посредством одной, характерной мелочи давать целый портрет, вносить в него убедительность и точность? Лучистые глаза княжны Марьи, короткая верхняя губа маленькой княгини, точеная полнота Анны, все эти настойчивые толстовские повторения не от локтей ли Агафьи Михайловны? «Обломов» появился ведь за несколько лет до начала работы над «Войной и миром», а в «Казаках» этого приема еще нет.
Тургеневские образы расплывчатее гончаровских. Но Тургенев лучше Гончарова понял, острее почувствовал сложность человеческой души, и даже своим «типам», показательным для той или иной эпохи, придал черты противоречивые. Рудин, например: в течение долгих лет критика упрекала Тургенева в том, что в изображении этого незадачливо-талантливого болтуна он сам с собой расходится и то смеется над ним, то – устами Лежнева – его возвеличивает. Андре Моруа, кажется, первый сказал, и совершенно правильно сказал, что Тургенев смотрит на Рудина с разных сторон, под разными углами, и поэтому видит в нем то, что в установленную схему не уложилось бы. Рудин – «тип», но и живой человек: не он в словах своих и поступках подчиняется автору, а автор идет за ним, не зная заранее, куда.
* * *
Если бы мне удалось когда-нибудь написать о Тургеневе книгу, или хотя бы большую статью, – одно из тех мечтаний, которое, вероятно, мечтанием и останется! – я бы попытался отчетливо и ясно изложить то, о чем сейчас, в нескольких строках, могу сказать только словами самыми общими. Но согласится ли со мной кто-нибудь или нет, по-моему, именно в этом – ключ к Тургеневу.
Он был человеком, который как будто по ошибке судьбы родился в девятнадцатом веке. Век этот был ему душевно чужд, но по уступчивости своей он ему подчинился и идейное его содержание принял, как мудрость бесспорную и окончательную. У него не было сил богоборчески восстать на эпоху, как сделал это Достоевский. Рассеянно, скептически, сомневаясь, мерцая, колеблясь, он брел за своим веком и в главных своих творениях послушно служил ему в его русском преломлении, – от «Рудина» до «Нови». Едва ли это случай единственный в нашей литературе, и в пояснение своей мысли я сошлюсь на Некрасова, которого совсем недавно – в статье о стихах С. Прегель – мимоходом назвал поэтом «глубоко религиозным». В ответ немедленно получил письмо от читателя мне незнакомого: как, что такое, что за вздор. Некрасов, позитивист, рационалист, революционер, чуть ли не большевик, и вдруг, видите ли, ни с того, ни с сего, поэт «религиозный»! Совершенно верно. Некрасов был позитивистом и рационалистом, другом Чернышевского, поэтическим шестидесятником, знавшим наизусть письмо Белинского к Гоголю. Он был человеком своего времени, выразителем времени, а время было в основных чертах самоуверенно-атеистическое, убежденное во всесилии разума.
Но та часть души Некрасова, на которую влияния своего время распространить не могло, была совсем иной, и достаточно назвать хотя бы несравненное, незабываемое обращение к матери в «Рыцаре на час», чтобы спросить себя: да есть ли во всей русской литературе что-либо более похожее на молитву, на молитвенно-страдальческий гимн, уходящий в самую глубь вещей? Анна Ахматова говорила когда-то, что не может «Рыцаря на час» читать, особенно вслух, как и надо читать: не выдерживает нервного напряжения. В самом деле, от рационализма, позитивизма или от борьбы с произволом самодержавия осталось тут очень мало.
С Тургеневым, конечно, совсем не то. Никаких молитв у него нет. Он ни во что не верил, да по природе, кажется, и не способен был верить – Базаровский «лопух» казался ему страшным и непреложным символом. Но к концу жизни, после «Нови», в предчувствии близкого «лопуха», он как будто стал в отношении самого себя проницательнее, смелее, свободнее, и именно по этим последним писаниям, по этим его «лебединым песням» мы можем догадаться, чем он в иных условиях, в иные времена должен был бы стать. Некоторые стихотворения в прозе, «Песнь торжествующей любви», вещь сладковатая, стилистически слишком пышная, но уже похожая на переход в другую тональность, и в особенности «Клара Милич»…
Нет, это не парадокс: настоящий Тургенев, освободившийся от всех воздействий и влияний Тургенев – в «Кларе Милич», где какими-то обходными тропинками он пробрался туда, куда прямой дороги не видел. Странная это повесть, с магическим и, пожалуй, порочным привкусом, но вся трепещущая надеждами, которые век насмешливо и грубо отбрасывал, но Тургенев сберег и под самый конец жизни, как нечто заветное, решился высказать: все – прах, все – суета, да, «лопух», но, как знать? – наперекор всезнающему веку – где-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь, может быть, и свершится, посмертная встреча, загробное счастье…
«Клара Милич» – удивительное дополнение, красноречивый комментарий к трудолюбиво и разумно прожитой жизни, к всероссийскому успеху и славе, к почтенным «благоухающим» сединам и вере в прогресс.
Только трудно об этом писать в короткой газетной статье. Остается мне только надеяться, что кто захочет, продолжит и разовьет все эти соображения сам. Или отвергнет их.









































