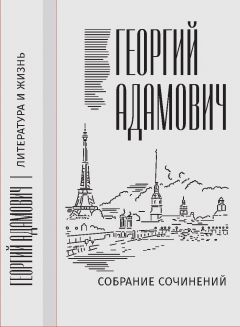
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Задача России
Книга В.В. Вейдле «Задача России» написана на темы, которые очень давно уже волнуют русских людей и едва ли окажутся когда-нибудь в их представлении исчерпанными и устарелыми. Книга эта – новый вклад в спор западников со славянофилами, спор далеко не конченный, в наше время опять разгоревшийся, усложнившийся новыми доводами «за» и «против», – хотя более полустолетия тому назад Влад. Соловьев, подводя ему итоги, считал, по-видимому, что все недоразумения выяснены и толковать больше не о чем. Вейдле тоже ищет решений окончательных и долю правоты признает за обоими лагерями. Весь тон его книги как будто внушен желанием устранить крайности, образумить спорщиков, установить порядок там, где двумя враждебными вихрями сталкивались разноречивые суждения о России и ее будущем.
В мыслях Вейдле много убедительного, несомненно верного, впервые подмеченного. Книга его – книга ценная, нужная, а кроме того выделяющаяся среди обычных российских импровизаций и открытий давно открытых Америк всем своим спокойным, истинно вдумчивым складом, своей внутренней основательностью. Но исторического спора она не заключает. Не только Соловьеву, но и чуть ли не каждому из писателей, которые этого «проклятого» русского вопроса касались, представлялось, что именно он нашел ответ, поставил в споре точку. Едва ли можно сомневаться, например, что Тургенев, – когда писал он в «Дыме» знаменитую, приводившую в ярость и содрогание Достоевского, страницу о том, что «наша матушка, Русь православная» ровно ничего не создала, что если бы «провалилась она в тартарары», в мире ничего не изменилось бы и что надлежит нам поэтому идти на поводу у Запада, никакими иллюзиями насчет особых своих миссий не обольщаясь, – едва ли можно сомневаться, что Тургенев мысленно ставил в споре точку. Нашлись люди, полностью с ним согласившиеся. Но другие недоумевали, возражали, и так как речь шла не о фактах, а о мнениях, и даже не о знании, а о вере, разногласие сделалось лишь сильнее.
В обычных человеческих спорах плохо то, что все мы, – думаю, почти без исключения, – озабочены не только самым предметом спора и поисками истины, но и своей в нем ролью. Нам во что бы то ни стало хочется быть правым, нам необходимо выйти в словопрении победителем, «посрамить» противника. А если спор страстен, запальчив, то мы хватаем через край, говорим и пишем не то, что надо бы, может быть смутно и сознавая это, но в пылу схватки уже ни о чем, кроме самой борьбы, не помня…
Вейдле никак нельзя упрекнуть в запальчивости. Он не горячится, не полемизирует, а держится как некий третейский судья, который, рассмотрев противоречивые данные, уверенно и веско выносит решение. По характеру тем и выбору их, да, пожалуй, даже и психологически, т. е. по эмоциональному составу, «Задача России» ближе всего к «России и Европе» Н.Я. Данилевского, одной из основных русских книг прошлого века, «капитальной», по определению Достоевского, книги смелой и местами глубокой. Правда, взгляды Данилевского резко расходятся со взглядами Вейдле. Данилевский к концу жизни пришел к убеждению, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное», что относиться к ней нам следует «без ненависти и без любви», а все в Европе происходящее должно быть нам безразлично, как будто бы происходило это «на луне».
Вейдле лишь вскользь упоминает о Данилевском, но зато говорит о Шпенглере и Тойнби, связь которых с автором «России и Европы» не раз была отмечена. Кстати: верно ли, что Шпенглер теорию свою о существовании обособленных культур, ограниченных и смертных подобно всякому организму, заимствовал у Данилевского, как утверждают многие его русские критики? Действительно ли он Данилевского читал? Влад. Соловьев в своем разборе «России и Европы» указывал, что основные идеи этой книги совпадают с мыслями Генриха Рюккерта, полузабытого теперь немецкого историка. Не естественнее ли предположить, что Шпенглер испытал влияние Рюккерта, своего соотечественника, и лишь в силу этого оказался с Данилевским в духовном родстве? И еще, второе «кстати»: хочется выразить надежду, что в Москве, – если действительно налаживается там какой-то «новый курс», – наконец поймут, что нельзя начисто игнорировать большого писателя из-за его «реакционности», мнимой или даже подлинной. В советской энциклопедии Данилевскому посвящено пять-шесть пренебрежительных строк, с указанием, что был он «реакционным публицистом». Допустим, согласимся: реакционный публицист. Но когда же дано будет советским читателям право кое-что знать и о «реакционерах», если признано, что прошлое своей страны они знать должны? Или так и останется аксиомой, что среди русских мыслителей, не согласных с Чернышевским, Добролюбовым и людьми их склада, никого кроме пустых изуверов и мракобесов не было?
Я отвлекся от книги Вейдле, но достаточно вспомнить самое название ее – «Задача России» – чтобы найти этому и объяснение, и оправдание. Задача России: даже в чужом, даже в чуждом освещении трудно такой темы коснуться, чтобы не задеть мимоходом многого, что дремало в сознании и не уйти в сторону. По Вейдле – нет России вне Европы, как и нет Европы без России. Оригинальность его позиции в западническо-славянофильском споре может быть вкратце сведена к тому, что ему одинаково кажутся опрометчивы и тургеневское представление о единственно разумной и трезвой западной цивилизации, которой надлежит нам по-ученически следовать, и заносчивое славянофильское убеждение в нашем особом историческом призвании, Вейдле не отрицает русской самобытности. Но для него она – не только не препятствие к участию в общем великом деле, а именно условие этого участия, и даже непременное условие: нельзя быть европейцем, не будучи подлинно русским человеком, и только в русском обличии наш европеизм может оказаться плодотворен и творчески жив. Мы – не дикари, не подражатели, мы вносим свой вклад в общую сокровищницу с уверенностью, что это сокровищница наша, во всяком случае и наша, и что Пушкин или Тютчев, при всей их глубочайшей «русскости», европейцы не менее коренные, нежели Гёте, Расин или Шекспир.
У каждого писателя есть понятия, особенно ему близкие, есть слова, которые он произносит по-своему, с особым чувством. Для Вейдле такие слова – культура, Европа, притом Европа не ограниченная географическими очертаниями. Если он готов броситься в бой, «полон чистою любовью, верен сладостной мечте», то именно в бой за культуру. Перебирая великие русские имена, он оживляется, одушевляется при воспоминании о тех, в общении с которыми понятию культуры, в его незыблемо-возвышенном, благородно-уравновешенном значении, никакие передряги и катастрофы не угрожают, – прежде всего, конечно, при упоминании имени Пушкина. Полными вещего смысла представляются ему слова Герцена о петровском «вызове» России, на который она «ответила Пушкиным»…
С Толстым у Вейдле счеты труднее. Он знает, конечно, что из понятия «русской культуры» Толстого никак не выбросишь, но чувствует он и то, что для сохранения в этом понятии нужных ему черт Толстого необходимо ограничить, обезвредить. Поэтому у Вейдле Толстой прежде всего – эпический поэт, русский Гомер, «соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума». В отвлеченном мышлении Толстого настоящей России будто бы маловато, она вся – в его подлинном творчестве. Даже опрощение Толстого – наполовину от его барства… Все это суждения не раз высказывавшиеся, давно знакомые и до крайности спорные. Их неожиданность, даже их неуместность в книге, богатой мыслями оригинальными, объясняется, по-видимому, тем, что при более внимательном отношении к Толстому построение Вейдле оказалось бы в опасности. Позволю себе сказать в связи с этим, что «Смерть Ивана Ильича», например, в развитии русской культуры – явление не менее великое и органическое, этап не менее важный, чем «Медный всадник», и что в «рассудочном схематизме» Толстого, в «хитростях его отрицающего разума» не меньше черт неискоренимо-русских, чем в его патриархально-бытовых панорамах. Но с европеизмом тут, конечно, что-то не в ладу, да не совсем в ладу и с Пушкиным! Критик-фрейдист отметил бы, вероятно, как характернейший «ляпсус», доказывающий рассеянность по отношению к Толстому, ту фразу, где Вейдле утверждает, что «в будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина». Косоворотка Толстого! Никогда Толстой косовороток не носил, и даже смеялся над Стасовым, приехавшим к нему в расшитой шелковой русской рубашке, очевидно по соображениям национально-патриотическим.
Возражений на «Задачу России» можно бы – и помимо Толстого – сделать немало. Но в короткой газетной статье их трудно развить: нужна была бы для этого книга такого же размера. Вейдле нередко сглаживает углы, кое о чем забывает – или умышленно молчит. Говоря, например, о русской интеллигенции, разрушившей былую дворянскую культуру, и утверждая, что «дворяне были одновременно и культурным, и правящим классом», а следовательно не могли быть правительству враждебны, он ни единым словом не упоминает о декабристах: пропуск, очень облегчающий построение схемы. Даже в «Медном всаднике», особенно ему дорогом и нужном, он отмечает только «восторг перед Петром, благословение его делу» и не видит другого, скрытого облика поэмы – темного, двоящегося, отразившего тот ужас перед «державцем полумира», который охватил Пушкина в тридцатых годах, когда он ближе ознакомился с его действиями и личностью.
Особенно долго следовало бы остановиться на том, что Вейдле называет «восприятием античности», т. е. на вопросе о наследстве, полученном Россией через Византию и о нашей связи с древнегреческим миром. Да, кое-что воспринято действительно было, в киевский период это было ясно… Но что было потом, каким Божьим бичом прошлись по нашей земле татары, как знаменателен, как неисчерпаемо-многозначителен тот факт, что нас не коснулось возрождение! Ницше не случайно же сказал о русских, что это – «самый неклассический народ в мире»…
Но пора кончать. А в заключение хотел бы заметить, что те книги и следует ценить, речь о которых по обилию материала и своеобразию его обработки, приходится обрывать на полуслове. Книга Вейдле – несомненно, одна из таких книг, быть же согласным с автором «Задачи России» в каждой его мысли трудно хотя бы уж потому, что мысли эти слишком близко нас, со всем нашим прошлым и будущим, задевают.
Против России
Недавно в Лондоне, в одном из русских кружков, был устроен вечер памяти Достоевского, – вернее, была прочитана о нем лекция. Следовало бы, кстати, отметить удивительный факт: несмотря на то, что русская эмиграция в Лондоне количественно беднее, чем в Париже, собраний, докладов и вечеров там больше. В Париже были годы исключительного оживления, но с войной все это безвозвратно кончилось. Ходасевич когда-то саркастически писал о «многострадальном зале Лас-Каз», где действительно два-три раза в неделю происходили русские сборища, по характеру своему нередко оправдывавшие употребленный Ходасевичем эпитет. Но «иных уж нет, а те далече», эмигрантской столицей сделался Нью-Йорк, а Париж мало-помалу погрузился в спячку, прерываемую лишь случайными толчками. Лондон русским центром, в сущности, никогда не был, для усталости у эмигрантов-лондонцев нет оснований, и они скромно и спокойно делают дело, которое почти оставили парижане.
Итак, в Лондоне была прочитана лекция о Достоевском. Однако сказать несколько слов мне хотелось бы не о самом докладе, а о выступлениях, состоявшихся после перерыва. Некоторые из них заслуживают внимания потому, что за ними чувствовалось нечто общее, поднявшееся из темных, сбитых с толку глубин русского сознания, нечто в наши дни распространенное, настолько знакомое, что, слушая иную речь или читая иную статью, с полуслова знаешь, каковы будут заключения и выводы. По существу ничего нового ни в статьях, ни в речах такого рода нет. Было это, увы, и прежде в России, – только в наше время настроения эти обострились, осмелели, приняли форму вызова, окрасились в какие-то мстительно-торжествующие тона, а иногда имеют и другой вид: измученный, ожесточенно-нервный, как именно и было в Лондоне.
Что сказал незнакомый мне оппонент, – из новых эмигрантов, – крайне недовольный, взволнованный докладом, выступивший с тем, чтобы не оставить в нем камня на камне, и притом с русской литературой, по-видимому, довольно основательно знакомый? Начал он с того, что Достоевский – величина дутая. Людей он будто бы не знал, героев своих с их причудливой и безумной психологией начисто выдумал, и всем его потугам на глубину – грош цена.
Признаюсь, я слушал эту вступительную часть возражения докладчику с любопытством. Не то чтобы утверждения, будто «никаких Раскольниковых в настоящей жизни нет», «я по крайней мере их не встречал», были сами по себе интересны. Нет, нисколько. Заинтересовал меня человек: весь мир признает Достоевского великим писателем, а вот выходит перед аудиторией Иван Иванович или Петр Петрович и, не колеблясь, заявляет, что король-то гол! Какая непоколебимая вера в свою проницательность! Вместо того, чтобы постараться понять, что же люди в Достоевском находят, вместо того, чтобы помолчать, подумать, поискать, вчитаться – небрежное отшвыривание: я не понимаю, следовательно, понимать и нечего!
Однако пока дело касалось того, гениален или бездарен Достоевский, мы оставались в области суждений литературных. Дело пошло иное. «Пора открыто заявить, – с перекошенным от искреннего, о, несомненно, искреннего негодования лицом, и, как это ни странно, с каким-то «достоевским» исступлением в самом складе речи, говорил оратор, – пора наконец признать, что все эти наши прославленные мудрецы и пророки, всякие там Толстые, Достоевские, Некрасовы, Белинские, ничего кроме вреда не принесли. Оттого и сидим мы здесь, на реках Вавилонских, что были у нас Толстые да Белинские! Чем они, в сущности, занимались? Расшатывали русскую государственность, готовили революцию, ждали ее, как царства небесного… Ну, вот и дождались, радуйтесь! А мы здесь по недомыслию своему продолжаем их на все лады славословить! Если был в России писатель, который видел истину и сказал то, что действительно русскому народу надо было услышать, то это Гоголь в “Переписке с друзьями”. Вот об этом великом учителе и следовало бы помнить, а не о разных лже-гениях и лже-мудрецах».
Не ручаюсь, что я вполне точно передал содержание речи. Но общий смысл, дух ее был таков, и в качестве имен, ничего кроме презрения не заслуживающих, были названы именно эти четыре имени: – Толстой, Достоевский, Некрасов и Белинский. Несомненно, монархист и консерватор Достоевский был бы озадачен, узнав, что попал на скамью подсудимых вместе со страстно им ненавидимым Белинским. Но в порыве возмущения наш оратор все валил в одну кучу, да, пожалуй, и в самом деле по взрывчатой сущности своего творчества Достоевский союзником его оказаться бы не мог.
Первую часть выступления я слушал, повторяю, с любопытством. Вторую – с некоторой растерянностью: что ответить? Надо бы начать с таких азов, а затем перейти к таким прописям, что не хватило бы на ответ и двух вечеров. Когда-то Михайловского просили дать статью в защиту свободы слова. Он сказал: «Свобода слова для меня принцип настолько абсолютный, что я забыл, как его надо обосновать… мне гораздо легче было бы написать статью о чем-либо спорном, чем о том, что дважды два четыре». Мне вспомнился Михайловский, когда я слушал о русских отщепенцах – Толстом и Достоевском, Некрасове и Белинском: действительно трудно без подготовки вернуться к духовной азбуке.
В представлении людей такого склада, как данный оратор, главная ответственность за национальные бедствия лежит на Толстом. Тут вместо ответа следовало бы посоветовать прочесть давно вышедшую, замечательную по ясности и убедительности мысли, брошюру Василия Алексеевича Маклакова «Толстой и большевизм». В ней каждое слово верно. В ней навсегда дан урок тем, кто с высоты своего легкомыслия решается Толстого в чем-либо обличать.
Но вдаваться в рассмотрение нужных доводов сейчас я не стану. Отстаивать от слепой вражды великие русские имена ни к чему. Важен не самый факт, что подобные выступления в наше время возможны, важно то, что оно отнюдь не случайно и не исключительно, что это лишь частица некоего эмигрантского (а может быть, и общерусского, пока еще скрытого, – как знать?) целого, что это голос из хора, что за отдельным выступлением видна все растущая, темная волна, грозящая надолго захлестнуть самые дорогие в облике России черты, погасить ее огонь ради душка дубровинского или ждановского (что – с поправкой на историческую перспективу – почти одно и то же).
Не знаю, помнят ли читатели, хотя бы смутно, две мои статьи, помещенные в «Русской мысли» месяца полтора тому назад под названием «После войны», – о понижении культурного уровня в нашей литературе. Политическую сторону вопроса я в них умышленно оставил в стороне, хотя без политики в наше время не обходится ничего, и, хочешь не хочешь, ее вмешательство чувствуется всюду.
Не может быть сомнения, что обскурантизм, на нас надвигающийся, корнями своими уходит в почву политическую, и что советская выучка, та атмосфера, которою люди, в советской России выросшие, в течение долгих лет дышали, осложнившись жестокой, выстраданной ненавистью ко всему в самом общем смысле слова «революционному» – прежде всего к таким понятиям, как «революция», «социализм» и даже «равенство», даже «свобода», – дает сейчас горькие свои плоды. Об этом можно и надо жалеть, этому надо сопротивляться, но тяжкой ошибкой было бы ограничиться иронической усмешкой, означающей, что «это нас не касается»: мы-де люди интеллигентные, культурные, мы храним заветы, чтим традиции – и так далее.
Нет, надо растолковывать, объяснять, давать почувствовать, что если действительно в прошлом великая русская литература была с русской государственностью не в ладу, то вовсе не потому, что была она одержима каким-то нигилистическим и разрушительным сумасшествием. Она думала о человеке, о человеческой личности и ее правах, о том, каково должно быть справедливое общество, о том, чего ищет человеческая душа, и как же понять, что когда Белинский в ответ на «Переписку» Гоголя, – книгу кое в чем глубоко замечательную, но в доброй половине своей и нестерпимо лицемерную, – кричал: «Проповедник кнута, поборник мракобесия, что вы делаете?» – он прав был даже перед тем Богом, которого в своем наносном атеизме отрицал и которому Гоголь усердно молился. В те годы, когда Гоголь свою книгу писал, людей в России продавали и покупали, как вещи: казалось бы, автор «Переписки», только душеспасительными предметами и занятый, должен был бы счесть это чем-то чудовищным и безбожным. Но Гоголь ни единым словом против крепостного права не обмолвился и даже дал понять, что ничего дурного в нем не находит. Да что вспоминать!
Конечно, и Гоголь – одно из наших сокровищ, «умное, странное и больное существо», как сказал о нем Тургенев, и непростительно было от него отречься из-за невозможности во всем с ним согласиться. Ошибки, срывы, заблуждения бывали у всех, но в целом русская литература оттого и вызвала на Западе при знакомстве с ней такое волнение, что несла она с собой полузабытую на Западе моральную тоску, подъем и тревогу. Было, конечно, признание чисто художественное, но было и нравственное молчаливое преклонение перед людьми, мысли которых воспринимались как укор или упрек…
Запад в конце прошлого века узнал Толстого и Достоевского, но если бы познакомился и с тем, что писали Некрасов или Белинский, то нашел бы и у них, под поверхностной пеленой позитивизма и рационализма почти то же самое. Некрасовские рыдающие стихи, имеющие будто бы исключительно «общественное содержание», – гораздо ближе к молитве, чем любая поэма на религиозные темы: они продиктованы истерзанной совестью, они от сомнений и угрызений как бы не находят себе места, и, право, это много важнее, а в особенности много существеннее, чем то, что Некрасов издавал либеральный «Современник» и был на дурном счету у правительства.
Надо бы все-таки, чтобы русские люди поняли, что именно это – настоящая Россия и что было бы самоубийством от нее отрекаться и на нее клеветать. Но еще раз замечу, надо объяснять, растолковывать эти истины, а не считать, что кто их не признает, с тем и говорить не стоит! Незадолго до войны, на каком-то собрании один из ораторов в прениях произнес речь с антисемитскими выпадами. Председательствовавший Бердяев долго хмурился, а потом вскочил и, побледнев, сдавленным шепотом проговорил: «прошу немедленно оставить зал, здесь не чайная союза русского народа!» Реакция Бердяева была в свое время вполне естественна и вызвала шумные одобрения, но не думаю, чтобы теперь правильно было бы ею ограничиться.
В те годы казалось, что это былая, тупая, постылая российская «накипь». Но обстоятельства изменились.
Исторические условия теперь не совсем те же, что были до войны. Из советской России бежали тысячи и тысячи людей, у которых навсегда запечатлен в памяти их ужасный жизненный опыт. Даже и страх далеко еще не полностью ими изжит. Если и принесли они с собой «накипь», то несколько иного рода, другого происхождения. Нет ничего удивительного, что многие из этих людей, в судорожных поисках виновников всего случившегося, договариваются до хулы на лучшее, что Россия дала. Вслед за Розановым они могли бы сказать: «Я не хочу истины, я хочу покоя», и не сознают роковой своей ошибки, не понимают, что меняют одно рабство на другое. Надо быть милосерднее в отношении их, хотя едва ли им слово это понравилось бы: лондонского оратора оно во всяком случае окончательно бы вывело из себя.
Ну, что же, обойдемся без милосердия, без жалости! Дело ведь не в словах, а в том, чтобы уловить некую стихийность поднимающегося ослепления, общие его источники и причины, отсутствие в нем чего-либо индивидуального, и найти в себе достаточно силы, разума и чувства, чтобы помочь людям прозреть. Отвечать возмущением на возмущение бессмысленно, как ни трудно бывает иногда спокойно читать или слушать тот или иной кощунственный бред.









































