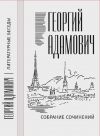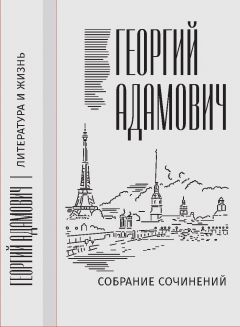
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Несколько слов о «Докторе Живаго»
О Пастернаке и его романе говорить беспристрастно сейчас нелегко, потому что критика «Доктора Живаго» может быть истолкована, как косвенное одобрение безобразной и глупой шумихи, поднятой в Москве, т. е. как «вода на советскую мельницу». Но с этим нельзя считаться. У нас здесь, вне России, есть великое, да в сущности и единственное, сокровище – свобода, и приносить это сокровище в жертву соображениям тактическим было бы ошибкой не менее великой. Здесь мы должны говорить правду, – или по крайней мере то, что каждому из нас кажется правдой, – здесь мы можем себе эту роскошь позволить, а усмехнется ли, например, Шолохов, скажет ли он, что «даже они признали!», большого значения не имеет.
Вынесем же «за скобки» Нобелевскую премию и все, что произошло затем, представим себе, что мы ровно ничего обо всем этом не слышали, отнесемся к «Доктору Живаго», как к книге, никакой сенсации не вызвавшей.
Бесспорно, эта вещь замечательная, если и не в целом, то в отрывках, в отдельных главах, особенно к концу романа, до эпилога. Больше того: вещь эта должна была появиться, должна была быть написана, ибо тема ее будто носилась в воздухе и наше время ее ждало, было «беременно» ею. Ф.А. Степун (в «Новом журнале») в связи с пастернаковским романом вспомнил Достоевского, очень верно, на мой взгляд. Перед лицом всего того, что произошло в мире на наших глазах, после небывалых мучений и мытарств, испытанных в наши дни человеком, нужен был бы именно Достоевский, который один оказался бы в силах найти в ответ верные слова и тон. Достоевскому надо было бы именно в наш век родиться. Надо было бы Ивану Карамазову поговорить с Алешей не о мальчике, разорванном собаками какого-то сумасшедшего генерала, а об ужасах в «планетарном масштабе», будто бы необходимых даже не для финальной гармонии, а всего только для укрепления некоего политического строя. Пастернак – не Достоевский, но тему, от которой у Достоевского камни бы возопияли к небу, он все же уловил. Как это ни удивительно, его больше сравнивали с Толстым, с которым у него решительно ничего общего нет.
В «Докторе Живаго» есть замечательные, надолго запоминающиеся страницы. Но как роман, это произведение далеко не перворазрядное, и не то чтобы с промахами или слабостями, – которые бывают и у гениальных писателей, – а именно в целом. Замечательно в нем лишь то, что относится к области «человеческого документа», к лирическим вздохам и содроганиям в тисках беспощадной эпохи, вообще к мыслям и чувствам, а не к изображению, рассказу или описанию. Позволю себе высказать догадку, что под воздействием горестной и сладостной музыки, которой действительно проникнута книга, многие читатели зажмурили глаза и, убаюканные или взволнованные, оказались не в силах обратить внимание на что-либо другое.
Если бы Пастернак, вместо огромного романа, написал повесть с небольшим количеством лиц и своим несчастным героем в центре, без стремления к широкой, как «Война и мир», панораме, он со своей задачей, надо думать, справился бы. Повесть оказалась бы узкой и глубокой, как и самый его талант. В панораме же, Пастернаком представленной, удивляет – а страниц через двести и перестает удивлять, потому что только этого и ждешь! – механичность построения, наглядность «швов», настойчивое вмешательство автора в сцепление событий. Толстого смущала встреча Наташи с раненым Андреем Болконским после Бородина: ему казалось, что это «немножко как в театре», т. е. что встреча подстроена в соответствии с желательным для автора развитием действия. В «Докторе Живаго» персонажи только и делают, что встречаются, расходятся, друг друга теряют и опять встречаются по мановению волшебного авторского жезла: огромная страна, тысячеверстные расстояния, война, революционная разруха – однако в нужный автору момент нужный человек тут как тут, и подмена действительности «театром» очевидна. Случай царит в романе, но случай, переставший быть «его величеством случаем», по формуле Фридриха Второго, уступивший свои прерогативы автору, – и под конец, – я чуть не написал «под занавес», – даже Лара, уехавшая в Сибирь, появляется в Москве на похоронах Живаго совершенно «случайно». Не жизнь управляет действием, сама не зная, куда она его уведет, а действие укладывает жизнь в свои рамки. Мне, вероятно, возразят, – и об этом уже была речь, в частности писал об этом виднейший американский критик Эдмунд Вильсон, – что «Доктор Живаго» – произведение нового склада и жанра, что учился Пастернак будто бы у Пруста и Джойса, а не у русских классиков, и что былые мерки и требования к нему не применимы. Статьи Вильсона я не читал, знаю о ней только по выдержкам в газетах, но должен признаться, ума не приложу, на чем его соображения основаны и откуда он их взял.
Пастернак действительно был когда-то «модернистом» в условном смысле этого термина. Но от своих прежних литературных пристрастий он и в стихах и в прозе полностью отказался, и сам об этом говорит. «Доктор Живаго» написан на три четверти «по старинке», с каким-то даже передвижническим реализмом в отдельных эпизодах. Ничего «априори» дурного тут, впрочем, нет, – хотя бы потому, что вопрос о художественном методе был, есть и навсегда останется вопросом второстепенным, обманывающим современников своей мнимой значительностью. Теперь, например, на Западе входит в моду «антироман», категорически отвергающий всякую реалистическую правдоподобность в изображении: что же, может и «антиромантическое» повествование оказаться гениальным, как может оказаться и совершенно пустым! Дело ведь в личности автора, в том, чем пишущий одушевлен, в том, что он в свое писание вкладывает, – и достаточно мы насмотрелись школ, течений и всяческих «измов», чтобы больше в этом не сомневаться. Указывают критики и на то, что если пастернаковским персонажам не достает пластичности, – или, говоря проще, если в процессе чтения их забываешь настолько, что встретив то или иное имя, приходится перелистывать уже прочитанные страницы: кто это такой – недостатком романа счесть это нельзя. Нет, это, видите ли, законно, это будто бы результат нового художественного метода. Опять хочется спросить: откуда соображения эти взяты, на чем держатся? Многие лица в романе говорят языком сверхреалистическим, ультра-бытовым, зощенковским, другие выражаются фразами книжными и по-книжному закругленными. Если Лары, в частности, как подлинно живого человеческого образа в книге почти нет, если ее не знаешь, не видишь, – как знаешь Катюшу Маслову, или княжну Мэри, или Эжени Гранде, – то не потому, чтобы Пастернак не пожелал ее индивидуализировать: вовсе нет, – он, например, подчеркивает, что Лара привыкла говорить «не правда ли» и даже над гробом Живаго это «не правда ли» она повторяет. Однако самое строение лариных речей условно-литературно, и особенно в последних, отвлеченных беседах с доктором она «говорит, как пишет», притом, как пишет сам Пастернак. Несколькими страницами дальше появляется бельевщица Татьяна, изъясняющаяся языком донельзя «народным», и кто из них ближе к стилистической правде, остается неясным.
Несколько слов о слоге романа вообще. Было бы придиркой указывать на такие фразы: «Все то время, что они сидели со Свентицким, Лара все время была в зале», или «Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки» (вместо «задворки клиники»). Это пустяки, это могло бы попасться и у очень требовательного стилиста. Написал же Бунин в «Темных аллеях» «они сидели возле друг друга», – и какой педант его за это упрекнет? Но вот предложения в духе такового: «Путем самообразования он овладел всеми предметами в университетском объеме» – Бунин или Зайцев органически написать не могли бы, так как их заранее покоробило бы от словесного оборота, выдержанного в худших мертвящих журналистских традициях. Ни у Чехова, ни у Толстого такой оборот был бы тоже невозможен, как, наверное, не упомянул бы ни Толстой, ни Чехов о «плене чувственного кошмара, от которого вставали дыбом волосы при отрезвлении»[38]38
«Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, только не наш газетный. Если в вашем журнале будет газетный язык, то все пропало» (Письмо Л. Толстого П.И. Бирюкову 1884 года).
[Закрыть]. А если я на подобные фразы обращаю внимание, то отчасти потому, что в предисловии к английскому изданию «Доктора Живаго» переводчики утверждают: «Язык Пастернака обладает жизненностью, может быть единственной в русской литературе» (цитирую по «Н. Р. С.»). Вот ведь до чего можно договориться в чаду восторга! Впрочем, Пастернака трудно обвинять: он, должно быть, ежедневно читает московскую печать, и мало-помалу мог поддаться влиянию ужасающего, по-своему даже величавого, монументального в своей бездарности волапюка, который печать эту заполняет. Язык советских газет – явление невиданное и в сущности тревожное: где его корни в прошлом, что он в себе таит, что он несет? Как способен человек, не превратившись окончательно в истукана, писать, например, о необходимости «планово и развернуто бороться за повышение квалификации работниц удоя» (дословно – из «Правды»)? Тема эта интересная и, если вдуматься, тема сложная. Но от Пастернака она увела бы нас далеко и лучше пока ее оставить.
«Доктор Живаго» пестрит картинами природы. Признаков языкового омертвения в них нет, но зато есть другое – безудержная образность, порой такого рода:
«Гладь реки в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стряпуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога».
Или:
«Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил».
Образы существуют, насколько мне известно, для того, чтобы придать картине особую зрительную убедительность. Но ведь эта стряпуха с жирным перышком в руке ничего общего с рекой и солнцем не имеет, ничуть на них не похожа, ничего к описанию не добавляет! Впечатление создается такое, что, силясь во что бы то ни стало сравнение найти и от поисков устав, Пастернак сравнивает реку с чем попало, лишь бы обойтись без образа. Это тем более удивительно, что доктор-поэт, в данном случае несомненно выражающий мысли автора, очень умно и верно анализирует свои собственные литературные приемы, и будто бы всю жизнь «стремился к стилю незаметному, не привлекающему ничьего внимания», к слогу, «при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким образом они его усваивают». Браво, браво, Юрий Андреевич, – хочется воскликнуть в ответ, – наконец-то слышим мы речь человека, которому опостылели копеечные словесные блестки и метафорические красоты! Но при чем тут тогда стряпуха и яичный белок на снежной поляне? Кстати, поделюсь давно уже одолевающим меня сомнением: после всего, что было о природе сказано, не пора ли оставить ее в покое, не следовало ли бы дать бедняжке отдохнуть, лет пятьдесят, а то и больше, – чтобы потом опять к ней вернуться, с новой свежестью ее ощутить и почувствовать? Беллетристы наши едва ли с этим желанием согласятся, но многим читателям, думаю, оно придется по душе, и вовсе не только таким, которые в романе или повести преимущественно интересуются, кто на ком женился и кто покончил с собой. Довольно природы! А то, пожалуй, писатели дождутся, что, завидев на странице какие-нибудь «косые лучи заходящего солнца» или даже притянутых за волоса «стряпух», мы с нетерпением перевернем страницу, опасаясь, как бы над ней не задремать.
Да, «Доктор Живаго» был бы незабываемой и необыкновенно нужной в наши дни книгой, если бы не все то, чем роман загроможден. Какая сила вдохновения, безнадежности, горечи, сострадания, любви в иные главы его вложена, судить можно потому, что и теперь, в теперешнем виде, он все же в память врезывается прочно и надолго. В памяти остается сияние, которое он излучает. Несчастного доктора жаль, как давно уже никого не было жаль в нашей литературе, и жалость эта в сознании ширится, растет, крепнет, обнимая наконец все то, что сделала с людьми наша эпоха, наш «страшный мир», по Блоку. Он человек слабый, этот скиталец и поэт Юрий Андреевич, он сам знает, что рожден не для действия и даже не для сопротивления. Он связан сердцем с теми былыми русскими мечтателями, о которых говорил Достоевский в пушкинской речи, да, пожалуй, и с длинной галереей «лишних людей», только в России и возможных. А что могло сделать с таким человеком «бесчеловечное владычество выдумки», – по чрезвычайно меткому блестящему определению Пастернака, – т. е. выдумки, которая насилует жизнь в угоду схемам, выдумки, поверившей в верховенство статистических принципов, выдумки, оперирующей «классами», будто только «класс» и есть живое существо, – об этом рассказано или, вернее, это показано, в «Докторе Живаго», как нигде прежде. «Обвинение веку» – по формуле Стрельникова перед смертью. Но сам-то Пастернак этим не ограничивается, он идет дальше. Что революция со всей хлынувшей в пробитые ею бреши грубостью и жестокостью! Революция – эпизод, а мир-то вообще скудеет, черствеет, дичает, и не случайно Лара говорит: «Мы с тобой – последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет, и в память этих исчезнувших чудес мы и дышим, и плачем, и любим, и держимся друг за друга, и друг к другу льнем». Это почти как у Фета: «И в ночь идет, и плачет уходя…». Именно в этой боли, кажется мне, в этой тоске, – о чем? в сущности, о любви и о бессмертии – и страхе перед их возможным крушением – тема книги, как и источник ее христиански-страдальческого дребезжания: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». Да, именно в этом. Но набрел Пастернак на эту тему, или, во всяком случае, по-настоящему ее развил и углубил лишь к концу повествования, а первая его половина, и даже больше половины представляет собою, увы, довольно-таки обычную «литературу», среднезанимательное чтение. Мысли Живаго всегда интересны, но к ним необходима оговорка: это мысли характерно «декадентские», из разряда тех расплывчатых, прихотливых и как будто не совсем твердо проверенных соображений, которые были у нас распространены в некоторых кружках предреволюционной интеллигенции, да и после революции держались довольно долго, еще в двадцатых годах проникая в печать. Это мысли человека, который мог дружить с Андреем Белым и бывал на «башне» у Вячеслава Иванова, мысли «серебряного» века русской культуры, не «золотого», неизмеримо более сдержанного.
Что-то слишком наивен наш бедный доктор, слишком они оба с Ларой словоохотливы в своих шатких гаданиях или мистико-исторических импровизациях, чтобы действительно оказаться через голову нескольких поколений собеседниками Пушкина и Толстого.
Пора кончать, а сказать хотелось бы еще многое, пожалуй тоже в порядке «словоохотливости», – в частности, о том, что ужасаясь, и совершенно правильно, даже праведно ужасаясь «бесчеловечному владычеству выдумки», Пастернак все же не прав, противопоставляя всякому стремлению организовать и упорядочить жизнь ее первобытное состояние, будто бы райски блаженное. Но это тоже особая и большая тема, о ней и разговор должен быть особый.
Если бы требовались еще доказательства, что мы живем в годы, когда страсти и пристрастия сбивают людей с толку и заставляют их утверждать вздор или ложь, то «Доктор Живаго» явился как раз вовремя. Я не касаюсь значения того факта, что такая книга могла быть написана в советской России, но сравниваю ее с теми плоскими социал-реалистическими изделиями, которыми пытается гордиться Москва, не делаю выводов: говорю я лишь об отзывах и откликах, которые пастернаковский роман вызвал «как таковой», вне соображений политических. С одной стороны – неумеренные, чуть ли не коленопреклоненные восторги, не сомневаюсь – искренние, однако наводящие на мысль о каком-то коллективном гипнозе. С другой – брань и заявления вроде того, которое в Лондоне сделал Шолохов, все-таки настоящий же писатель, по-настоящему талантливый человек: «не роман, а чепуха и бестолочь». Для будущих психологов или историков «дело о Пастернаке» окажется предметом долгих размышлений и ценным свидетельством о смутном состоянии умов в наше смутное время.
Младое племя
У меня нет основания, нет и большого желания вмешиваться в спор, поднявшийся вокруг статьи Ю.П. Денике «Племя младое, незнакомое». Спор это слишком эмоциональный, чтобы доводам могла быть отведена решающая роль, да к тому же это и спор типично русский: каждый одушевлен в нем не столько стремлением к выяснению истины, сколько желанием посрамить противника. У французов, может быть, и в самом деле «du choc des opinions jaillit la vérité», но у нас, в наших русских столкновениях, это, увы, случается редко.
С советскими молодыми людьми я не встречался, непосредственных впечатлений от них у меня нет. Но по мере сил и свободного времени следя за советской печатью, стараясь понять, что в ней отражено, а что скорей искажено, я хотел бы сказать несколько слов о колебаниях, недоумениях и внутренней раздвоенности этого «младого племени». Не могу, однако, обойтись без короткого отступления.
Что, собственно говоря, сделал Ю.П. Денике? Поделился интереснейшими наблюдениями и соображениями, не предрешая того, согласуются ли они со взглядами, в эмиграции господствующими. Ему возражают – и возражают не потому чтобы наблюдения и соображения его были заведомо ложны, а потому что они противоречат установившимся взглядам: факты при этом не обусловливают выводов, а наоборот, подгоняются к выводам, заранее признанным незыблемыми, и оценка им дается лишь «постольку-поскольку». Крайне любопытна в психологическом отношении, например, заметка г. И. С.-Т., недавно появившаяся в «Русской мысли».
«Для чего же мы устраиваем Дни непримиримости?» – не без запальчивости спрашивает г. И. С.-Т.
Ход мысли ясен, как в классическом силлогизме: устраивать Дни непримиримости необходимо, – если Денике прав, устраивать их было бы ни к чему, – следовательно, Денике не прав.
Еще раз скажу: я не вмешиваюсь в самый спор, противоречивый, требующий внимания, полнейшей «честности с собой» и многих дополнительных данных. Кое-что добавить к статье Денике, отчасти в вопросительной форме, действительно следовало бы. Но нельзя спорить так, как спорит г. И. С.-Т. Что для нас всего важнее, всего нужнее? Узнать и понять, что происходит в России, куда Россия идет, а вовсе не доказать, что эмиграция была и остается во всем права. Никаких предпосылок, в качестве аксиомы пересмотру не подлежащих, в вопросе этом быть не может, и самое убеждение в нашей правоте (пусть и с немалой долей попутных оплошностей и ошибок) станет тем тверже, чем охотнее и свободнее мы его подвергнем каждому вновь возникающему испытанию.
Об этом без устали, в течение тридцати – сорока лет, писала покойная Е.Д. Кускова, человек с открытым умом. Но за эти тридцать – сорок лет ей и немало крови испортили люди, склонные вслед за Гегелем воскликнуть: «тем хуже для фактов!»
______
Нет сомнения, что молодежь и ее настроения возбуждают в СССР все больше внимания и беспокойства. До известной степени, впрочем, это явление общее, и считать его исключительно или специфически-советским было бы ошибочно: на Западе тоже многие, очень многие «отцы» силятся понять, отчего «дети» отвергают, то гневно, то с пренебрежительной насмешливостью, почти все, что им, «отцам», представлялось чуть ли не священным. Это – явление общее, за которым две войны, в особенности вторая, небывало страшная война, окончательно поколебавшая в бесчисленных юных сознаниях веру в духовный прогресс и неуклонное совершенствование человека. Война не могла не возбудить в них вопроса «зачем?», «во имя чего?», вопроса, обращенного притом не к отдельным фактам, а ко всему существованию, в тех его социальных и политических формах, которые к катастрофе привели.
Но в советской России молодежь далеко не схожа с молодежью западной, да и, при коренных различиях в бытовых условиях, могло ли это быть иначе? По-видимому, глухой, упорный протест ее обращен преимущественно против того, что можно бы назвать «регламентацией» жизни, а внушен этот протест естественным, прорвавшимся наконец стремлением всякого человека к праву делать с собой и со своей жизнью, что каждому хочется. Социологи и философы большей частью утверждают, что истинная свобода – вовсе не в возможности жить на свой лад и вкус, ни с чем не считаясь, что это обывательское ее понимание. Допустим, что теоретически они правы. Но в каждом человеке дремлет обыватель, а в России он слишком долго принужден был притворяться непробудно уснувшим, чтобы не стремиться наверстать упущенное.
Новые молодые люди – не контрреволюционеры, не убежденные враги режима. Нет, по самому наличью в них некоторой доли «обывательщины», они едва ли думают о борьбе. Каждый из них в отдельности может быть даже и бодр, и энергичен, но в массе, в целом они представляют собой поколение усталое, пресыщенное трудами и лишениями поколений предыдущих, поколение, которому хотелось бы сказать своим непрошеным опекунам и руководителям: оставьте нас наконец в покое! Обывательщина – слово презрительное, почти что бранное. Но ее возрождение в России основано, очевидно, на чувстве того, что жить человеку дано лишь один раз. Работать? Что же, работать советская молодежь согласна. Согласна, пожалуй, и с тем, что «кто не работает, тот не ест». Но работать до изнурения ради проблематического счастья будущих поколений, непрерывно жертвовать собой ради того, что все еще не настает, потворствовать возвеличению всего, к чему направлен труд, и более или менее откровенному пренебрежению тем, чем порой бывает отдых, словом искренне признать личным идеалом тот суровый государственный идеал, который в России господствует, нет, тут молодежь колеблется…
Всякий следящий за советской литературой знает, как много было в ней за последнее время свидетельств о таких настроениях. Правда, рядом по-прежнему попадаются и панегирики тем, кто отправился на какую-нибудь целину и там, на целине, обрел смысл жизни, понял, что такое счастье и долг. Правда и то, что обличительные филиппики раздаются преимущественно по адресу всякого рода «ревизионистов», а ирония направлена на «стиляг», которые, щеголяя особенно ярким галстуком или нацепив другую «загранку» (т. е. заграничную вещь), причисляют себя к существам высшего порядка. Но пробивается и тревога общая.
«Коммунизм, коммунизм, коммунизм! А где он, этот коммунизм? Сколько еще ждать его? Какие еще новые жертвы надо принести, чтобы увидеть, наконец, какой он есть, этот коммунизм».
Это говорит один из героев повести А. Эрлиха «Молодые люди», довольно мало замечательной в качестве произведения художественного, но очень интересной по материалу. Благонамеренных московских критиков удивляет и раздражает, что подобные настроения находят иногда поддержку со стороны старших. Родители считают, что если им на долю выпали только лишения и невзгоды, то терпели они их для того, чтобы дети пользовались плодами их трудов.
«Часть старшего поколения воспитывает у молодежи некоммунистическое отношение к труду, стремление к легкой жизни, желание войти в жизнь с черного хода» («Октябрь», № 9, статья «В человеке должно быть все прекрасно»).
Но молодежи не только хочется более легкой жизни и большей независимости от государственного контроля. Она вообще менее пассивна, чем были ее отцы, теперь начинающие ей сочувствовать. У нее обострилось чутье, обострилось нетерпение ко лжи, к условностям, к коммунистической схоластике, к тому, что Пастернак в своем романе так метко назвал «бесчеловечным владычеством выдумки». Особенно к каждодневным проявлениям этой выдумки. Совершенно ясно, что «стиляги» с их пестрыми галстуками, с инстинктивным любопытством к «рок’н роллу» или абстрактной живописи, или даже с подражанием дикарскому племени «мюмбо-юмбо», именно этим пресыщением и взращены. Это, может быть, и уродливое явление, но это не явление случайное, – и за ним таится то же чувство: оставьте нас в покое! Есть черта, переступать которую опасно, есть предел требованиям и ответным усилиям: очевидно, в России за сорок лет мера человеческой выносливости оказалась превышена, и теперь это дает себя знать.
В тех же «Молодых людях» один из студентов, человек не глупый, говорит: «Ребятам осточертели всякие благородные, распрекрасные словеса, они сыты по горло, до отвращения и тошноты этой театральной и благонамеренной декламацией».
Кстати, он же, в ответ на выговоры и наставления о том, как должен вести себя «идеологически выдержанный» комсомолец, иронически восклицает:
– Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.
Признаюсь, меня лично эти слова поразили и даже обрадовали. В самом деле, сколько раз, читая в «Правде» и в «Известиях» об этих «аплодисментах, переходящих в овацию», абсолютно обязательных после каждого выступления Сталина, сколько раз приходилось думать: неужели они там не понимают, не чувствуют, как это фальшиво и глупо? Оказывается, понимали и чувствовали. Значит, понимают, чувствуют и многое другое.
Всякое политическое предсказание шатко и по существу опрометчиво. Достаточно вспомнить, что утверждали иные умнейшие люди, – Тютчев, Достоевский и другие, – чтобы отпала к пророчествам охота. Обычно из тысячи почти неуловимых слагаемых и данных избирается одно, на котором предсказание и строится. А история идет каким ей угодно путем и с упрощенными схемами не считается.
Однако наблюдения и размышления о новой советской молодежи сами собой приводят к мысли, что если установившийся в России строй когда-нибудь рухнет, то именно под ее давлением. Лет через десять – пятнадцать это поколение займет «командные» места. Власть, правда, развращает, но ее тлетворное воздействие не может распространиться широко. Молодежь в зрелые годы останется в большинстве своем верна тому, что одушевляет ее сейчас, – и крепость развалится, тиранический идеал померкнет, «бесчеловечное владычество выдумки» утратит силу.
Казалось бы, так… Но не будем себя обманывать.
У режима есть защита, есть противоядие от того, что он обзывает «обывательщиной», есть внутренняя поддержка. Настроениями, только что бегло описанными, ни в коем случае не исчерпывается то, чем молодежь в России сейчас живет. С тягой к независимости сталкивается и кое-что другое и из столкновения порой выходит победителем. Несомненно, молодежь сейчас духовно раздвоена, и раздвоение это не только разбивает ее на отталкивающиеся одна от другой группы, но и закрадывается в индивидуальные сознания.
Как убедился Денике, многие советские молодые люди сейчас гордятся успехами, достигнутыми их страной, и – скажу от себя – чувство это, должно быть, не менее заразительно, чем пресыщение. Никогда еще Россия не играла в международных отношениях такой значительной роли, как в наши годы, никогда не была державой столь бесспорно «великой» по своему влиянию: исключение в истории, пожалуй, только одно – эпоха Венского конгресса. Никогда у нее не было такой тяжелой промышленности, не было заводов, успешно соперничающих с западными, не было техники, вызывающей на Западе почтительное изумление. Одни лунники чего стоят, и как могли бы от этих лунников не кружиться юные советские головы! Мы – первые, мы – Колумбы межпланетных пространств, мы – пионеры вселенной! Есть, правда, что-то детское в стремлении «догнать и перегнать» Америку во всех решительно областях, поскольку внушено это стремление не столько практическими возможностями и результатами, сколько чисто спортивным азартом. От того, кто, например, первый сфотографирует невидимую сторону луны, практической пользы не очень много. Но самолюбие польщено, энтузиазм вспыхнул, и головы восторженно кружатся при мысли о безграничных дальнейших победах.
Какой ценой все это куплено? Да, об этом молодежь, вероятно, помнит, но, вероятно, случается ей и думать, что игра стоит свеч. Не может же она не понимать, что не будь вся народная энергия тиранически сплочена в нечто цельное и обращена к успехам и мощи государства, не было бы достигнуто в столь короткий срок и малой доли теперешних результатов! Ренан когда-то писал, что лучшее государство то, существования которого граждане не чувствуют и не замечают, – и западные демократии, в сущности, к такому идеалу и шли. В таком идеале много притягательной силы, много человечности и глубокой духовной правды. Но состязаться с неистовым и неукротимым строем, в котором, наоборот, каждое отдельное действие каждого отдельного человека, хочет он того или не хочет, устремлено к общегосударственным целям, при ренановском идеале трудновато. На Западе жизнь легче и вольнее, советские главари это прекрасно знают и оттого не очень охотно советских граждан на Запад отпускают, оттого же и поддерживают лживую уверенность, будто девять десятых западного населения бьется в тисках ужасающих «социальных противоречий». Они, советские главари, знают, что если бы поставить вопрос откровенно и спросить: чего вы хотите, личного довольства и благополучия или общего торжества при условии, что одно с другим несовместимо, то большинство высказалось бы за блага личные. Иллюзии, ложные сведения о тяжести и трудности западной жизни распространены в СССР чрезвычайно широко, держатся очень прочно и все недавно в России побывавшие это подтверждают.
Власть, по-видимому, боится риска, связанного с правдивым освещением дела, и по-своему, т. е. со своей точки зрения, она права. Ей необходимо внушить убеждение, что если жить одинаково трудно везде, то у нас, в СССР, есть, по крайней мере, великий общегосударственный замысел, есть цель, и в качестве приманки она выставляет свои рекорды до полетов на Луну включительно. Психологически это игра верная, даже, пожалуй, единственно удерживающая от развала и неизбежного в конце концов реванша «обывательщины». Она вносит сомнение, она ослабляет сопротивление, выбивает из-под него почву. Примеров, ссылок можно было бы дать множество. Назову хотя бы Евтушенко, поэта фрондирующего, своевольного, не раз вызывавшего подозрения, который в последних своих стихах пишет:
Гордимся мы всем тем, что вместе выстроили. Всем государством нашим молодым…
И, наверное, такие строки встречают сочувствие. Именно поэтому теперешняя советская молодежь представляет собой в целом явление сложное и двоящееся. Никаких точных и стройных выводов из наблюдений над ней сделать пока нельзя. А будет ли это когда-нибудь возможно, и если будет, то когда, не знает никто.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?