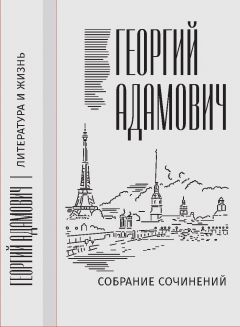
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Древняя Россия
Название книги Ю.Л. Сазоновой – «История русской литературы. Древний период» – может отпугнуть читателя «рядового», малосклонного к тому, чтобы снова чему-либо учиться или вспоминать полузабытые имена, годы, события, содержание словесных памятников.
Это и в самом деле история, т. е. прежде всего школьное руководство. Но написана книга с такой непосредственностью и с таким увлечением, что с первых же страниц забываешь о ее образовательных целях и с головой уходишь в мир далекий и вместе с тем близкий, мертвый и живой, таинственно глубокий, неисчерпаемо богатый.
Среди появившихся в печати отзывов о книге Сазоновой были статьи, где преимущественно отмечались неточности и отдельные мелкие ошибки, допущенные автором. Не будем спорить, неточности указаны были верно (хотя и с явно преувеличенной настойчивостью, а порой и раздражением). Но ошибки можно исправить, – поставив, например, в ближайших изданиях вместо одной даты другую, – а вот проникновения в дух прошлого, способности уловить связь между прошлым и настоящим, т. е. всего, что отсутствует в иных солидных и внешне безупречных руководствах, этого-то ничем заменить было бы нельзя! И это – главное, чем книга Сазоновой прельщает и подкупает. Ключевский говорил о некоторых своих учениках: «мало знать, надо понимать». Сазонова во всяком случае «понимает», чувствует, умело и чутко догадывается, безошибочно взвешивает и оценивает, да и «знает» слишком много, чтобы те или иные погрешности в изложении можно было приписать чему-либо, кроме рассеянности. Тысячи, тысячи сведений, фактов, чисел, имен, – и, право, при сколько-нибудь справедливом отношении к делу никак нельзя свести на нет ценность прекрасной книги из-за того, скажем, что Мамай умер не в том году, который в ней указан.
Книга полна мысли и в ответ, как говорится, будит мысль. Внушена, вдохновлена она сознанием единства русской литературы, и вовсе не по какому-либо капризу беспрестанно переходит автор от древних памятников к писателям новейшим, вплоть до Гумилева и других: преемственность, связь, верность русскому духу – тема Сазоновой, а изложение должно в ее представлении стать развитием этой темы, ее утверждением и иллюстрацией.
«Русская литература родилась в монашеской келье, в младенчестве носила рясу черноризца, в отрочестве облачилась в латы воина. Этим в значительной степени объясняются ее судьбы».
«То, что русская литература родилась в монастыре, и что первым ее служителем был отрекшийся от мира отшельник, наложило неизгладимую печать на весь позднейший облик русского писателя, которому вменялось в обязанность быть подвижником…»
«С первых строк темою русской литературы были национальные нужды, вопросы будущего, “печалование” о Руси, стремление указать правильный путь… Такое понимание целей художественного изображения сохранилось на протяжении веков… Источником заветов русской литературы, служивших мерилом значения писателя, была монастырская келья с ее строгим отношением к правде».
Все это непререкаемо верно, а если подчас, при новых веяниях, эти истины и кажутся устарелыми, отжившими, требующими пересмотра, то полезно уйти в глубь веков, и, взглянув оттуда на все длительное развитие нашей словесности, убедиться в ее цельности и даже больше: в особом, действительно «подвижническом» ее характере. Правда, относится это только к вершинам ее. Но не по вершинам ли надо о творческих явлениях и судить? Несомненно, от древних летописцев, как утверждает Сазонова, тянется к Гоголю, Толстому или Достоевскому прямая соединительная нить. Ну, а если – скажу от себя, – писания Икса или Игрека с этой линией не вполне совпадают, то тем хуже для них: большого значения это не имеет!
Нет возможности остановиться на отдельных главах книги Сазоновой, хотя в каждой достаточно содержания, чтобы сделать это стоило. Стоило бы поговорить особо о песнях, о проповедях, а тем более о «Слове о полку Игореве», несравненная поэтическая прелесть которого, пробиваясь сквозь трудный по составу язык, может служить для русского человека оселком: глух он к поэзии или нет? О житиях, о сказаниях, об Иосифе Волоцком и его противнике Ниле Сорском, одном из великих общерусских учителей, о многом другом.
Основное впечатление, не новое, в сущности, и ничуть не неожиданное, но при чтении усиливающееся с каждой главой: сколько боли в русской истории, сколько в ней страдания и грусти! Пожалуй, и другие народы могли бы сказать о себе то же самое: в самом деле, дорогой ценой оплатило и оплачивает до сих пор человечество путь свой к тому, что мы называем «цветением цивилизации». Но у русской истории свой тон, своя окраска и привкус, да и судьба у России особая, иная. Одна из цитат, приведенных в книге Сазоновой, меня поразила, и не сомневаюсь, поразит и даже взволнует многих читателей, как отклик «из глубины веков» на их приглушенные, притупившиеся от времени мысли и чувства, как что-то сказанное чуть ли не вчера, после долгих скитаний, воспоминаний, надежд, недоумений, обид, после всего, что пришлось русским эмигрантам испытать, и что все-таки не превратило их в Иванов-непомнящих. А написаны эти строки в пятнадцатом веке, Афанасием Никитиным, путешественником, побывавшим в Турции, Индии и других далеких странах:
«Турецкая земля очень обильна. В Волошской земле также обильно и дешево все съестное. Обильна всем и Подольская земля… А Русскую землю Бог да сохранит! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет земли подобной ей, хотя бояре Русской земли не добры. Но да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! О Боже, Боже, Боже, Боже, Боже!»
Нечего к таким словам добавить. Но раз прочитав, нельзя их и забыть.
* * *
Переходя к вопросам совсем иного порядка, должен заметить, что некоторые утверждения Сазоновой представляются мне довольно спорными. В частности, ее замечания о Киеве и том периоде киевской культуры, который она определяет, как «русский Ренессанс».
Сазонова не только приписывает ему такое же значение, как Возрождению итальянскому, но даже склонна отдать ему предпочтение. Не Рим, а Греция вдохнула жизнь в русскую цивилизацию. Платон, Эсхил, Софокл стояли у ее колыбели. Именно тем, что киевская Русь явилась духовной преемницей Эллады, и следует будто бы объяснить, что позднейший, французский классицизм – у нас называвшийся ложноклассицизмом, – не мог привиться в России. Что в самом деле могли дать Корнель и Расин народу, хранившему память о первоисточнике всей европейской культуры, и еще дышавшему афинским животворящим воздухом! Да, – указывает Сазонова, – татарское иго было страшной катастрофой, надолго отбросившей Россию назад. Но связь окончательно нарушена не была.
Нет ли здесь натяжки? Тема исторически сложна, в двух словах о ней, разумеется, ничего не скажешь. Спросим себя, однако: был ли действительно в России когда-либо Ренессанс и уместен ли этот термин в применении к византийски-киевскому знакомству или даже увлечению древней эллинской литературой, мудростью, просвещением? Где в нашей истории Возрождение, именно воз-рождение, т. е. не преемственность, а восстановление чего-то забытого, возвращение к дорогому, утраченному прошлому?
Чем было Возрождение итальянское? Прежде всего – вспышкой света, радости, пробуждением от долгого сна, вновь обретенным ощущением безгрешности мира, каким-то утром культуры, проникнутым утренней бодростью и головокружительно-безбрежным вдохновением. Да, совершенно верно, средневековье вовсе не было эпохой сплошного мрака и грубости, и прежние невежественные представления о нем давно пора оставить. «Le moyen Age énorme et délicat», – хорошо сказал о нем Верлен. Была в Средние века напряженнейшая духовная жизнь, было все то, что навсегда запечатлено в дивных, рвущихся ввысь средневековых соборах и не менее дивных сказаниях, легендах, наконец – в великом историческом явлении крестовых походов.
Но душа человека двоится. Ее тянет ввысь, но держит ее и земля, со всей упоительной прелестью и сладостью земного существования. Возрождение несло в себе, несло с собой оправдание того, что казалось навеки осуждено, отвергнуто, как нечто бесовское, удрученное тяжестью первородного греха, – и конечно, оно должно было возникнуть именно в Италии, где само небо в своей сияющей синеве как бы свидетельствовало, что жить стоит, что не может человек думать только о бренности земного существования и о смерти, что если мир создан Богом, то в нем и до сих пор «все добро зело»… В киевской Руси не было долгих веков забвения и не могло быть поэтому и счастья находки, узнавания, восстановления. Кстати, у Буркхардта в знаменитой его книги о Возрождении, – одной из любимых книг Ницше, – есть рассказ о находке чисто материальной, физической, и о том волнении, которое она в Италии возбудила. Найдена была гробница с чудесно сохранившимся трупом молодой римлянки: люди склонялись над ней в молитвенном благоговении, именно потому, что это была римлянка, женщина, которая, может быть, видела Вергилия или – как знать? – беседовала с Цицероном. Для них это было видение из потерянного рая, осколок мира, где в первый и единственный раз человек был полностью человеком. Ничего подобного не могло бы возникнуть в киевской Руси, оттого и отклики нашего мнимого Ренессанса были слабее, независимо от татар.
А Корнель и Расин… Но ведь вовсе не только в России и для русских они были не классиками, а псевдоклассиками, и не только Лев Толстой утверждал, что это «поэтическая язва на теле Европы», не только Пушкин считал, что в «Федре», кроме прекрасных стихов, ровно ничего нет! В Германии, в Англии было распространено то же мнение, и высказаны были оценки еще более резкие. Едва ли, значит, отталкивание от французского классицизма следует приписать преобладанию влияний греческих.
Спорить, однако, можно до бесконечности. Скажу в заключение, что соглашаясь или не соглашаясь с автором, отрадно читать книгу, очень богатую содержанием и заставляющую думать о предметах по-настоящему интересных и до сих пор существенных.
«Весть» – стихи поэта
В сборнике стихов Александра Гингера всего двенадцать стихотворений, а помечен он годами 1939–1955. Это сначала удивляет: меньше чем по одному стихотворению за год. К такой скупости, к такой осмотрительности наши современные поэты нас не приучили, – наоборот, большинство из них могло бы выпускать книжку за книжкой, будь для этого издательства и средства.
Нельзя, однако, считать расточительность дарования признаком его богатства и силы. Дело скорей в творческом методе, в отношении к самому себе, в общем взгляде на поэзию. Двенадцать стихотворений Гингера, почти без единого исключения – стихи замечательные, внутренне сжатые, живущие каждое самостоятельной жизнью, и не случайно при чтении их вспоминается то, что Фет когда-то сказал о маленькой книжке Тютчева: «томов премногих тяжелей». Конечно, по теперешним меркам упоминание о «томах» должно показаться преувеличенным: кто же выпускает теперь «тома» стихов? Но мастерства и своеобразия у Гингера действительно больше, чем во многих сборниках, где на первый, поверхностный взгляд благодатно-легкое вдохновение льется через край.
Не думаю, чтобы стихи Гингера стали когда-нибудь широко популярны. Вероятно, и сам он на это не рассчитывает, да судя по всему складу его поэзии, он этим и мало озабочен. Стихи его не то что трудны, нет: особого умственного усилия, или того, что Вячеслав Иванов называл «поэтическим со-творчеством», они не требуют. Но, несомненно, в основе их лежит возбуждение словесное, или на крайность ритмическое, а не какое-либо чувство, со словом не связанное, т. е. возникли они из сочетания звуков, а не из внезапно нахлынувшей грусти или радости, которую поэт затем иллюстрирует образами. «Дьявольская разница», можно было бы в данном случае процитировать Пушкина. Придутся по душе стихи Гингера преимущественно тем, кто оценит самый словесный состав их, оригинальную, крепкую и органически-убедительную материальную их сущность, и лишь после этого полюбопытствует, каким отношением к миру и жизни они внушены. Добавлю сразу, что ничего общего с фокусничанием, с пустой, выхолощенной виртуозностью стихи Гингера не имеют. В них есть то, что мы называем содержанием – и что иначе назвать и нельзя. Но это содержание не декларативно, не голословно, а претворено в самой плоти поэзии и от нее неотделимо.
Есть в истории французской литературы известный рассказ, в сущности – полу-анекдот, однако полный смысла. Дега, знаменитый художник, писал стихи, но не Бог весть какие, и, сознавая это, жаловался Малларме: «не удаются мне стихи… а ведь идей у меня не мало!» Малларме ответил: «Бедный друг мой, дело в том, что для стихов нужны не идеи, а слова». Пожалуй, Малларме тут чрезмерно заострил свою мысль и нарушил манящее, как идеал, равновесие: совсем без «идей» и всего, что с «идеями» связано, подлинной поэзии быть не может, и он сам дал этому пример. Но если понять его мысль как указание, что слова нужны прежде всего, – подобно телу, необходимому для всего живого, – он был совершенно прав. Равновесие, разумеется, достигается крайне редко. У нас, за всю историю нашей поэзии, достигал его, в сущности, один только Пушкин, и кстати, не на этом ли держится преимущественно та его «гармония», о которой за сто лет было столько досужей и высокопарной болтовни? Не в этом ли и объяснение того, что Пушкин непереводим и в переводах действительно делается «плоским», как говорил Флобер Тургеневу. Другие наши основные поэты – Лермонтов, Тютчев, Некрасов и немного в стороне застывший в своей горестной задумчивости Баратынский, – менее совершенны именно в этом смысле, хотя каждый из этих «сыновей дисгармонии» велик по-своему.
Но это – разговор общий, разговор долгий, если только позволить себе им увлечься. Отрадно, однако, иметь дело с поэтом, который к таким общим соображениям уводит и дает к ним основание. Стихи Гингера в высшей степени «литературны» и далеки от фетовского стремления «сказаться без слов». На дневник или на исповедь они не похожи нисколько. Сердечных излияний в них не найти. Они не продолжают одно другое, а каждое само собой ограничено и в себе закончено. В них чувствуется стоическое сопротивление тому разложению искусства, тому пренебрежению к его установившимся формам ради каких-то высших, прекрасных, но почти неуловимых целей, которое так характерно для наших дней. Пишу я об этом не в похвалу Гингеру, как и не в осуждение тем, кто склонен в поэзии к другой линии: в данном случае я лишь «констатирую факт», а если Гингер похвалы и заслуживает, то не по самой своей творческой позе (т. е. «аттитюд»), а по твердости, спокойному достоинству и мужеству, которые в каждой его строчке отражены и поэтически воплощены. Всякая поза допустима, всякая может оказаться законной, и решающее значение имеет не первоначальный выбор, а конечное его оправдание.
В пояснение мне хотелось бы добавить, что стихи Гингера, вероятно, очень понравились бы Гумилеву (и наоборот, – и это чрезвычайно характерно! – едва ли понравились бы Блоку). Может быть, Гумилева удивил бы несколько архаический, с реминисценциями из Державина, стиль Гингера. Но самую суть его поэзии, духовный склад ее он, ненавидевший всякую сентиментальность, малейшее «ковыряние в самом себе», говоря словами Конст. Леонтьева (считавшего это занятье «досаднейшей русской особенностью»), приветствовал и одобрил бы.
Архаизмы Гингера – едва ли явление случайное. Когда-то он, вместе с покойным Поплавским увлекался течениями футуристическими, но не в пример Поплавскому воспринял от футуризма отталкивание от романтической мечтательности, чувствительности и простодушных жалоб на жизненные невзгоды. С годами это усложнилось. Представление о творчестве нашло поддержку в общем «мироощущении» поэта. Опыт подсказал, что обычный «строгий» стих, хваленый «кованый» ямб, на брюсовский лад, и все прочее в том же роде – в большинстве случаев псевдострогость, псевдокованность, готовая превратиться в труху при малейшем дуновении свежего ветерка. Отсюда, вероятно, и возникла стилистическая тяга к восемнадцатому веку, тем более естественная, что духовной цельности, Гингеру близкой и нужной, в смятениях и смущениях века девятнадцатого никак было не найти, – ну а подражать Пушкину… не знаю, как кончить фразу, не обижая людей, которые тешат себя иллюзией, что они по пушкинскому пути идут: на деле это занятие, может быть, и невинное, но к поэзии имеющее мало отношения. Пушкину подражать, а в особенности Пушкина продолжать нельзя иначе как «изнутри», и может это привести, пожалуй, к тому, что стихи, написанные в другую эпоху, окажутся с формальной точки зрения на пушкинские нисколько не похожи.
В моем изложении, в той характеристике, которую я пытаюсь Гингеру дать, поэзия его рискует показаться напыщенной и, чего доброго, слегка дубоватой. Нет затеи более тщетной, чем характеристика поэта, чем пересказ его стихов «своими словами», и давно уже я пришел к убеждению, что самое большее, чего может критик достичь, это внушить желание прочесть книгу, о которой он пишет. У Гингера много фантазии и непосредственности, при общем торжественном, подчеркнуто «высоком», так сказать антибудничном, антикомнатном, антиобывательском складе его стихов. Некоторые его строчки не могут не вызвать ответной, – не насмешливой, а сочувственной, – улыбки, – как, например, в «Факеле», где он предполагает, что ему придется
…покинуть рано
Этот глупый, но приятный свет.
Но полностью я приведу другое стихотворение, «пьесу», как любил говорить Ходасевич, давшую название всей книге, – «Весть». Она типична для Гингера, и в замысле своем касается темы простой и загадочной – сущности поэтического творчества.
Ознобов и бессонниц тайных
Нас утомляет череда
Сцепленьем слов необычайных,
Не оставляющих следа.
Средь ночи добровольно пленной,
При поощреньи щедрой тьмы,
Мы пишем письма всей вселенной,
Живым и мертвым пишем мы.
Мы пишем, как жених невесте,
Нам перебоев не унять,
Чужим и дальним шлем мы вести
О том, чего нельзя понять.
Мы прокричим, но не услышат,
Не вспыхнут и не возгорят,
Ответных писем не напишут
И с нами не заговорят.
Тогда о чем же ты хлопочешь,
Тонический отживший звон,
Зачем поешь, чего ты хочешь,
Куда из сердца рвешься вон?
В последнее время было в нашей печати довольно много толков о «парижской школе» русской поэзии, школе, будто бы страдающей унылым однообразием. А разве Гингер не парижанин? Разве при этом стихи его можно спутать с чьими-либо другими? Если в Париже «школа» и была, то никак она не навязывала единого, по одной мерке установленного склада и стиля, а стремилась убедить, что в поэзии каждый должен найти себя и в поисках этих никого не обманывать, никому не пускать пыли в глаза.
В парижской «школе» возвеличивалось лицо, и после долгого периода, отмеченного комедианством и притворством, жалкими претензиями и несносной фальшью, в ней возникло и удержалось отвращение к маскам. «Школа» требовала отказа от лжи, расторгала чудовищный брак поэзии с ложью, к чему бы поэта одиночество ни привело. В своем культе поэзии «школа» с крайней недоверчивостью относилась к ее суррогату – к поэтичности. Никаких же единых творческих канонов или истин она не утверждала, зная, что их нет и не будет, пока люди рождаются не совсем друг на друга похожими.
«Не хлебом единым»
Год тому назад имя В. Дудинцева не было никому известно. Сейчас об этом молодом советском писателе говорят повсюду, и статей о его романе «Не хлебом единым» появилось в иностранной печати множество. Роман еще не переведен ни на французский язык, ни на английский, он только этой осенью был помещен в трех выпусках «Нового мира», – августовском, сентябрьском и октябрьском, – и если не ошибаюсь, даже в России не вышел еще отдельной книжкой. Сенсация в западном мире возникла понаслышке на основании слухов о впечатлении, которое роман Дудинцева произвел на советских читателей. Соответствующие номера «Нового мира» в Москве – будто бы на вес золота. Обсуждение «Хлеба единого» будто бы проходит при тысячных толпах. Молодежь ни о чем другом не говорит, а по сведениям Эдуарда Кранкшоу, обозревателя из «Обсервера», московские студенты обмениваются такими замечаниями:
– Скажи мне, каково твое отношение к этому роману, и я скажу тебе, кто ты!
– Прежде у нас была литература великой лжи, теперь возникает литература великой правды!
Сенсация на этот раз не пустая, не «дутая». Если бы нужны были доказательства, что в СССР какие-то перемены произошли и происходят, то достаточно было бы сослаться на «Не хлебом единым». Не только роман этот не мог бы несколько лет тому назад появиться, но и о попытке хоть вскользь коснуться задетых в нем вопросов не могло бы быть и речи.
Два слова сначала о чисто литературных качествах этого произведения. Роман, бесспорно, талантлив, а автор его, бесспорно, – человек прозорливый, вдумчивый, наблюдательный. По образованию он, по-видимому, техник, и обилие машиностроительных деталей в его повествовании порой утомляет и может даже отпугнуть тех, кто с этой стороной советской литературы еще не свыкся. Дудинцеву, пожалуй, не хватает писательского опыта, но зато у него есть свежесть восприятия и стиля, есть острота в психологическом анализе. Кое-где чтение «Хлеба» напомнило мне старинный роман, до крайности не популярный в эмиграции и до еще большей крайности превознесенный в СССР, «Что делать» Чернышевского, – роман, о котором следовало бы сказать, что истина в его оценке посредине: он, право, не так уж безнадежно плох, как повелось у нас здесь утверждать, он схематичен, но не бездарен. Дудинцев, как Чернышевский, склонен комментировать поступки своих героев и разъяснять то, что осталось им непонятно – впрочем, делая это с меньшей настойчивостью и назойливостью.
По первым главам кажется, что «Не хлебом единым» – один из тех советских романов на тему о торжестве добра и посрамлении зла, которым нет числа. Добродетельный, честный изобретатель, построивший новую, полезнейшую машину для выделки чугунных труб, движимый мыслями о нуждах народа и государства, наталкивается на всевозможные препятствия, интриги и козни, – и так и ждешь, что в известный момент вмешается в дело какой-нибудь сверхдобродетельный партиец, рассудит, кто прав, кто виноват, обласкает одних, покарает других, и все окончится традиционным мажорным аккордом во славу победоносного коммунизма. Да, – иносказательно внушается в таких романах, – подлецов, «рвачей» в нашей стране еще немало: но это – наследие прошлого, это паразиты, которым в советских условиях пощады нет. Вероятно, большинство москвичей перелистывали вступительные главы дудинцевского романа, считая, что развитие действия им заранее известно: короленковские «огоньки впереди», пусть и по-новому поданные, должны были представляться им неизбежными.
Но никаких «огоньков» у Дудинцева нет. Содержание его романа излагать подробно не к чему, вкратце же оно сводится к бесконечным мытарствам некоего Дмитрия Лопаткина по всяким учреждениям, институтам, стройкам и министерствам, где неизменно встречают его и его изобретение в штыки. Несчастия Лопаткина доходят до того, что попадает он в тюрьму, а оттуда на каторгу, – разумеется, по проискам недоброжелателей. Но почему отношение к нему таково? Во-первых, потому что человек он слишком даровитый, изобретение его слишком оригинально и своевременно, а следовательно при успехе обнаружит бесполезность других машин, построенных людьми влиятельными, орденоносцами, академиками, профессорами, – вроде старика Авдиева, который в каждом сопернике видит врага, подлежащего уничтожению. Во-вторых, Лопаткин – одиночка, а в советских условиях, видите ли, все, во всех областях, должно твориться коллективно… Именно тут-то у Дудинцева главная «запятая», если воспользоваться выражением Ивана Карамазова…
Как будто бы с ортодоксально-коммунистической точки зрения он провозглашает принцип приемлемый: первенство принадлежит коллективу. Но изображен у него этот коллектив в столь отталкивающем, даже страшном виде, что принцип оказывается подорван в самом основании. Следует отметить к чести Дудинцева как художника, что он не сгущает красок, не изображает каких-либо мелодраматических злодеев. Его Дроздов, например, лицо, быстро и успешно продвигающееся по службе, и к заключению повествования оказывающийся заместителем министра, – не подлец, а скорей полу-подлец, однако, как Воронцов у Пушкина, имеющий все данные, чтобы сделаться подлецом «полным, наконец». Он умен, хитер, энергичен, деловит, и к тем, кто ему не мешает, относится безразлично, даже с напускной дружественностью. Но это человек, которому «пальца в рот не клади»: личные интересы определяют для Дроздова все его поведение и всю его нравственность. Притом это вовсе не буржуазный осколок, нет, это разновидность парней «в доску своих», поднявшихся с самых низов. С низов поднялся и профессор Авдиев. Сановник Шутиков мельче, легкомысленнее, но по части волчьей морали и он не уступит никому. Галерея ярка и богата.
Люди, дорвавшиеся до власти, до хороших окладов, до автомобиля, до кабинета с глубокими кожаными креслами, оберегают свои преимущества, не стесняясь в средствах, и связаны безмолвной круговой порукой. Кандидаты на власть, на автомобили и кабинеты льстят, раболепствуют, угодничают, пока не добьются своей цели, зная, что ни до творчества, ни до народного блага никому дела нет: все это «девятнадцатый век», как в минуту откровенности говорит Дроздов, т. е. сентиментальщина, дряблый вздор. Дроздов, впрочем, не всегда откровенен и на словах любит связывать свою карьеру с преуспеянием государства. Но на практике связь эта полностью обращена к его выгоде.
Где же партия? Где ее всевидящее, недремлющее, неподкупное, высокоидейное, спасительное око? Партия отсутствует, безмолвствует, – хотя Дроздов с компанией, несомненно, тоже партийцы, даже весьма заслуженные. Роман кончается реабилитацией Лопаткина, но Дроздов и Авдиев остаются у дел, у власти, и ни в коем случае нельзя быть уверенным, что они нашего идеалиста-изобретателя оставят в покое. В последних сценах за Лопаткина страшновато. Он одинок, как прежде, и если новоявленных своих друзей сторонится, то не без основания.
В некоторых иностранных статьях о «Хлебе едином» было указано, что роман этот – обвинительный акт против всего советского государственного и социального замысла, против самой идеи коммунизма, и, в частности, мнение такое высказал уже упомянутый мною Кранкшоу, один из английских авторитетов по советским делам. Не вполне это верно, и не следует подменять своими мыслями и стремлениями мысли и стремления автора. Коммунизм как теоретическое понятие в «Хлебе» скорей возвеличен и идеализирован, чем развенчан. Сомнение насчет того, с какими отказами, с какими жертвами коммунизм, даже в лучших его формах, может оказаться связанным, автору чуждо. Как бывало в ранних, до-сталинских, советских книгах, коммунизм у Дудинцева маячит в качестве далекого земного рая, населенного безгрешными, чистыми, преодолевшими всякий эгоизм людьми. Но именно потому, что для Лопаткина-Дудинцева человек при коммунизме должен бы стать щедрее, богаче, добрее, смелее, отзывчивее, чем когда-либо, именно поэтому все его существо восстает против куцего советского официального мировоззрения, против официальной лжи, против плоской «классовой» мудрости, проповедуемой доморощенными философами, против малограмотного материализма и всего прочего.
Лопаткин страстно любит музыку. Особенно волнует его второй фортепианный концерт Шопена, да еще концерт Рахманинова, тоже, конечно, второй, столь излюбленный всеми пианистами. Но что слышится ему у Шопена, на гипсовый слепок с руки которого он смотрит с трепетным благоговением? «Страдания героя, сгорающего как комета в темном небе». Шопен именно его, Лопаткина, искал, – искал и нашел, – среди других, равнодушных слушателей в концертном зале. Шопен от него требует сочувствия и понимания. С «Азбукой коммунизма», с советским упрощенным и общеобязательным «четким взглядом на мир» эти романтические порывы, вечночеловеческие по природе своей, согласовать, конечно, трудновато, даже если бы в министерствах не засели, как полновластные хозяева, Дроздовы и Шутиковы. Когда Лопаткину указывают на расхождение его мечтаний с действительностью, он отвечает знаменательными словами:
– Я ведь и не говорю, что у нас коммунизм!
Не идеал, значит, плох в его оценке, нет, плохи люди, этот идеал исказившие. Государственная система сделалась нестерпима из-за нравственного уродства тех, в ком она воплощена и кем она представлена. Одни только лицемеры способны утверждать, что новому советскому человеку неизвестны пороки, которые прежде стирали черту между человеком и зверем. Под прикрытием звонких фраз о нуждах рабочих масс, под убаюкивающие песни о наступающем царстве справедливости и счастия, неискорененные, ужасные, беспощадные инстинкты окрепли, усилились, легче прорвались наружу, – и, в сущности, диагноз Дудинцева напоминает то, что было когда-то глубочайшим убеждением Гоголя: без личного совершенствования никакого общественного благообразия и благополучия достичь нельзя, без него все останется обманом, иллюзией и химерой.
В романе много диалогов, замечательных или, по крайней мере, любопытных. Лопаткину говорят, например, что современные коммунисты – «строящие муравьи».
– Мы, строящие муравьи, нужны… А ты, гений-одиночка, не нужен… Мы к нужному решению придем постепенно, без паники, в нужный день и даже в нужный час…
Сдерживая «закипающую вражду», Лопаткин отвечает:
– Один из этих муравьев забрался все-таки на березу повыше и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему… Я тоже муравей. Но я на березу не лезу.
Если принять во внимание, что действие романа происходит за несколько лет до смерти Сталина, кто этот муравей на березе – достаточно ясно.
Читателей, вероятно, интересует вопрос, каково отношение к «Хлебу единому» в советской печати. Отзывов до сих пор было сравнительно немного, и это само по себе показательно. Критики, по-видимому, несколько озадачены и растеряны, и хотя в «Правде» было определенно указано, что Дудинцевым допущены «важнейшие ошибки», поди разбери, в чем они: может ведь это повести к «ошибкам» еще более важным! Из больших журналов статья о «Хлебе» была лишь в «Октябре», статья уклончивая, сбивчивая, утверждающая, однако, что Дудинцев показал «теневые стороны нашего недавнего прошлого» – обратите внимание: недавнего! – и что в наличии «теневых сторон» повинен культ личности, т. е. новейший советский козел отпущения. Крайнее недовольство выражено по поводу того, что Дудинцев не сумел «отделить дроздовщины от руководящих кругов нашего общества». «Пафос огульного отрицания увлек автора на ложный путь», в результате чего может возникнуть впечатление, что в советской стране «создаются условия для бесконтрольной диктатуры зла».









































