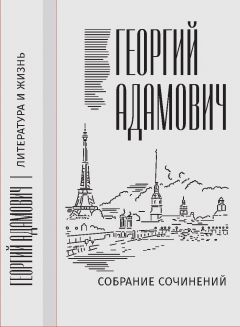
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Зощенко
Никто не считал, никто, кажется, не называл покойного Михаила Зощенко большим писателем. К нему в самом деле не идет такое определение. Написал он сравнительно немного, кроме коротких рассказов в его литературном наследстве нет почти ничего, – какой же это большой писатель? В поэзии можно прослыть «большим», оставив один небольшой сборник, «книжку небольшую томов премногих тяжелей», как сказал Фет о Тютчеве. Но к прозе установились требования иные, и даже Чехову звание «большого» далось не легко и не сразу.
Не будем о титулах, рангах и званиях толковать или спорить. Вполне возможно и даже вероятно, что дарование Зощенко было невелико по размеру, по широте охвата. Но это было дарование редкого качества, это был талант «чистой воды», и едва ли будет ошибкой сказать, что у нас еще далеко не все отдают себе в этом отчет. Зощенко был настоящим, прирожденным писателем, у него был свой стиль и была своя тема.
Два слова прежде всего о теме, о «своей» теме.
«Свою» тему можно выдумать, или, вернее, изобрести, и тогда ей – грош цена. Бывают писатели, по малодушию боящиеся быть похожими на кого-либо другого, оригинальничающие во что бы то ни стало и выдумывающие ряд образов, которых до них не существовало. Это может оказаться любопытно, забавно, интересно, – но и только. Мало ли что можно выдумать? – хочется возразить, читая такую книгу. Какое мне дело до иных выдумок, ни на чем не основанных и никуда не ведущих? Какой в них смысл? Книга в лучшем случае, даже при изощренном литературном мастерстве, только развлекает и по существу только на умственное развлечение рассчитана.
Но если тема найдена, а не выдумана, если у писателя оказалось достаточно чутья, внимания и слуха, чтобы уловить то, что носится в воздухе, что подсказано временем, если при этом он действительно оказался сыном своего времени, без нарочитой подделки, без комедианства и позы, скорей всего безотчетно для самого себя, тогда дело развлечением не исчерпывается. Об этом есть несколько очень верных замечаний у Достоевского в «Дневнике писателя», по поводу Байрона, который потому и потряс сердца современников, что носившуюся в воздухе тоску и разочарование уловил и облек в образы. Зощенко тоже что-то нашел, пусть это «что-то» и кажется на первый взгляд мелким, смешным и жалким.
Кто его постоянный герой? Чуть ли не через все зощенковские рассказы проходит образ растерявшегося, сбитого с толку человечка, который из одного неловкого положения попадает в другое. Вокруг происходят огромные, грозные, не совсем понятные события, рушатся миры, возникают новые порядки, а этот человечек, внучатый племянник Акакия Акакиевича, только, пожалуй, похитрее, чем был его предок, более смышленый, порой даже плутоватый, мечется, суетится и никак не поймет, что к чему и как ему в этом неприветливом и неуютном мире ужиться.
Я говорю, что Зощенко нашел тему. Да, нашел, а не выдумал, и если бы нужны были доказательства, достаточно было бы сослаться на двух-трех других писателей, не русских, а чужеземных, которые сделали приблизительно то же открытие, хотя и в другом преломлении. Франц Кафка, например. Едва ли это был художник гениальный, каким теперь принято его считать, особенно в «передовых» литературных кругах. Но его глубокое влияние на многих новых писателей, конечно, не случайно: оно основано на том, что Кафка уловил тему беспомощности, бессилия, бесправия и растерянности человека в грозных теперешних жизненных условиях, – еще более грозных, по его предчувствию, в недалеком будущем. Но ведь тема Зощенко совпадает с темой Кафки, правда, при том различии, что трагическую окраску ее он заменил комической или, если лучше вглядеться, трагикомической: иначе он в советских условиях поступить и не мог, а может быть и не хотел. Вполне возможно, что напряженность, эмоциональная и интеллектуальная сосредоточенность Кафки, трагизм Кафки были ему не по силам. Не знаю, не берусь гадать. Но недоумение Зощенко – того же порядка, и за какой-нибудь его смехотворно-растерянной интонацией – «посудите, братишечки, что же это в самом деле за обидная конъюнктура образовалась?» – скрывается то же бессилие и готовность биться головой о стену. Он единственный в советской литературе, и даже, пожалуй, во всей новой русской литературе, эту «стену» разглядел, он один почувствовал и по-своему выразил бесчеловечность наступивших и наступающих времен.
Есть у Зощенко еще родство, правда в духовном смысле менее высокого порядка, менее почетное, чем близость к Кафке, но зато более наглядное по обилью комических черт, – ранний Чарли Чаплин. Разве чаплинский герой, в котелке, в брюках не по росту, с зонтиком в руках, с недоуменно поднятыми бровями, разве это не брат зощенковского братишечки? Перенесите его в первоначальную советскую обстановку, представьте себе его в фойе Мариинского театра угощающим не в меру проголодавшуюся «аристократку» пирожными, – сходство обнаружится несомненное! Должен признаться, я не очень люблю Чаплина, всегда помню жестокую, и в сущности справедливую, строчку Ходасевича о скуке и раздражении «пред идиотствами Шарло», но нельзя же отрицать, что Шарло этот тоже попал в цель и находчиво ответил тому, что ответа ждало. Всемирный успех его иначе было бы трудно объяснить.
А что еще хорошо у Зощенко, помимо безошибочно уловленной основной темы? Было бы уместно и убедительно привести ряд его словесных находок, остроумнейших и неожиданных словосочетаний, – хотя бы вроде такого, например, восклицания: «шумел, шумел, ну и схлопотал себе по морде!» Всякий, вероятно, усмехнется, прочтя такую фразу. Но усмешка усмешке рознь: здесь – ключ к целому бытовому «комплексу», здесь с помощью двух-трех слов будто переносишься в уличную советскую обстановку, видишь и чувствуешь среду, о которой тщетно пытаются нам рассказать наблюдатели, казалось бы, более серьезные и обстоятельные. Полстранички Зощенко дает иногда в этом отношении больше, нежели целый том путевых записок и наблюдений. Предвижу возражение, которое, впрочем, не раз уже и слышал: да, мол, согласен, забавно, но как все это вульгарно, как грубо! Что же делать! О маркизах надо рассказывать одним языком, о братишечках – другим.
По существу, Зощенко груб не бывает никогда. В самом смехе его неизменно и отчетливо звучит гоголевское дребезжание, большинству других русских юмористов, – скажем, аверченковского типа, – чуждое или недоступное. Смех ведь бывает всякий, и нет причин считать обязательным смешение веселости и печали. Но если это и не обязательно, – художественно не обязательно, – то, пожалуй, только для других литератур, для других стран, не для России: после Гоголя от смеха раскатистого, жирного, плотоядного, смеха «во всю глотку», раблезианского склада, становится как-то не по себе! Гоголь отбил у нас охоту и вкус к нему, да и русский язык что-то плохо с ним мирится. «Что французу здорово, то русскому смерть», можно было бы сказать. Вспомните хотя бы российские водевили и фарсы, российские шансонетки и анекдоты, переложенные с парижских образцов. Ужас, сплошной ужас, торжество пошлости, невыносимо, нестерпимо! Зощенко это очень остро почувствовал, гоголевской традиции он не изменил, и отчасти именно в этом его обаяние.
Я смутно помню его в Петербурге, в самом начале двадцатых годов. Он уже и тогда был болен, страдал одышкой и если поднимался по лестнице, то должен был останавливаться на каждой площадке. Под глазами уже и тогда лежали у него какие-то черные тени. Был он застенчив, молчалив и как будто сам удивлен успехом первых своих рассказов. Но как было уже и по этим рассказам не понять и не почувствовать, что это настоящий писатель, более значительный, чем многие его молодые собратья, Серапионовы братья и другие, в те годы спешно готовившие размашистые эпические полотна о революции, гражданской войне или будущем светлом социалистическом царстве?
«Чудотворная»
Антирелигиозный фронт… Довольно давно уже о «фронте» этом ничего не было слышно. В первые революционные десятилетия о нем толковали в России постоянно и чуть ли не в каждом, даже самом захолустном городке устраивались собрания для «борьбы с предрассудками». Борьба велась средствами незамысловатыми: в природе и в мироздании действуют, мол, такие-то законы, значит Бога нет, – приблизительно с той же силой логики, какая торжествует в знаменитой соловьевской шутке о философии шестидесятничества: человек происходит от обезьяны, следовательно люди должны любить друг друга.
Борьба и теперь не совсем оставлена. Просматривая списки выходящих в Москве книг, убеждаешься, что каждый месяц появляются сочинения, подводимые под категорию «научного атеизма». Переиздаются даже объемистые труды Ем. Ярославского, ветерана и специалиста по предрассудкам, когда-то заявившего, что человек, способный сосчитать до десяти, искренне верить в Бога не может: если говорит, что верит, то исключительно для того, чтобы с помощью Церкви эксплуатировать трудящихся.
Однако в литературе художественной, в беллетристике, борьба с религией отошла на второй план, в особенности после войны. Тема эта, по-видимому, была молчаливо признана мало «актуальной», даже, может быть, устарелой. В последнем, десятом выпуске «Звезды» дано и откровенное объяснение этому: по утверждению некоего Ю. Суровцева богоборческие рассказы некогда выделывались массовым производством… но они не очень уменьшили число верующих, зато увеличили число охладевших к произведениям антирелигиозной «краски». Охладили они и самих писателей: эту тему – продолжает Суровцев – «глубже копнуть трудно, да и боязно, вдруг обернется она поклепом на советского человека. Смотри-ка: хороший человек, а в Бога верит!» Признание красноречивое, одно из тех, которые по короткому намеку – «поклеп», «боязно» – позволяют о многом догадываться.
Но находятся в СССР писатели, которым, очевидно, не «боязно», и за смелость свою они вознаграждены. Месяца три или четыре тому назад появилась повесть, – сначала напечатанная в «Знамени» (ном. 5), затем вышедшая отдельным изданием, – о которой уже было множество статей, притом единодушно хвалебных. Критики наперебой одобряют тему, взятую молодым беллетристом, превозносят его за проявление особой «бдительности», отмечают его талант. Насчет таланта спорить не буду: В. Тендряков, автор «Чудотворной», по-видимому, действительно человек даровитый, и чувствовалось это и в прежних его повестях и рассказах («Ухабы», «Ненастье» и др.).
В «Чудотворной» есть живая наблюдательность, есть способность схватить, подметить нужную черту, – впрочем, в тех шаблонно-реалистических, «передвижнических» пределах, которые при наличии стольких образцов для подражания наводят на сомнение: не сказывается ли тут всего только дар переимчивости, механической копировки? Да или нет, – ответит будущее, Тендряков писатель еще молодой. Но во всяком случае написана «Чудотворная» умело, и бытовую картину дает яркую. А содержание ее вкратце таково.
В глухой деревушке двенадцатилетний мальчик Родька Гуляев, собираясь купаться, нашел в земле, на размытом половодьем берегу реки старинную икону. Оказалось, это не простая икона, а особенная, когда-то считавшаяся чудотворной. Кем-то в землю зарытая, когда власти, закрыв церковь, собирались отослать ее в антирелигиозный музей. Сбежались, охая и ахая, все окрестные старики и старухи, издалека приехал священник, пошли перед иконой молебны. Родька сам не рад своей находке. Был он прежде обыкновенным советским подростком, а теперь бабушка и мать величают его Божьим избранником, соседи надоедают просьбами о молитвах, и в довершение всего пришлось ему надеть на себя медный крестик. А вдруг об этом узнают в школе? Ведь Родьку засмеют, проходу ему не будет от товарищей. Будущий комсомолец, а тут, не угодно ли, на шее крестик! Позор, нелепость.
В школе действительно узнают и об иконе, и о молебнах, и о крестике. Учительница Парасковья Петровна, женщина в высшей степени «сознательная», решает, что мальчика надо спасти. Иначе для советского общества он будет потерян, станет в нем элементом чуждым. Но Родькина мать, в особенности бабка, озлобленная, властная, темная, не сдается, а священник, лукавый, изворотливый о. Дмитрий, – в Христа верующий, но, по собственному признанию, «только с оговорками», козыряющий своей лояльностью к советской власти, носящий портсигар с изображением кремлевских башен, – о. Дмитрий, хоть и крайне осторожно, все-таки напоминает учительнице, что по советской конституции состава преступления в религии нет. «Закон мудро предоставляет семье ребенка решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы не обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки».
Парасковья Петровна это знает, как знает это и автор повести Тендряков. Но знают они оба и то, что коммунизму с христианством не по пути, и что выбор сделать необходимо. В суд обращаться бессмысленно, но и борьбу с пережитками прошлого оставлять нельзя. А Родька недоумевает: «Тыщи лет люди в Бога верили. Не все же были дураки! В школе про Льва Толстого рассказывали: Бога искал. Раз искал, значит верил. Бабка верит, а Парасковья Петровна нет… Парасковья Петровна умнее бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковьи Петровны умнее был».
Побеждает, конечно, учительница, иначе в советской повести и быть не могло. Несчастного, сбитого с толку Родьку доводят до того, что он покушается на самоубийство, и это дает повод Парасковье Петровне не только вмешаться в семейные его дела, но и пригрозить о. Дмитрию оглаской происшествия. «А для вас огласка, – любезно говорит она ему на последней странице “Чудотворной”, – как солнечный свет кроту».
Повесть эта в пересказе может показаться банальной, ни в каком отношении не примечательной. Ну, что же, одним «богоборческим» рассказом больше, скажет всякий. Однако самый факт ее появления на сорок первом году революции, шум и одобрение, ею вызванные, пререкания учительницы со священником, в нее обильно включенные, а в особенности комментарии критиков – все это внимания заслуживает. Я чуть не написал «внимания и удивления», но нет, удивляться давно пора перестать.
Если бы Тендряков ограничился утверждением, что коммунизм и религия несовместимы, – прежде всего несовместимы морально и даже психологически, – возразить было бы нечего. Это действительно так, в особенности, если речь идет не о каком-либо идеальном, воображаемом коммунизме, а о ленинских формах его. Или-или: никакого компромисса тут быть не может, а выбор ленинско-сталинских птенцов и питомцев ясен заранее. Но Тендряков и его толкователи идут дальше, и с твердокаменной невозмутимостью вбивают в головы своих читателей заведомую ложь, ту же самую, к которой простодушно прибегали «воинствующие безбожники», большей частью малограмотные и нередко искренние, – первых революционных лет. Не изменилось на этом «фронте» ровно ничего.
Парасковья Петровна, а с нею вместе и автор повести, утверждают, что религия держится исключительно на страхе. «Покорность, ленивый ум и страх, – заявляет учительница, – этого вполне достаточно, чтобы сделать человека духовным рабом». Церковь только того и достигла, что создавала «моральных уродов». Если человек энергичен, смел, образован, если у него ум не «рабский», вера отпадает сама собой.
Смущенный, растерянный о. Дмитрий в ответ что-то мямлит, – потому что автору надо внушить читателю, что возражений на изречения Парасковьи Петровны нет и быть не может. Но живой, а не выдуманный священник должен был бы ответить одним словом: ложь! И назвать имена огромного числа всему миру известных людей, которые вовсе не в страхе нашли для своей веры основания.
Но и этого мало. Тендряков со своими комментаторами внедряют в советские головы ложь еще более грубую, еще резче противоречащую истине, будто наука доказала, окончательно доказала несостоятельность веры, будто современное знание веру исключает.
В статье «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева» («Новый мир», ном. 9) И. Виноградов пишет: «Религия всегда была великолепным средством умственного обмана, одурачивания и оглупления народа… Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества – освобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несовместимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир».
Здесь уместно разъяснение.
Было бы с нашей стороны подражанием советским методам, если бы принялись мы утверждать, что ни один из «лучших умов» никогда ничего подобного не «прозревал». Великие умы не однородны, и, конечно, к атеизму склонялись многие из них. Но именно только склонялись, – ибо атеизм так же недоказан, как и вера, и в сущности, как давно уже было замечено, представляет собой один из видов веры. На вечные загадки существования одного, общеобязательного ответа нет. И никогда не будет.
В наше время, даже много раньше – со времен Канта, умы действительно «лучшие» знают, что им открыто и что недоступно, знают, что ни доказать, ни опровергнуть бытие Божье или бессмертие души нельзя, знают, что вера свободна, что наука в путях своих с ней не скрещивается, в борьбу с основанием и сущностью ее не вступает, знают, что утверждающие противоположное – или невежды, или лгуны. Тендряков и его единомышленники, несомненно, слышали о некоторых великих современных ученых, в Бога верующих, и утверждения их, что наука будто бы уничтожает религию, – именно ложь, по принципу о цели, оправдывающей средства, а в конце концов и подлинное мракобесие. Покойный Фадеев охарактеризовал однажды Фихте и Шеллинга как «пошлых попов» – да, Шеллинга, великого философа, которому поставил в пример нашего недоучку Белинского! Мракобесие насаждается и теперь, с еще более слепой, базаровской самоуверенностью, в союзничестве с «наукой», которая с наукой настоящей, без кавычек, не совсем в ладу.
Обо всем этом сказать можно было бы еще многое, да только говорить это здесь, а не в СССР, все равно что ломиться в открытую дверь.
Жаль, что тендряковский о. Дмитрий не вспомнил о случае, происшедшем когда-то в Пулковской обсерватории, куда с просветительной целью привели молодых красноармейцев.
– Видите, товарищи, – объяснял перед телескопом и различными приборами лектор, – вот так-то движется луна, так-то движется земля вокруг солнца, а за нашей системой находятся другие солнца, которых мы называем звездами… Понятно? Значит, никакого Бога и нет.
Один из экскурсантов поглядел в телескоп, почесал затылок, покачал головой.
– Простите, товарищ лектор… По-моему, тут скорей получается, что Бог-то есть!
Парасковья Петровна немедленно нашла бы «научное» возражение. Эйнштейн, вероятно, развел бы руками и сказал бы: не знаю.
Памяти Николая Оцупа
Пора бы привыкнуть! – говоришь сам себе. – Пора бы понять, почувствовать, что в известном возрасте все мы, по Тютчеву, «на роковой стоим очереди» – и кто кого должен в ней опередить, неизвестно!
Но привыкнуть нельзя. Каждая новая смерть по-новому поражает и кажется неожиданной.
Николая Оцупа я знал с далеких, юношеских, петербургских лет и был с ним связан той дружбой, которая только в юности и возможна. Вместе мы начинали жить, вместе мечтали о будущей деятельности, об удачах и успехах, – в России, конечно, – не предвидя, чем это будущее для нас обернется. Потом был Париж. Здесь он возмужал, утратив былую свою порывистость, стал сдержаннее. В последние годы даже замкнутым в себе. По стихам, по некоторым статьям можно было догадываться, что он изменяется, внутренне растет. Но общение было труднее, встречи становились реже, – и, как почти всегда бывает в человеческих отношениях, были с обеих сторон ошибки, которые по-настоящему хочется исправить лишь тогда, когда исправлять поздно.
Он был очень талантливым поэтом. В его стихах был огонь, был «нерв», дававший им своеобразие и силу. Его не интересовало, не трогало в поэзии ничто мелкое, суетное. И, в сущности, следовало бы ему родиться в иное время, когда державинское парение представлялось естественным поэтическим стилем. Кое в чем он был родственен в этом отношении своему учителю Гумилеву, – который, по собственному признанию, был «вежлив с жизнью современной», только ворчлив, не более, – и в противоположность другим ученикам Гумилева, он с каждым годом ценил его все больше, стремясь быть его литературным преемником и продолжателем.
Но обо всем этом сейчас, «над открытой могилой», по стереотипному выражению, толковать рано. Скажем Николаю Авдеевичу спасибо за то, что он среди нас жил, за многое, что он нам дал, пообещаем ему память добрую и долгую, хотелось бы сказать – «вечную», если бы человек вправе был не только о вечности молиться, но и с уверенностью о ней говорить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































