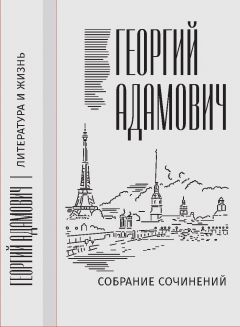
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
На этой блестящей формуле я и поставлю точку: московский критик, вероятно, сам не подозревает, до чего он договорился.
Писатель для юношества
В очень интересной, но и очень спорной, и притом будто с каких-то синайских высот написанной статье – «Миф Владимира Маяковского» – Н.А. Оцуп говорит о многом: одно устанавливает, как незыблемую истину, другое категорически отбрасывает. Статья программная, имеющая, по-видимому, целью внести ясность в современную идейную путаницу, навести в литературе порядок… У меня нет оснований Оцупу возражать. Если я статьи его касаюсь, то лишь потому, что в ней он с досадой говорит о некоем «эмигрантском писателе, который с непонятной настойчивостью утверждает, что Достоевский – писатель для юношества». Его, этого эмигрантского писателя нетрудно было бы, по мнению Оцупа, разоблачить, как «тайного врага религиозной сути христианства», – ибо только такой человек способен отрицать, что «суть христианства» заключена в «уроках подвижничества старца Зосимы и отчасти в мирской жизни Алеши».
Определение Достоевского как «писателя для юношества» принадлежит мне. Об этом я действительно не раз, может быть даже «настойчиво», говорил, но, очевидно, говорил недостаточно ясно. А так как вопрос представляется мне и интересным, и важным, то я хотел бы воспользоваться случаем и мысль свою развить. Подчеркиваю «во избежание недоразумений», – а любители устраивать «недоразумения» всегда находятся, – что я с Оцупом не полемизирую, себя не защищаю и о себе говорить не намерен. Оставляю на совести автора статьи упрек во «вражде к христианству», обхожу его молчанием. Дело не во мне, не в Оцупе, а в Достоевском. О Достоевском, значит, и должна быть речь.
Писатель для юношества – не было ни в коем случае характеристикой пренебрежительной, и как бы к Достоевскому ни относиться, в этом определении скрыто было, в моем представлении, скорей признание его исключительной силы и исключительных особенностей его творчества, чем умаление достоинства. Никак я не предполагал, что характеристика эта будет истолкована в примитивном фениморкуперовском или майнридовском смысле: писатель для людей незрелых, писатель, взрослым не интересный. Слишком уж это на Достоевского не похоже! Если формула, мной употребленная, и не была совсем обычна, то содержание ее казалось мне понятно. Очевидно, это не так.
О Достоевском размышлять можно всю жизнь, можно всю жизнь и перечитывать его. Но в первый раз лучше прочесть его в шестнадцать или восемнадцать лет, не отрываясь, всего подряд, когда «впечатления бытия» еще новы, когда глаза еще доверчиво и широко открыты на Божий мир. Надо, чтобы в душе еще девственной, отзывчивой и свежей произошло великое потрясение, следы и раны от которого останутся на все дальнейшее существование, надо, чтобы человек именно в шестнадцать лет узнал, что в жизни может случиться и сколько в жизни может таиться боли, страдания, бессмысленного и беспричинного зла. Позднее мы задумываемся над различными «проблемами», в «Карамазовых» или в «Идиоте» затронутыми, – хотя каюсь, «проблемы» и теперь представляются мне чем-то второстепенным, умышленным, сравнительно малосущественным, и с годами это мое убеждение усиливается.
Достоевский был великим выдумщиком и, конечно, по части «проблем» он дает уму и воображению больше пищи, чем все остальные русские писатели, вместе взятые. Достоевский высказывает мысль как предположение, не принимая за нее полной ответственности, чего никогда не делает Толстой: оттого-то, – независимо от его необыкновенной умственной одаренности, – он на вопросы и сомнения так расточителен. В Достоевском и в его идеях чрезвычайно много смелого, любопытного, оригинального, острого, глубокого, и не случайно одинокие размышления Раскольникова о разнице между Наполеоном и вошью оказали столь сильное влияние на Ницше, а догадки Кириллова, например, о праве человека «заявить своеволье» вызвали целую философскую литературу… Все это, разумеется, страницы в высшей степени замечательные, хотя, может быть, и не бессмертные, в том смысле, что содержание их со временем может оказаться исчерпано.
Подлинно бессмертно у Достоевского, мне кажется, другое: страницы о людях в том состоянии, когда человеку «пойти некуда», когда жизнь взяла человека за горло, а он, человек, все-таки чувствует в себе присутствие образа и подобия Божьего и не может ни от образа, ни от подобия отказаться, когда безнадежность в его душе сплетается с восторгом, отчаяние с верой…
Нет, лучше не продолжать, потому что нельзя своими словами передать всю эту смесь чувств, впервые и с необычайной страстностью, с несравненной гениальностью Достоевским показанную, глупо и даже грешно было бы пытаться это сделать! Нет, однако, ни малейшей парадоксальности в утверждении, что в рассказе Мармеладова, – да, в истрепанном, надоевшем, опошленном всеми провинциальными трагиками рассказе Мармеладова! – больше неповторимой и единственной новизны, чем во всех рассуждениях Ивана Карамазова, – новизны реальной, а не придуманной. Именно это Достоевский принес в мир как величайшую драгоценность, и это именно то, что в шестнадцать лет должно бы навсегда в сознание врезаться. В сорок лет человек прочтет, скажем, пушкинскую речь, зевнет и, покачав головой, подумает: да, кое-что справедливо, а вот это – не совсем верно, и я лично придерживаюсь другого мнения, да и профессор такой-то недавно высказывал совсем другой взгляд! В шестнадцать лет мальчик прочтет о том, как Катерина Ивановна всю ночь простояла в ногах Сони, после того как та вернулась домой с тридцатью рублями, и сам всю ночь проведет без сна, мучаясь, недоумевая: как все это возможно, где всему этому ужасу найти оправдание? Или прочтет главу из «Подростка» о матери в пансионе Тушара, или «Кроткую».
Действительно, в целом мире, во всей мировой литературе, ничего подобного нет, пусть это и не значит, что Достоевский – величайший в мире писатель, «выше Толстого». Толстой сделал свой вклад. Достоевский – свой, и хотя русские люди, вероятно, до конца нашей истории не перестанут спорить, кто «выше», решать это бессмысленно, а решить невозможно. Пожалуй, можно бы сказать, что Толстой основательнее. Достоевский в общем своем замысле более шаток, фантастичен и в конце концов эфемерен, – но и только. Несомненно, у Достоевского есть то, чего тщетно было бы искать у Толстого: состав чувств, им уловленный, им открытый, вероятно по собственному опыту, вопль к небу, некое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Больше всего именно это, «услыши мя!» Нужно было, очевидно, простоять несколько минут на Семеновском плацу в ожидании неминуемой смерти, нужно было провести четыре страшных года на каторге в Сибири, чтобы на это набрести.
Вот, собственно говоря, что я имел в виду, когда писал о «юношестве». Счастлив тот человек, который до зрелости или даже до старости сохраняет былую восприимчивость, однако таких людей мы что-то не встречаем… Нет, впрочем, одного человека назвать могу: помню, Анна Ахматова говорила когда-то, что не может Достоевского читать, бросает книгу на половине, – потому что не может выдержать ответного нервного напряжения, заболевает, чуть ли не сходит с ума. Правда, это было давно. Ахматова была еще молода, а с тех пор, вероятно, как все смертные, стала выносливее и равнодушнее. Время одинаково беспощадно – или одинаково милосердно – ко всем.
Два слова о старце Зосиме, в «уроках подвижничества» которого будто бы заключена суть христианства. Об этом в русской литературе были долгие споры, Оцупу, несомненно, известные. Зосима считается списанным со знаменитого оптинского старца Амвросия, хотя Константин Леонтьев, хорошо Амвросия знавший, подолгу с ним беседовавший, утверждал, что это – не портрет, а карикатура. Леонтьев утверждал и другое: а именно, что оптинские старцы, познакомившись с поучениями Зосимы, без колебания их отвергли. «Розовое» христианство, – с пеной у рта говорил Леонтьев, – приторное, фальшивое, близорукое, сентиментальное, тепленькое… Не знаю, был ли он прав, это вопрос очень сложный, с бесконечными «за» и «против». Но, конечно, в том же мармеладовском рассказе, особенно в его удивительном, вечно памятном конце, «суть христианства» очевиднее, живее, непосредственнее, действеннее, чем во всем том, что Достоевский своему красноречивому и благодушному Зосиме поручил высказать. Нельзя даже и сравнивать одно с другим, нельзя и усомниться, где больше отблесков того огня, который, по евангельскому тексту, был когда-то «низведен на землю».
Иностранцы чувствуют это иногда не хуже русских.
В прошлом году, в связи с семидесятипятилетием со дня смерти Достоевского, по мюнхенскому радио были переданы в Россию различные отзывы и суждения о нем, в том числе – небольшая заметка известного английского поэта Одена, затем помещенная в газетах.
Начал Оден довольно странно. Признавшись, что Достоевский ему чужд, он сослался на то, что автор «Карамазовых», видите ли, – «не джентльмен», и пишет не о «джентльменах». Действительно, слово «джентльмен» к Достоевскому никак не подходит, – что и говорить! Но, будто спохватившись, Оден в заключение сказал несколько слов глубоких и верных. Достоевского, по его мнению, должны бы особенно внимательно прочесть люди, добившиеся в жизни успеха, почета, солидного положения, – дельцы, банкиры, государственные деятели. Им большей частью кажется, что мир устроен правильно. Является Достоевский и заставляет их взглянуть на все то, чего они не знают и знать не хотят. На Достоевском, на его мыслях, – считает Оден, – нельзя построить общества. Но то общество, которое забудет все, о чем Достоевский рассказал, недостойно называться обществом человеческим.
Да, это действительно так, «да, да, да!», – писал в подобных случаях Розанов, не скупясь на восклицательные знаки. Следовало бы только добавить, что люди, о которых говорит Оден, должны бы прочесть Достоевского в молодости. Потом будет слишком поздно, потом они скажут, что русский романист донкихотствует, что он не знает настоящей жизни, и что все у него преувеличено, что борьба за существование имеет свои непреложные законы, и так далее… Надо, чтобы в молодости душа ответила Достоевскому всем своим содроганием, тогда и до последних лет человек сохранит стыд, хотя бы и глубоко затаенный, за всех, кто дальше борьбы за существование и ее законов, ничего не видит. За всех, – не исключая, конечно, и самого себя.
Записные книжки Фадеева
Покойный Фадеев был, бесспорно, человеком даровитым и далеко не пустым: кто тридцать лет тому назад прочел его юношескую повесть «Разгром», не мог больше в этом сомневаться. Фадееву повредило положение сановника, которое он занимал все последнее время. Именно оно, это положение, подорвало к нему доверие, притом не только здесь, но, вероятно, и в советской России. Фадеев управлял, организовывал, председательствовал, ездил во главе всевозможных делегаций за границу, произносил громовые речи, возвышал или втаптывал в грязь своих «собратьев по перу», словом был чем-то вроде литературного диктатора.
Но внезапно он покончил с собой, и это отбросило на его диктаторство какой-то странный свет. Самоубийство почти всегда вызывает к человеку любопытство, интерес или сочувствие: как могло это случиться? – спрашиваешь себя. До чего должен был дойти человек, если мог на это решиться? Фадеев по официальной версии спился и покончил с собой в пьяном безволии. Но едва ли это действительно так, да если в официальной версии и есть доля правды, хочется спросить, почему человек, добившийся всех доступных ему внешних успехов, запил горькую: не с отчаяния ли, не от мучительных ли сомнений в своей деятельности? Кстати, в нашумевшей статье Симонова о том, как Фадееву по приказу свыше пришлось переделывать свой последний роман «Молодая гвардия», можно найти намеки на истинные причины его смерти.
В февральском выпуске «Нового мира» помещены выдержки из записных книжек Фадеева, под заглавием «Субъективные заметки». Касаются они исключительно литературы или искусства, однако кое-что в них показательно и для общих настроений писателя. Заметки эти подготовлялись к печати, значит – ничего особенно «интимного» в них быть не может. Но, вероятно, составляя сборник, Фадеев задумался бы, стоит ли включать в него, например, несколько строк из письма архитектора Стасова, жившего в первой половине прошлого века, – строки, по-видимому, его задевшие:
«По свойству моему или по моей натуре мне нужно для исправления моей должности совершенное спокойствие духа… а потому прошу, когда я в кабинете, оставлять меня в совершенном покое».
Фадеев от себя добавил: «Старик был прав, – о, как он был прав!»
Достаточно красноречива и другая короткая запись:
«Недостаток многих произведений современности объясняется тем, что авторы не являются подлинными хозяевами, господами своих идей».
Дальше, правда, идут стереотипные рассуждения о пролетариате и его бунтарском «авангарде», но приведенная мной формула бьет в самую точку и вскрывает основную слабость советской литературы, вернее – ее основное несчастье.
В других заметках Фадеева много спорного: умного вперемешку с наивным, зоркого, проницательного рядом с близоруким. Чувствуется порой и вошедшее в привычку бахвальство «достижениями», которые будто бы ставят советскую словесность на первое место в мире. Фадеев составляет длинный список повестей и романов, включая в него произведения заведомо ничтожные и фальшивые, и горделиво восклицает: «Пусть-ка хоть одна из стран Западной Европы или Америки попробует составить за этот же срок – 28 лет – подобную библиотеку!»
На это не стоит и возражать. Даже не принадлежа к принципиальным, убежденным поклонникам новейшего западного творчества, даже отдавая себе отчет, сколько в нем глубокой растерянности, человек беспристрастный должен признать, что по уровню мастерства и тематической значительности оно неизмеримо выше творчества советского. Беря в руки советскую книгу, мы будто из высшей школы попадаем в приготовительный класс. Многих из авторов, которых называет Фадеев, – в том числе и мнимых «классиков», вроде Гладкова, – в рядовом французском или английском журнале просто не нашли бы возможным печатать по явному недостатку общелитературной и общекультурной их грамотности. Падение уровня в советском творчестве было неизбежно по причинам социальным: прежняя узкая и глубокая культура растеклась в ширину, и иронизировать по этому поводу у нас нет основания, да не должно бы быть и желания. Но не надо черное называть белым и неуклюжие опыты выдавать за блистательные зрелые удачи. (Любопытно, между прочим, что в фадеевском списке, куда внесены имена третьестепенные, нет Эренбурга.)
Попадаются у Фадеева и недоразумения. В очень интересной заметке о Тургеневе он утверждает, что «такими рассказами, как “Касьян с Красивой мечи” и “Живые мощи” Тургенев предвосхитил всю народно-крестьянскую тему Толстого». Если даже это и верно по отношению к «Запискам охотника» вообще, то никак не может относиться к «Живым мощам», рассказу, написанному Тургеневым уже в старости и включавшемуся лишь в позднейшие издания сборника. Фадеев, по-видимому, об этом забыл – или этого не знал.
Тургенева автор «Субъективных заметок» оценивает чрезвычайно высоко и как бы защищает от Толстого. Указывает он, между прочим, на то, что женские образы Тургенева – так называемые «тургеневские девушки» – раздражали Толстого «как реалиста более плотского и строгого». Фадеев находит в этих женских образах «необычайную прелесть и правду» и выражает пожелание, чтобы тургеневской «прелести и правде» учились советские романисты. Что же, это, пожалуй, было бы не плохо! Но не плохо было бы и задуматься над тем, почему Толстой не выносил «тургеневских девушек» – независимо от более «плотского», как выражается Фадеев, восприятия жизни. Вспомним подлинно убийственную запись Толстого по прочтении «Накануне»: «Девица никуда не годится. У нее были длинные ресницы. Ах, как я тебя люблю…» Здесь – ключ к толстовскому раздражению.
Но, конечно, в целом Тургенев действительно – «прекрасный писатель», и хотя бы за одного Базарова, за десять страниц о смерти Базарова, простятся ему все «длинные ресницы» и несколько приторные стилистические красоты. Мне понравилось и даже тронуло меня у Фадеева то, что свои восторги он заключает словами: «Как жалко, что всего этого нельзя высказать ему лично!» Тургеневу эта непосредственность была бы, вероятно, приятнее всяких комплиментов, даже самых изысканных. Иногда, перечитывая иного давно умершего автора, испытываешь именно такое чувство, – т. е. чувство, что он живее живых, и что хотелось бы с благодарностью пожать ему руку.
Останавливаюсь мимоходом на других замечаниях Фадеева, в частности на его словах о Кольцове, в связи с разбором «Литературных мечтаний» Белинского. Кольцова он сравнивает с советским поэтом Исаковским, но считает, что «по мысли и по форме Исаковский выше».
Утверждение это, несомненно, многих покоробит, а то и возмутит. Подумайте, Кольцов – и какой-то Исаковский! Должен признаться, что лишь поверхностно зная поэзию Исаковского, недостаточно внимательно следив за ней, я в данном случае не имею своего мнения: хорош ли, плох ли Исаковский, – твердо не знаю… Но не в нем тут дело, а в Кольцове. Давно, давно пора бы вслух сказать то, с чем, вероятно, все современные поэты согласны: Кольцов – одно из великих недоразумений нашей литературы, одно из тех явлений, в оценке которых двадцатый век бесповоротно разошелся с девятнадцатым. В прошлом столетии постоянно говорили: Пушкин, Лермонтов, Кольцов, – не находя ничего нелепого в сопоставлении этих имен, отодвигая на второй план Тютчева и Баратынского, обходя Некрасова и других более мелких, но все же замечательных поэтов. По-видимому, самый факт появления поэта «из народа» казался настолько необычайным, что парализовал критическое чутье. Но в наше время народность, мнимая или подлинная, никого не соблазнит, а перечитывая Кольцова, только руками разводишь: где в этих гладких и легких, – конечно, талантливых, но неприятно хорошеньких, – песнях то «могучее чувство», то «высокое вдохновение», о котором толковали современники? Вопрос это крайне интересный, я сейчас лишь бегло касаюсь его. Следовало бы когда-нибудь заняться им обстоятельно и попытаться объяснить, почему Кольцов и его огромный успех кажутся теперь явлениями, принадлежащими к категории скорей надсоновской, чем пушкинской.
Дальше о Чернышевском. Чрезвычайно метко у Фадеева указание, что по языку и стилю «Что делать?» ближе всего к писателю, которого Чернышевский должен был считать своим злейшим врагом – к Достоевскому. «Разночинская манера выражаться», – замечает Фадеев.
Об Эртеле, авторе «Гардениных»:
«…У нас его не считают классиком, а так, писателем третьего, а может быть и четвертого разряда. Мамин-Сибиряк считается повыше. И мало кто знает Эртеля».
Да, это действительно так, до сих пор, – несмотря на отзыв Толстого, несмотря на очень высокую оценку, которую в своих «Воспоминаниях» дал Эртелю Бунин, вообще-то мало кого одобрявший. «Гарденины» – роман неровный, далеко не безупречно скроенный, со множеством утомительных подробностей, о коннозаводстве и о другом. Но некоторые страницы удивительны в своей картинности, в психологической правдивости и почти достойны Толстого. Вспоминаю разговор с Алдановым об эртелевском романе. Алданов им восхищался, но когда я сказал «местами почти Толстой», замахал руками:
– Что вы, что вы! Не надо так преувеличивать!
Спорить я не стал. Для Алданова не было в мире писателя, которого можно было бы с Толстым, – со «Львом Николаевичем», как неизменно говорил он в последнее время, – сравнить, даже прибавив слово «почти».
О Чехове: «это несомненно один из самых чудесных писателей на земле». Хочется ответить: верно, правильно, в самом деле «один из самых чудесных»! Но тут же Фадеев добавляет: «Вряд ли Горький с чисто профессиональной точки зрения писатель более крупный».
Вряд ли! Да кто же, находясь в здравом уме и твердой памяти, способен насчет этого колебаться? Пусть даже Горький и «героический» писатель, как указывает Фадеев, – можно ли считать это решающим достоинством по сравнению с душевной стыдливостью и скромностью Чехова? Ведь если и есть у Горького что-либо хорошее, долговечное, – автобиографическая трилогия, отдельные рассказы, такие, например, как «Страстимордасти», – то именно в этих вещах всякая героика отсутствует, и наоборот, там, где Горький «героичен», там не брезгает он и грошовыми ходулями. Разумеется, в Москве говорить об этом не полагается, и, кажется, один только Виктор Шкловский в своем «Гамбургском счете», книге остроумной и кое-где блестящей, решился высказать сомнение в праве Горького на место в первом ряду русской литературы. Но книга эта и изъята из обращения.
В общем, подводя итоги, следует сказать, что «Субъективные заметки» Фадеева не всегда и не везде действительно «субъективны». Не обошлось в них и без казенных прописей. Но читать их все же интересно, – как интересно беседовать с умным и знающим свое дело человеком, если даже он и обрывает самые личные, самые важные свои мысли на полуслове.









































