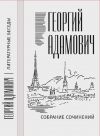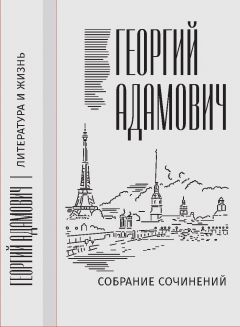
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Пьесы Чехова
В западной критике, среди западных ценителей литературы и искусства, притом как будто наиболее взыскательных, насчет чеховских пьес разногласий нет: пьесы эти причислены к «шедеврам», автор их признан великим драматургом, и если сравнения его с Шекспиром звучат все-таки и на Западе парадоксально, то, например, с Ибсеном сопоставляют его постоянно, порой даже отдавая ему предпочтение. Томас Манн сказал в одной из своих последних книг, что если нужно было бы искать доказательства упадка культуры и одичания современного человечества, он сослался бы на безразличие к Ибсену: «Дикая утка» или «Росмерсхольм» будто бы считаются в наши дни драмами «несколько устарелыми» и не делают полных сборов. Об этом я вспомнил мимоходом, только потому, что замечание Манна представляется мне глубоко справедливым и верным. Чеховские пьесы, однако, делают в западных странах сборы полные и вызывают восторг именно у тех людей, которые одобрение всего передового считают своей обязанностью и даже миссией.
У нас, русских, отношение к пьесам Чехова не вполне таково. Думаю, все мы могли бы сойтись на том, что в нашей драматической литературе есть две бесспорные вершины – «Горе от ума» и «Ревизор». Остальное, не исключая, конечно и Островского, все-таки значительно ниже и в «золотой фонд» нашей литературы включено без колебаний быть не может[39]39
Впрочем некоторые расхождения возникают и тут. Алданов, например, утверждал, что лучшее достояние русской драматической литературы – первые два действия «Плодов просвещения». В печати он этого не высказал, вероятно, просто потому, что не представилось случая, но в частных беседах говорил об этом не раз и с большой настойчивостью. Должен признаться, что «Плодов просвещения» я давно не перечитывал и личного мнения поэтому не имею. По памяти, однако, мне кажется, что с «Ревизором» или «Женитьбой» толстовскую комедию нельзя и сравнивать. Ходасевич утверждал в статье о Грибоедове, перепечатанной в его посмертном, не так давно вышедшем, сборнике, что в «Горе от ума» – «нет поэзии». Не понимаю, как при своем слухе и чутье к стихам мог он это сказать. Воспоминания – как острый нож они! Если бы даже в «Горе от ума» был только один этот, расиновски-величавый, расиновски-горестный стих, то и тогда следовало бы признать автора его подлинным поэтом. А ведь цитат можно было бы сделать много, и они были бы одна другой убедительнее!
[Закрыть]*.
Вопрос о Чехове и о том, почему иностранцев пьесы его восхищают сильнее, чем нас, есть, в сущности, вопрос об иностранных и иноязычных суждениях вообще. В истории литературы это случай далеко не единственный. Мопассан, например, у нас был оценен очень высоко, в частности, тем же Чеховым, а во Франции считается писателем второстепенным и плоским. Вспомнить можно и Байрона, которого великим поэтом признал весь мир, за исключением его родины. (За последнее время в Англии намечается нечто вроде пересмотра «дела о Байроне» и протеста против беспощадного приговора, вынесенного сто лет тому назад Суинберном. Но и это возрождающееся внимание к Байрону вызвано скорей его необыкновенной личностью, его необыкновенным умом, сквозящим в каждой строчке его писем, чем самой его поэзией.)
Пьесы Чехова до революции возбуждали восторги и в России. Их любят и в нынешней России, хотя, по-видимому, без того «обожания», которое окружало их когда-то, любят спокойнее и трезвее. А может быть, и холоднее. Однако все чаще приходится встречать людей, которые окончательно пьесы эти разлюбили и с удивлением вспоминают времена, когда со слезами на глазах слушали в Художественном театре то, что теперь представляется им слащавой риторикой.
Если не ошибаюсь, первым во всеуслышание об этом заговорил Бунин. Он Чехова хорошо знал, очень любил его как человека, рассказами и повестями его неизменно восхищался, а о некоторых из них («В овраге», «Архиерей») сказал, что принадлежат они к драгоценнейшим сокровищам не только русской, а мировой литературы вообще. Но чеховских пьес он терпеть не мог и признался даже, что при мысли о них ему за Чехова «неловко» (это сказано в его посмертной книге «О Чехове»). Сначала все удивились, многие даже вознегодовали, – в том числе покойная Кускова, дорожившая прежними своими привязанностями. Бунин был человек прямой, откровенности в суждениях не боялся, и на той памятной многим русским парижанам его лекции, где он на Чехова за его пьесы обрушился, недоумения и огорчения в публике было немало. Но по существу Бунин сказал правду, ту правду, которая рано или поздно должна стать окончательно очевидной.
В пьесах Чехова есть порок, которого ни затушевать, ни загладить не могут никакие их достоинства: ни мастерство диалога, ни удивительное умение скрыть драматическое напряжение действия за будто бы ничего не значащими словами. Достоинств в этих пьесах много. Но что в них несносно, это их лиризм, их назойливая чувствительность вперемежку с неврастеническими шуточками вроде «многоуважаемого шкапа». У французов есть чудесное, непереводимое слово «sensiblerie». Однако ни в «Дяде Ване» с заключительным монологом о «небе в алмазах», ни в «Вишневом саду» со «шкапом» или обращением Ани к матери – «Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» – по-видимому, тут они ее не улавливают и не чувствуют.
К Чехову мы вправе предъявлять очень большие требования, – потому что это очень большой писатель. Но в литературе, которая создала Пушкина и Толстого, в литературе, которая приучила нас болезненно отзываться на всякую фальшь или «педаль», нельзя вынести стихотворений в прозе о «небе в алмазах» и невозможно отнестись к ним иначе, как к досадному эпизоду. Будто ножом кто-то водит по стеклу, и ведь кто водит, – Чехов, в рассказах своих правдивейший из правдивых! Слово «эпизод» я употребил умышленно: конечно, все это связано с эпохой, с так называемым «безвременьем», со скукой и тоской устоявшегося провинциального быта, со смутными и страшными предчувствиями, с музыкой Чайковского и полотнами Левитана. Это – кусок России, кусок печальной русской истории, и в конце концов можно понять Кускову, т. е. понять, что ей стало обидно за разрушаемые иллюзии, – тем более в годы, когда былые наши «ценности» самой судьбой было велено нам хранить и охранять. Но иллюзии для того ведь и существуют, чтобы рано или поздно с ними расстаться, а в «ценностях» надо отличать настоящие от поддельных.
Как мог Чехов допустить в пьесах своих то, чего нет ни в одном его рассказе? Ведь рассказы эти – чудо сдержанности, душевного целомудрия, эмоциональной чистоты, скромности, затаенного мужества, проницательности, – и какая это редчайшая прелесть, чеховские рассказы: не говоря уж об «Архиерее» или «В овраге», но и «Крыжовник», «Ионыч», «Дама с собачкой», наконец несравненная «Душечка», прочитав которую, Лев Толстой сказал, что после нее «поумнел»! Откуда же в пьесах ходули, откуда дешевка чувств и настроений? Ответ, по-видимому, в том, что Чехов поддался влиянию театральной среды или, вернее, сознательно ей уступил, махнув рукой. Л.Л. Сабанеев на днях писал, что Чехов будто бы требовал от актеров насмешливой интерпретации лирических фраз в его пьесах и даже «небо в алмазах» советовал декламировать так, чтобы публика чувствовала преувеличение и шарж. С этим совпадает и то, что Чехов говорил Станиславскому о «Вишневом саде»: это будто бы не драма, а веселая комедия, чуть ли не водевиль.
Но невозможно поверить, что все это он говорил всерьез, с расчетом на то, что указания его будут приняты к исполнению, как соответствующие его замыслу. Гораздо правдоподобнее предположить, что по своей привычке он прятался за шутку, скрывая свои действительные мысли. По всей вероятности, ему – как позднее Бунину – было чуть-чуть «неловко» за самого себя, когда он «Трех сестер» или «Вишневый сад» писал, а в особенности, присутствуя при спектаклях и слушая во взвинченном и приподнятом актерском исполнении (актерам, к сожалению, почти никогда не бывает «неловко»!) вздохи Раневской или Сони. Ему, вероятно, хотелось что-то исправить, подсушить, подчистить, и он на крайность готов был придать оттенок смехотворный тому, что имеет оттенок слезливый. Скажу даже решительнее: судя по чеховским рассказам, нельзя и сомневаться, что именно таковы были его чувства. В рассказах безошибочно угадывается автор, и автор этот – совсем другой человек, чем тот, который предстает в пьесах. И художник другой.
Мне могут возразить, что касаюсь я только одной стороны чеховских пьес, и забываю о том, что в них хорошо. Возражение было бы правильно, если бы общий склад этих пьес не отражался на их бесспорных достоинствах и даже на их новизне. Действительно, способность воспроизвести всю бестолочь и боль существования под обманчивым покровом банальнейшей обыденщины, способность создать драму «из ничего», – как сказал бы Шестов, – и дать почувствовать, что это драма не выдуманная, а подлинная, у Чехова замечательна и до него о возможности подобного драматического стиля мало кто догадывался. Но как жаль, что, вызвав боль, он тут же счел нужным прибегнуть к хлороформу в виде сладких, «красивых» и нежных слов, от которых человека, в забытье не впавшего, мало-помалу начинает мутить.
Отчего этого не чувствуют иностранцы? Лично я уверен, что по-настоящему понять, или именно «почувствовать» писателя можно только при одном условии: его язык должен быть твоим родным языком. В речи есть основные тона и есть бесчисленные, тончайшие обертона: первые доступны каждому, они могут уцелеть и в переводе, но уловить вторые можно лишь при немедленном, безошибочном усвоении малейших интонаций и всего того, что таится за словами или осталось не вполне высказанным. Дает себя знать и различие в общем характере культур, в навыках, в притяжениях, в отталкиваниях, – особенно при сравнении русских, по Ницше, «самым неклассическим народом в мире», с французами.
Что же скрывать, нам, при всем нашем «варварстве», хочется иногда усмехнуться над тем, что нравится французам, – и наоборот. Лет двадцать пять тому назад, например, в парижском театре Питоевых шли «Евреи», драма Чирикова. И сама пьеса, и игра, и постановка были с русской точки зрения таковы, что мне казалось, будто я внезапно перенесся в доброе старое время и нахожусь где-нибудь в Рязани или в Чухломе. Между тем зрители-французы, представители нации с блистательными, трехсотлетними театральными традициями, в антрактах глубокомысленно обсуждали спектакль, качали головами, одобряли, словом были, по-видимому, того мнения, что спектакль достоин репутации Питоевых как театральных новаторов. А француз, побывавший прошлым летом в Москве, с изумлением рассказывал мне об идущих там «с аншлагом» представлениях «Сирано де Бержерака»: с изумлением, потому что не мог понять, чем эта трескучая и пустая французская комедия, впрочем <недурно написанная, москви>чей прельщает и почему она кажется им образцом для подражания! С тем же изумлением говорил он и о включении в московский репертуар пьес Скриба, которого даже в самой глухой французской провинции больше полувека никто уже не играет. Чириков в Париже. Ростан и Скриб в Москве – по существу явления одного и того же порядка (с той только разницей, скажу мимоходом, что Ростан и Скриб все-таки лучше Чирикова, и московская близорукость, значит, понятнее парижской). Но близорукость, изменяясь в степени, сама по себе неизбежна.
Во всяком случае, иностранцы, как бы ни были они авторитетны, знамениты и влиятельны, нам в наших русских делах – не указ. По патриотической слабости нам может иногда быть приятно, что чеховские пьесы идут в лучших столичных театрах всего мира и вызывают восхищение «элиты». Но усомниться в своем суждении мы из-за этого не можем и остаемся при своем мнении, остаемся при бунинской «неловкости», – за которую Бунин от имени великой и праведной русской литературы, – литературы с «абсолютным слухом», – достоин низкого поклона. Чехов к этой литературе принадлежит, занимает в ней одно из виднейших мест, но произведения, принесшие ему всемирную славу, – далеко не лучшие в его наследстве.
P.S. В январской книжке «Нового мира» помещен короткий рассказ В. Дудинцева «Новогодняя сказка». Обращаю на него внимание тех, кто после «Хлеба единого» утверждал, что роман этот, если и интересен, то исключительно по материалу, т. е. из-за изображения советских административных порядков. Дудинцев – талантливый, а в будущем, вероятно, и настоящий писатель, и, по-моему, это было очевидно и в «Хлебе», несмотря на шероховатости и длинноты. «Новогодняя сказка» не оставляет в его дарованиях сомнений.
По поводу Толстовского съезда в Венеции
В статье своей о чествовании Льва Толстого в Венеции Е. Ананьин-Чарский дал довольно обстоятельное представление об этом многолюдном съезде. Все же мне хочется добавить несколько слов к его отчету.
Прежде всего – о самой Венеции. Пусть, однако, читатель не пугается: я не собираюсь ее в сотый или тысячный раз «описывать», – да разве и можно Венецию описать? Пожалуй, лучшие строки о ней в нашей литературе принадлежат Тургеневу, уловившему «несказанную прелесть этого волшебного города».
«Кто Венеции не видел, тот ее не знает. Ни Каналетто, ни Гварди, не говоря уже о новейших живописцах, не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок…»
Это очень хорошо сказано, с очень верным чувством, – да и вообще, по верности и остроте чувства весь венецианский эпизод в «Накануне» относится к лучшим страницах Тургенева. Роман в целом – далеко не первоклассный, куда слабее позднейших «Отцов и детей», «Дыма» и «Нови», – да, «Нови», к которой твердо установилось у нас глубоко несправедливое отношение как к вещи слабой, будто бы свидетельствующей об «упадке таланта». Очень советую тем, кто плохо «Новь» помнит, перечитать ее, проверить традиционный взгляд на нее: книга замечательная, умная, местами истинно поэтическая, без тех несколько приторных красот, которыми Тургенев иногда грешит, – никакого «упадка» в ней нет! О «Нови» стоило бы написать как-нибудь большую статью, попытавшись объяснить и выяснить, почему ей у нас не повезло, – но сегодня останемся мысленно в Венеции, раз уж благодаря Толстому пришлось опять в ней побывать.
Это, конечно, совсем не «толстовский» город, – в том смысле, что его действительно «несказанная прелесть» не сходится с толстовским представлением о прекрасном и никак ему не соответствует. Венеция ирреальна и феерична, она – сновидение, а не город. Когда из древнего сводчатого зала на островке Сан-Джорджио, после нескольких докладов о Толстом, участники съезда выходили к пристани, – и перед ними, под бледным, будто еще весенним небом, открывалась вдалеке единственная в мире, сказочная панорама, нельзя было сразу же не почувствовать: Толстой, может быть, не против всего этого, но Толстой чужд всему этому. Его ригоризм, его максимализм, его неутолимая требовательность, что «все или ничего», плохо мирятся с тем, что в духовной плоскости таится за венецианскими миражами.
Надо, значит, выбирать! Или – или? Нет, слаб человек, и куда же всем нам угнаться за Толстым в этой готовности остаться «ни с чем», если «все» окажется недоступно: после двух-трех часов общения с толстовским духом Венеция убаюкивала, навевала «сны золотые» и как будто позволяла, а то и звала, жить, не мучая себя безответными вопросами, не ставя под сомнение всего, что в жизни мы любим.
Е. Ананьин-Чарский прав: общее впечатление от съезда было скорей смутное, временами даже хаотическое. Но к концу впечатление это сменилось другим: создалось единство, возник подъем. «О чем спорить? – как бы спрашивали себя вчерашние оппоненты. – Мы вспоминаем человека, с теми или иными утверждениями которого нам может быть не легко согласиться. Но человек этот искал света, всем людям нужного, и как никто другой знал, что такое жизнь и что такое смерть. Будем же благодарны за часы, проведенные в воспоминаниях и мыслях о нем…»
Разумеется, никто не высказал этого именно в таких выражениях. Но сквозило это в нескольких заключительных речах, – особенно отчетливо в последней речи Сальвадора де Мадариага, когда он неожиданно перешел с английского языка на французский и с передавшимся всему залу волнением обращаясь к «великой, дорогой, святой, таинственной России», говорил о свободе как о драгоценнейшем даре, который Толстым людям завещан. Мадариага был вообще одной из самых ярких фигур на конгрессе, одним из самых красноречивых его участников. Конечно, красноречие его по складу остается русским чуждо, хотя он и настаивал на духовном родстве Испании с Россией: на русский слух оно чуть-чуть слишком блестяще, чересчур декламационно, и Толстой, вероятно, поморщился бы, если бы ему повторили афоризм Мадариага, вызвавший в публике шумные, длительные рукоплескания, а у советских делегатов несколько смущенные улыбки:
– Не надо превращать ученика св. Марка в последователя св. Маркса!
Это, что и говорить, очень эффектно. Но именно Толстой отбил у нас к таким эффектам охоту и вкус.
Надо было видеть, однако, Сальвадора де Мадариага, когда один из ораторов, проф. Поджиоли, заметил, что после ряда мировых поэтов, – как Данте, Шекспир, Гёте, – Толстой был первым прозаиком мирового значения. «А Сервантес?» – вскрикнул Мадариага, будто ужаленный. Поджиоли должен был признаться, что о Сервантесе он действительно забыл.
Жаль, что нет возможности передать содержание иных докладов, – в частности, полного тончайших наблюдений и соображений доклада оксфордского профессора лорда Дэвида Сесиля, или чрезвычайно интересного сообщения Исайи Берлина, – «сэра Айзайи» для англичан, – или догадок проф. Стремоухова о том, что прототипом Вронского был поэт Алексей К. Толстой, или речи Альберто Моравиа. Доктор Сергей Толстой, внук Льва Николаевича, выступил перед самым закрытием съезда и говорил именно как внук великого писателя, делясь кое-чем из того, что знает, помнит или в семье своей слышал. Вскользь он затронул тему, для потомков Толстого болезненную, до сих пор еще возбуждающую расхождения и споры, – о Софии Андреевне, и именно как медик взял ее под свою защиту. Кстати, на съезде присутствовало несколько внуков Толстого, – в частности, Татьяна Михайловна Альбертини, дочь Татьяны Львовны, – и было отрадно убедиться в их общем благоговейном отношении к памяти деда: они поняли то, чего упорно не хотели понять некоторые из сыновей Толстого, доставившие ему под самую старость много горьких минут, и своим присутствием они как бы искупали их грехи и ошибки: «Яйца, яйца курицу учат», как говорит в «Войне и мире» старый граф Ростов.
Что сказать о советской делегации? Е. Ананьин, по-моему, не совсем основательно обрушился на доклад В. Ермилова или, вернее, высмеял его. Это был обычный советский доклад, с неизбежными ссылками на Ленина и прочими фиоритурами, но без той агрессивности, которой можно было ждать, и без стремления убедить слушателей, что только в Москве Толстого правильно понимают и по-настоящему чтут. Доклад этот вызвал, однако, довольно страстную реплику Марка Слонима, – что и привело к единственному «инциденту» на съезде. Ермилов ответил Слониму с не меньшим задором, но на следующий день другой советский делегат Г. Марков, секретарь Союза писателей, пролил на «бунтующее море» елей, заявив, что мы собрались, мол, сюда не для политической перебранки, что мы чествуем великого гения, что Толстой всех должен бы объединить – и так далее. Слоним не возражал. Ермилов сочувственно и сокрушенно качал головой, на том дело и кончилось.
Самым любопытным советским выступлением был доклад проф. Гудзия, редактора полного, девяностотомного собрания сочинений Толстого: он привел множество примеров тех исправлений, которые в этом издании делаются для восстановления подлинного авторского текста, подвергшегося различным искажениям, – в частности, со стороны Софии Андреевны, вычеркивавшей слова, которые казались ей «непристойными».
В организации съезда был порок: слишком много докладов, следовавших один за другим, слишком мало времени для общей беседы. Беседа возникала в перерывах, или до начала и после конца заседаний, в чудесно-гармоническом по линиям четырехугольном монастырском садике – дворике, обнесенном легкой колоннадой. Кто-то, – если не ошибаюсь, Дос Пассос, знаменитый американский романист, – с усмешкой спросил среди группы делегатов:
– А что сказал бы сам Толстой, если бы послушал все то, что здесь о нем говорится?
Несомненно, – замечу от себя, – Толстой пожал бы плечами и сказал бы, что заниматься следует делом, а не пустяками, – как приблизительно сказал он это Тургеневу, когда тот звал его в Москву на пушкинские торжества. Но что же тешить себя иллюзиями, все мы всю жизнь занимаемся «пустяками», а на тех пустяках, которыми в течение четырех дней заняты мы были в Венеции, по крайней мере играл отблеск толстовского великого и облагораживающего духа.
По поводу одной из глав «Воскресения»
Есть у некоторых, даже самых великих и любимых писателей страницы и строки, которые хочется забыть. Но правде надо смотреть в глаза, и не к чему от нее отмахиваться, будто то, что нам не по душе, не имеет и значения.
Есть такие строки, например, у Пушкина. Его чудесная легенда о рыцаре бедном, «Жил на свете…», одно из прекраснейших стихотворений когда-либо человеком написанных, по счастью, сохранилось в нашей памяти без тех шутливых, будто Вольтером навеянных строф, которые не могли быть пропущены цензурой. Редкий случай: цензура, сама того не сознавая, была на этот раз в союзе с духом русской поэзии. Но Пушкин-то написал то, что написал, и редакторы новейших изданий бесспорно правы, восстанавливая полный текст его стихотворения.
Не так давно в «Русской мысли» Юрий Терапиано привел в выдержках страницу из «Воскресения», относящуюся к православной обедне, – страницу, давшую Победоносцеву непосредственный повод к отлучению Толстого от Церкви (хотя другим, скрытым поводом было, вероятно, то, что Победоносцев, читая «Воскресение», узнал себя в Топорове: портрет достаточно ярок, не узнать было трудно!) Конечно, я эту страницу помнил. Помню даже свой разговор с Алдановым в одну из последних моих с ним встреч: он возражал на мои отрицательные замечания, касаясь, впрочем, только литературной стороны дела и восхищаясь силой, с какой вся эта глава написана. Об этом спорить было невозможно: Толстой остался Толстым и в семьдесят лет, когда над «Воскресением» работал. А все же глава эта крайне тягостна, – и перечитывая ее, я вновь, чуть ли не в десятый раз, тягость эту испытал, как, не сомневаюсь, испытали ее и многие, многие другие. Зачем Толстой это написал? – спрашиваешь себя. Если даже он был к предмету своих насмешек безразличен, как мог он не подумать о людях, для которых они оскорбительны? Не оттолкнул ли он тех, в особенности тех «малых сих», кто, вероятно, сочувствовал ему в его поисках нравственной правды? Зачем, зачем он эту главу написал, он, сделавший больше кого бы то ни было для религиозного оживления и даже возрождения России?
Надо дать себе на эти недоумения ответ. И в этом смысле, пожалуй, даже хорошо, что цитата из «Воскресения» появилась в газетной статье, притом именно в юбилейные дни, – хотя, признаюсь, первое чувство мое было иное, т. е. мне показалось, что сделано это было напрасно и не вовремя. Нет, Толстой – не такое явление, чтобы юбилей его можно было свести к благодушной декламации о «великом писателе русской земли» или о незабываемой прелести созданных им поэтических образов, например Наташи Ростовой. Конечно, он действительно был «великим писателем русской земли» (кстати, не «земли русской», как обычно цитируется. У Тургенева было достаточно литературного вкуса, чтобы избежать напыщенно-слащавой перестановки слов: в его знаменитой предсмертной записке сказано «русской земли»). Действительно, Наташа Ростова – образ незабываемый.
Но общее, единственное значение Толстого в эти рамки не укладывается, и надо иметь мужество в него вглядеться, ничего произвольно не отметая, никаких углов не сглаживая. Надо самим себе объяснить, чем эта глава «Воскресения» внушена, надо почувствовать, какое глубокое, мощное стремление к вере, какая потребность веры за ней таится. Словом, надо понять, почему Толстой был и остается самым дорогим и величайшим русским именем, какие бы кощунства из-под пера его ни вырвались.
«О, если бы ты был холоден или горяч…», – вспоминаются мне слова из Апокалипсиса, восхитившие и потрясшие перед смертью Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах». «О, если бы ты был холоден, или горяч, но поелику ты тепел…». Толстой был страстным, даже не горячим, а огненным человеком, нетерпимым ко всякой лжи и лицемерию. Его сравнивали с библейскими пророками, и сравнение это верно. И притом родился он человеком сложнейшим, у которого рассудок был не менее требователен, чем совесть. Толстой был измучен жаждой веры, не легко ему дававшейся, но отказывался верить в то, чего не в силах был понять, – и не в пример всем нам, привычно отделывающимся фразами о тайнах и неисповедимых путях, нам, готовым верить с чужих слов, по чужим свидетельствам, Толстой бился головой о стену, ища мира для своего вечно встревоженного сознания. В «Критике догматического богословия» есть у него удивительная страница, написанная в связи с догматом Троичности, решительно им отвергаемым. С формальной точки зрения это страница тоже кощунственная, но неужели найдется кто-нибудь, кто не согласится, что только человек с душой библейского пророка мог обратить к Богу слова полные такого отчаяния?
«Вот, тот непостижимый, но существующий, тот, по воле которого я живу. Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал Тебя! Я чувствовал Тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв Тебя. Но Ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищу теперь одного: приблизиться к Тебе, понять Тебя, насколько это возможно мне. Помоги мне, научи меня!.. Ты, Бог любви и правды, приблизь меня к себе, открой мне все, что я могу понять о себе, и о Тебе».
Тут же Толстой говорит, объясняя свою неспособность верить в то, что ему непонятно: «Не мог Бог велеть мне верить! Ведь я не верю именно потому, что я люблю, чту и боюсь Бога. Я боюсь поверить лжи, окружающей нас, и потерять Бога», – и неужели найдется кто-нибудь, кто не почувствует, что даже восставая на один из основных христианских догматов, Толстой все же имел право это сказать? И что, как пишет где-то Лев Шестов (если не ошибаюсь, ссылаясь на Гегеля) – «Богу иная хула должна быть сладостнее славословия». Да впрочем, здесь и нет хулы на Бога: замечательно и достойно самого пристального внимания, что богохульства у Толстого нет нигде. Есть лишь то, что можно определить как кощунство, относящееся к церковным установлениям, обрядам, догматам. Но никогда Толстой не идет дальше, выше, – как делают это некоторые другие великие писатели, которым это гораздо легче прощалось: вероятно, потому прощалось и прощается до сих пор, что они менее страстны, менее прямолинейны и меньше мешают нам беспечно жить-поживать. Они для нас союзники, и это нам льстит. А Толстой – обличитель и мы рады поймать его на поступке, позволяющем и нам стать в обличительную позу.
Но за обедней в «Воскресении» есть не только рассудочное отталкивание от обрядов и таинств. Есть и другое.
Толстой принял в христианстве мораль, отвергнув его метафизику. Однако мораль он принял полностью, и гнев свой, возмущение свое обратил на тех, кто в истолковании Евангелия, а еще больше в согласовании жизни с евангельской проповедью склонен идти на компромиссы. «Христос сказал то, что сказал», – настойчиво повторял Толстой, отказываясь понять, как могут служители Христа молчаливо потворствовать делам, а то и благословлять дела, явно идущие вразрез с Его учением. Между тем… но тут я принужден поставить многоточие, так как иначе пришлось бы исписать множество страниц. Да кто же и без этого не понимает, что Церковь, бывшая частью государства, не могла соблюсти чистоту евангельского учения? Кто же не знает, что именно этот разлад оказался одной из главных причин возникновения русского сектантства в различных его видах и формах и что были у нас и духовные лица, которых этот разлад смущал, искушал и мучил? Но это – исключения. Обыкновенные, рядовые люди только вздыхали, сознавая свое малодушие и свое бессилие из порочного круга выйти, рядовые люди сокрушались: «да, да, конечно… но что же делать?», а Толстой, человек не рядовой, был потрясен противоречием слов и дел, и чем больше было показной верности Евангелию на словах, тем он яростнее вскрывал отпадение дел от того, чем быть им следовало бы. Именно этим больше всего и была продиктована обедня в «Воскресении»: несговорчивая рассудочность – само собой, но основным, коренным была боль за Истину, боль и ужас при виде пышной, величавой, но механически-привычной обрядности, прикрывавшей – как Толстому представлялось – безразличие к живому смыслу евангельской проповеди и даже отвлекавшей от нее внимание.
Да, вырванная из всего, что Толстой писал, и вообще из того, что он, как духовное явление, собой представлял, глава эта тягостна, – и речь ведь вовсе не о том, чтобы ее возвеличивать или оправдывать. Нет, но надо понять, что такое Толстой в целом, чтобы отнестись к ней как к выпаду человека, которому в долгих и мучительных поисках «божественной правды» случалось и сбиваться с пути. «О, если бы ты был холоден или горяч», – вспоминаю еще раз. Теплые с пути не сбиваются. По счастью, и в среде служителей русской Церкви все больше теперь людей, которые находят в себе силы Толстого оценить и верят, что если по каноническим мерилам он и погубил свою душу, то по другим, неписанным заповедям, может быть, спас ее. Недаром же именно об этом, о возможности такого спасения таинственно и настойчиво говорит книга, одинаково дорогая и ему, и им.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?