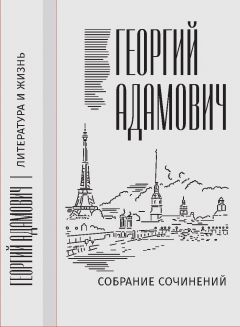
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нельзя, конечно, свое представление о поэтическом творчестве считать для всех обязательным. Но по существу, несколько насмешливое и недоверчивое отношение таких людей, как Алданов, к поэзии вообще внушено именно огромным преобладанием легких ее образцов, беспечностью и безответственностью самозваных, мнимых Моцартов, не чувствующих, как мало в нашей жизни поводов для истинного вдохновения и как в ней мало для него места.
Однако было бы с моей стороны опрометчиво в этот разлад дальше и глубже сейчас вмешиваться. Если я его коснулся, то лишь потому, что совсем обойдя его, понять что-либо существенное в Алданове было бы трудно. Думаю, что трудно было бы понять в нем что-либо существенное и если бы задержаться на разборе отдельных его романов, на характеристике героев, анализе приемов, всего того, что предлагается в учебниках по литературе. Разумеется, это имеет значение: не очень большое, но имеет! Самое важное, однако, то, что остается в памяти как вывод, как итог, что выделяется из творчества как дух и сущность его, когда все мелочи, все частности забыты. Если не выделяется ничего, то как бы ни был человек даровит, все-таки он – не настоящий писатель, а только рассказчик, помогающий «убить время». Алданов это испытание во всяком случае выдерживает.
Что же выделяется из его книг, что осталось в сознании как общее, никакими случайностями не замутненное впечатление? Прежде всего, прочнее всего – облик человека, к кому библейские слова о «образе и подобии», по которому созданы были люди, могут быть применены полностью, без иронии, как бы мало он о Библии сам ни думал. Осталось воспоминание о спокойной и верной дружественности, внимательной и твердой, о сердечности без малейшей слащавости, без громких слов, осталось в памяти приглашение жить без надежд на какие-либо чудеса, но зато и без риска растерять ради этих проблематических и недостижимых чудес то немногое, что мы могли бы сберечь и что может нашу жизнь, скрасить, может притупить в ней ту ее боль, которую Алданов, по-видимому, всем своим существом чувствовал, хотя никогда о ней и не говорил. «Трудна работа Господня», – сказал, умирая, Влад. Соловьев. Имени Алданов не повторил бы, но «трудна работа человеческая», думаю, сказал бы, – с уверенностью, что каждый по мере сил и на своем месте должен эту работу делать, никакой награды не ожидая, кроме той, которую найдет в самом себе и в памяти друзей.
«Современные записки» Воспоминания М.В. Вишняка
Нельзя всем угодить, – ни в литературе, ни в жизни. За двадцать лет существования «Современных записок» не было, вероятно, ни одного человека, который, одобрив журнал в общем, не сделал бы какой-нибудь оговорки, не добавил бы к похвалам какого-либо «но». Одни считали, что в журнале слишком много политики, другие – что ее недостаточно, одни хмурились на чрезмерную левизну этой политики, другие на будто бы все усиливавшиеся уступки вправо. Слышались упреки в том, что журнал мало-помалу становится похож на епархиальные ведомости, и наоборот, в том, что он не учитывает всего значения православия в развитии русской культуры. Поэты негодовали на пренебрежительное отношение к поэзии. Некоторые беллетристы – как Осоргин – удивлялись, что в двадцатом веке редакция серьезного «толстого» журнала может еще уделять место такому вздору, как стихи.
Иначе и быть не могло. Еще раз скажу: на всех не угодишь! Даже в советской России, где единомыслие возведено в верховный общественный принцип, нет журнала, который не вызывал бы нареканий и критики. При свободе же мнений, взглядов и вкусов, недовольство одних тем, что нравится другим, неизбежно, подразумевается само собой и как бы входит в программу журнала. Слава Богу, что это так, и будем надеяться, что времена, когда все со всеми окажутся согласны, еще далеки…
Но «Современные записки» давно уже – семнадцать лет тому назад – прекратили свое существование. За двумя-тремя исключениями все главнейшие их сотрудники – на том свете. Былые страсти улеглись. Былые обиды забыты, – в частности, думаю, со стороны тех «молодых», – «незамеченного поколения», по терминологии В. Варшавского, – которые горько жаловались на отсутствие внимания к ним. Оглядываясь на прошлое, перебирая в руках и перелистывая семьдесят книжек «Современных записок», всякий теперь скажет с еще большей уверенностью, чем прежде: хороший был журнал, сделавший очень большое, очень нужное дело, отстоявший честь русской эмиграции!
Нельзя считать его исчерпывающим, идеально-полным, безупречно-справедливым и безупречно-чутким в выборе материала, нельзя утверждать, что умственная жизнь эмиграции отражена в нем целиком. Но помянуть добрым словом русский журнал, который был убежищем духа свободы в годы, когда в России свобода духа была объявлена глупой выдумкой или преступлением, надо, и хочется сделать это без всякой натяжки, без малейшего насилия над собой, с благодарностью от обоих поколений, застигнутых революцией, и замеченного, и «незамеченного». Если «незамеченному» дорого не столько оно само, не столько его личные успехи и личное признание, сколько нечто «надличное», к доброму слову присоединится оно наверно.
М.В. Вишняк, последний оставшийся в живых из редакторов «Современных записок», написал интереснейшие воспоминания о журнале: о его возникновении, о трудностях, связанных с его изданием, о редакционной жизни, о некоторых сотрудниках. Зная обычный склад писаний Вишняка, его нетерпимую, прирожденно-полемическую натуру, я ждал, что и рассказ его о журнале окажется страстным и запальчивым. Сводить какие-либо счеты было бы поздно, и этого, конечно, в воспоминаниях Вишняка оказаться не могло бы. Но ведь и благодушие, казалось, ему тоже не свойственно, а между тем в книге о «Современных записках» разлито именно благодушие, будто автор растроган воспоминаниями о любимом своем детище, – доставлявшем, кстати, ему столько хлопот, – и настроен примирительно ко всему, что когда-то его раздражало.
Совершенно верно указано в издательском предисловии, что книга эта – «ценнейший вклад в литературу о русской интеллигенции». Все пять редакторов журнала были плотью от плоти русской интеллигенции, все связаны были с самым трагическим периодом в ее существовании, и даже незначительные их расхождения, отразившиеся на составлении той или иной книжки журнала, в этом отношении характерны. «Дождались!» – иронически воскликнул в октябре 1917 года один из немногих умных русских реакционеров по адресу русской интеллигенции. В «Современных записках» для историка ценно и интересно будет проследить, как к этому «дождались!» отнеслись потомки тех, кто в течение целого столетия «ждали», – и как они восприняли сбившую все их надежды «неожиданность».
Мережковский, Гиппиус, Степун, Шмелев, Осоргин, Ходасевич, Федотов, – не называя деятелей чисто политических, – обрисованы в книге быстрыми, легкими штрихами, и, в общем, с желанием найти в каждом из них скорей хорошее, чем плохое («симпатическим карандашом», – сказал бы Добролюбов). Однако, несмотря на «симпатический карандаш», рассказ Вишняка кое-где производит впечатление тягостное: в частности, на тех страницах, где он вспоминает о писательском местничестве, о претензиях, о вспышках самомнения, порой мало на чем основанного, о хлопотах по устройству благоприятных рецензий и о прочем в том же роде. Не хочу на этом останавливаться: к сожалению, «так было, так будет» – и приходится утешаться лишь тем, что были и будут и исключения.
Из характеристик, данных ближайшим друзьям автора, особенно ярка, – и лично меня, признаюсь, особенно заинтересовала, – характеристика Фондаминского-Бунакова. Помню, когда-то покойный Алданов сказал, что если бы ему надо было посоветоваться по какому-нибудь важнейшему для него делу, то отправился бы он к Фондаминскому, ни к кому другому. Алданов чрезвычайно высоко ценил Фондаминского, считал его умнейшим и даровитейшим человеком, и, между прочим, сетовал на Варшавского за то, что тот в своем «Незамеченном поколении» отнесся к нему скорей скептически. По-видимому, таково же, т. е. близко к мнению алдановскому, и мнение Вишняка.
Лично я довольно часто встречался с Фондаминским, хотя ни в коем случае не был бы в праве причислить себя к его друзьям. Мне он всегда представлялся человеком приятным, – даже, если угодно, «во всех отношениях», – порывистым, отзывчивым, постоянно склонным к энтузиазму, но не без примеси какого-то душевного сахарина: человеком не очень значительным, в конце концов, и далеко не столь талантливым, как, например, Федотов, его единомышленник и соратник в попытках создать живую «пореволюционную идеологию». Даже в качестве оратора: по привычке, или, может быть, по инерции о Фондаминском неизменно говорят, как об ораторе «блестящем», «неотразимом». Но, правду сказать, он на эстраде всегда напоминал мне открытый кран: вода хлещет гладко, ровно, если крана не закрыть, будет хлестать час, два часа, два дня, без остановки! Ни сучка, ни задоринки в речи: горящие глаза, эффектные, округленные периоды, широкие жесты, – но и только! Дар слова был очевиден, но дар какой-то никчемный, слишком легкий, пресный, и притом самому оратору доставлявший явное удовольствие. Да и самые мысли Фондаминского были «без сучка, без задоринки», и ни глубины, ни оригинальности в них было не найти. Может быть, была глубина чувства? Может быть, бессилие выразить то, что жило в его сознании, и вообще некоторая бескостность Фондаминского, зыбкость его душевных очертаний, предавали его? Может быть, надо было знать его ближе, с глазу на глаз, чтобы полностью оценить? Охотно допускаю это. Свидетельство друзей, тех, для кого он, как для Вишняка, был «милым и дорогим Илюшей», в этом отношении очень важно, – тем более, что поведение и смерть Фондаминского во время немецкой оккупации заставляют верить в справедливость оценки его, как личности замечательной и даже героической.
Довольно много говорит Вишняк о журнале, который был «Современным запискам» открыто враждебен, – о «Верстах». Мимоходом упоминает о «Числах».
Приводит он, между прочим, и выдержку из письма Петра Струве, где тот, в связи с появлением в «Числах» статьи Франка, говорит:
«Быть отвергнутыми “Современными записками” и попасть в “Россию и славянство” – это какое-то идейное расхождение, перейти же из “Современных записок” в “Числа” не имеет вовсе такого значения и есть только переход в худшее помещение».
Утверждение это, впрочем, для печати не предназначавшееся, голословно и неверно в корне, поскольку слову «значение» придан в нем исключительно политический смысл. Петру Струве «Числа» не могли и не должны были нравиться, это ясно само собой. Но сколько бы ни было у этого журнала недостатков, говорить, что это – те же «Современные записки», только в худшем виде, нельзя, не искажая истины. Вишняк, не сомневаюсь, прекрасно это знает, и было бы лучше, если бы к словам Струве он добавил несколько слов от себя, хотя бы ради «объективности».
К «Числам» я имел близкое отношение и могу засвидетельствовать, что возникновение их вызвало у тогдашней литературной молодежи подлинный энтузиазм. Не в том было дело, что в «Современных записках» охотнее печатали Кизеветтера, чем, скажем, Поплавского, а в том, что «Современные записки» хотели, главным образом, охранить русскую культуру, «Числа» же хотели ее развить и продолжить. Молодежь, те, которых З. Гиппиус, впрочем, и тогда уже называла «подстарками» – что сказала бы она теперь! – это сразу почувствовала, сразу на это отозвалась и в самое понятие эмиграции попыталась вдохнуть содержание творческое, что «Современным запискам» было, в сущности, чуждо.
Ошибки были допущены и там, и здесь, – кто же станет это отрицать? Но и «Числа» сделали в свое время очень нужное дело, в частности, стремясь обогатить русскую культуру плодами долгого пребывания на Западе, использовать несчастие беженства как нечто такое, что в конце концов может обернуться России на пользу. Шмелевская «Няня из Москвы», например, – независимо от ее литературных достоинств – ни в коем случае не могла бы в «Числах» появиться, и если я на отдельное произведение ссылаюсь, то с целью подчеркнуть, как отталкивались «Числа» в духовной окраске понятия культуры от многого, многого, что поколение предыдущее принимало беспрепятственно и даже им наслаждалось.
Кстати, если не ошибаюсь, эта «Няня из Москвы» была Петром Струве высоко оценена. А у некоторых сотрудников «Чисел» ее вызывающе российский, «квасной» стиль и склад возбуждал содрогание и глубочайшую скуку, хотя никто из них не был настолько слеп, чтоб отрицать у Шмелева большой и подлинный талант.
Долго было бы теперь обо всем этом толковать. Доверимся приговору «будущего историка», лица проблематического, который, может быть, и займется когда-нибудь нашими здешними спорами и разногласиями. Думаю, что по справедливости он признает за «Современными записками» первое и почетнейшее место в эмигрантской печати, если уж непременно понадобится ему устанавливать некую табель о рангах. Но не признает их изданием единственным, т. е. таким, по сравнению с которым никакие другие журналы ничего существенно отличного не дали.
А книгу Вишняка он прочтет с увлечением и великой для себя пользой. Жаль только, что нельзя передать ему несколько ее экземпляров, поля которых мы испещрили бы своими добавлениями, примечаниями, соображениями, возражениями, а то и «вопросительным крючком», как Онегин.
Судьба Иннокентия Анненского
Не так давно в «Русской мысли» Ю.К. Терапиано напомнил об Иннокентии Анненском и даже привел целый ряд его стихотворений. Было это и своевременно и полезно, да и перечитать эти удивительные, несравненно-своеобразные стихи было отрадно. Говорю «перечитать», хотя знаю наверно, что есть в Париже десять – пятнадцать человек, к которым слово это не применимо: с первой произнесенной строки они могли бы продолжить каждое стихотворение наизусть. Но ни «Кипарисового ларца», ни «Тихих песен», ни других книг Анненского в продаже нет, а еще далеко не всем любителям и ценителям поэзии Анненский врезался в память с достаточной силой. Перепечаткой если и не следует злоупотреблять, то в исключительных случаях ее можно только приветствовать. А Иннокентий Анненский и его судьба в русской литературе – случай именно исключительный.
«Кипарисовый ларец», основной сборник Анненского, – книга посмертная. До ее появления почти никто Анненского большим поэтом не считал. Был он довольно значительным чиновником Министерства народного просвещения, и в некрологе, помещенном в журнале этого министерства, указывалось, что «покойный был не чужд изящной словесности и отдавал ей свои досуги». Нельзя сказать, чтобы «Кипарисовый ларец» сразу произвел очень большое, очень сильное впечатление. Нет, тогдашний поэтический диктатор, – впрочем, уже начавший сдавать свои позиции, – Брюсов, человек, который мог «опрокинуть свою чернильницу на любую поэтическую репутацию», дал о сборнике отзыв холодновато-одобрительный, с признанием достоинств, но достоинств ограниченных, пожалуй, слишком изысканных и хрупких, относящихся скорей к области «любопытного», чем «замечательного». Гораздо выше оценил книгу Вячеслав Иванов, однако поколебать общее представление об Анненском не удалось и ему: чудак, одиночка, эстет, дилетант, чуть-чуть сноб и притом «совершеннейший истукан», как много позднее говорил мне Бунин, встречавшийся с ним в Крыму. В «Русском богатстве» был другой Анненский, более знаменитый, – Николай Федорович. Для большинства русских журналистов и критиков Иннокентий Федорович был всего только «братом Николая Федоровича».
Но произошло нечто неожиданное: несколько молодых людей, – преимущественно поэтов, и скорей петербургских, чем московских, – подлинно «влюбились» в стихи Анненского, оказались заворожены, загипнотизированы ими, бредили ими, ничего не могли после них читать. О подражании не было речи: пожалуй, у Анны Ахматовой какие-то следы подражания можно было найти, но у других – нет. Возник культ, но не было ученичества. Гумилев этот культ возглавил, хотя по существу трудно было бы назвать поэта, который и формально, и внутренне был бы Анненскому более чужд, чем он. Но Анненский был петербургским открытием, петербургской находкой, и Гумилев, уже мечтавший о том, чтобы сменить москвича-Брюсова на диктаторском посту, не мог таким козырем пренебречь. Правда, Анненский считал себя символистом, но самый символизм был у него особый, как бы вещественный, без романтически-беспредметных туманностей, Гумилеву враждебных, и привлечь его в союзники можно было без слишком большой натяжки.
К началу революции культ окреп, расширился, или лучше было бы сказать: углубился. Образовалось то, что французы называют «une chapelle». В первые революционные годы, – до того, как «Кипарисовый ларец» был переиздан, – появились редкие рукописные экземпляры его, передававшиеся от одного к другому как драгоценность. К тому же времени относится эпизод мало кому известный: Гумилев внезапно к Анненскому охладел.
Было это в августе 1921 года, в последний раз, когда я Гумилева видел. Георгий Иванов, не сомневаюсь, помнит этот разговор и мог бы мой рассказ подтвердить: Гумилев пришел и сразу заявил, что он свое отношение к Анненскому пересмотрел, что пора сказать о нем правду, что это второстепенный, неврастенический стихотворец, а истинно великий поэт наших лет, непонятый, неоцененный – граф Комаровский. Вскоре, через несколько дней, Гумилев был арестован и погиб. Не случись этого, вполне возможно, что он, при своей страсти к литературной стратегии, предпринял бы на Анненского организованный поход, как возможно и то, что вместо Комаровского нашел бы другое «знамя»: Комаровский – явление далеко не ничтожное, но больное и темное, к роли знаменосца не подходил. Ничего достоверного об этом сказать нельзя. Достоверно лишь то, что Гумилевская «переоценка», – едва ли случайная, по-моему давно в его сознании наспевавшая, – последствий не имела.
В эмиграции культ Анненского стал одним из главных жизненных и литературных дел той же группы, которая была ему верна в Петербурге: Георгий Иванов, Николай Оцуп, Ирина Одоевцева. Мы чуть ли не каждый год устраивали вечера его памяти, говорили о нем, читали с эстрады его стихи, – не без удивления и молчаливого сопротивления со стороны тогдашней молодежи, настроенной большей частью футуристически, а также и старших, которые, как Мережковский и Гиппиус, знали об Анненском только понаслышке. Гиппиус хмурилась, пожимала плечами, считала наше увлечение капризом: «что это вы, в самом деле, все носитесь с этим Анненским, как вам не надоест!» – говорила она и нехотя взяла у меня «Кипарисовый ларец» с очевидным предвзятым намерением раскритиковать его вовсю. Экземпляр этот, к сожалению, у меня не сохранился, а может быть, и лучше для памяти Гиппиус, что он исчез: поля его сплошь были испещрены замечаниями вроде «слабо», «вяло», «ни к чему», «Боже какая безвкусица» и так далее.
Отношение Ходасевича к Анненскому было сложнее. Еще в Петербурге он прочел о нем в «Доме искусства» доклад, где довольно искусственно, но остроумно сопоставлял его с толстовским Иваном Ильичом. Но многому, очень многому у него научившись, многое взяв у него, он вместе с тем от него и отталкивался. Крайне интересно было бы провести параллель между обоими поэтами: Ходасевич как будто усовершенствовал, уточнил Анненского, поставил в его манере все точки над i, прояснил, договорил то, что у Анненского оставалось зыбко. Но именно это оказалось для него роковым. У Анненского между слов и строк гуляет какой-то сквозной ветерок, между тем как поэзия Ходасевича мучительно безвоздушна, будто захлопнуты все окна. У Ходасевича в стихах все сказано, ни о чем не умолчано, в них ничего не рвется «откуда-то» и «куда-то», – и потому они не оставляют в сознании отзвука.
Анненский, как никто другой, использовал верленовский совет искать «не краски и не цвета, а только оттенка», не бояться «некоторой ошибки в выборе слов»: не ко всякому стилю, разумеется, этот совет применим, но в прихотливейшей его поэзии, где воспоминания о Еврипиде сплетены с парижскими утонченностями и пряностями, а за ними неожиданно маячит в своей щемящей беспомощности Акакий Акакиевич Башмачкин, в прихотливейшей его поэзии это сделало чудеса! Ходасевич как будто перестарался: слишком чисто, слишком внятно и ясно, а главное-то, неуловимое-то и улетучилось.
Да, было сопротивление еще со стороны Марины Цветаевой, не сдержанное, уклончивое, как у Ходасевича, а бурно-нетерпимо-презрительное, с мнимо-снеговых вершин своего собственного вызывающего вдохновения. «Анненский? Читала и бросила. Зачем я стану его читать?» Однажды я слышал и другое ее замечание о «Кипарисовом ларце», на одном из собраний «Кочевья», устраивавшихся Слонимом: как и в случае с гиппиусовским экземпляром книги, лучше о нем забыть.
С тех пор прошло четверть века. Даже больше. За литературную судьбу Анненского бояться больше нечего и опасность, что о нем забудут, и что придется нашим правнукам вновь открывать его, по-видимому, исчезла. Случалось ведь в истории потомкам недоумевать: как могли современники быть столь близоруки и рассеяны? Сейчас – разумеется, лишь в узком кругу – сталкиваешься с другим явлением, в сущности тоже опасным: с преувеличением. Несколько лет тому назад один из тех парижских поэтов, которых мы по привычке все еще называем «молодыми», говорил мне: «нет, вы Анненского недооцениваете!» и утверждал, что он «выше Тютчева», а с Боратынским его будто бы и сравнивать смешно. Что мог я на это ответить? От себя, от имени тех своих друзей, которых назвал выше? Ведь мы на Анненском, можно сказать, все глаза проглядели, ночей из-за него не спали, жизнь свою – в литературном смысле – за него положить были готовы, – и вот теперь слышишь: «нет, вы Анненского недооценили!» Руки опускаются, спорить нет охоты.
Разговор, помнится, начался с Тютчева. Конечно, конечно, конечно, – я готов тысячу раз повторить это «конечно»! – Анненский – не Тютчев. В мастерстве он, пожалуй, ему не уступит, но безмерно уступает в щедрости духа, отразившейся в каждом слове, в каком-то непрестанном излучении сердечной энергии. Некоторые тютчевские стихи как будто сами собой переходят в свет и тепло, и кажется, что написаны они не чернилами, и не кровью, нет, а каким-то расплавленным золотом. Тютчев пятьдесят лет ждал всенародного признания, но дождался его по праву, и этого-то, я уверен, с Анненским не произойдет никогда. Он тоже останется «учителем поэзии для поэтов», – как сказал, если не ошибаюсь, о Тютчеве Горнфельд, – незаменимым, настоящим учителем, но некий холодок, внутренне сковывающий его поэзию, задержит его на полдороге к славе окончательной, не подлежащей пересмотру, той, к которой «не зарастет народная тропа». В статье Вячеслава Иванова, о которой я упомянул, было замечание о «скупых нищих жизни», выразителем и глашатаем которых Анненский явился. Необычайно верно, необычайно метко! Тут и становится ясно все, что отделяет его от Тютчева. Да и не только от Тютчева: от Блока, – от Блока, который был и водянистее Анненского и стилистически гораздо неряшливее его, но который в лучшие свои мгновения рискует, взлетает, сгорает, жертвует собой… там, где Анненский только мерцает и тлеет.
Мне могут сказать: начал во здравие, кончил за упокой! Нет, этого упрека я принять не могу. Неожиданность явления Анненского, глубокое своеобразие этого явления и тончайшая, ювелирная выделка его стихов по сравнению с размашистыми и аляповатыми красотами тогдашних общепризнанных «мэтров», Бальмонта и даже Брюсова, должны были поразить. Глубокая, глубочайше-гамлетическая человечность его поэзии, «печать века сего» на его сомнениях, намеках, колебаниях, задержках, раздумиях, все это должно бы сохранить ему навсегда верность тех, кто был ему верен хотя бы один день.
Но Анненский – это все-таки мирок, а не мир: мирок единственный, одновременно жуткий и манящий, однако без того, что в творчестве дороже всего, без самозабвения, без самопожертвования. В конце концов, все в поэзии решается именно этим, и вечные слова о тех, кто «душу свою потеряет…», вечны и в ней.









































