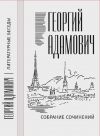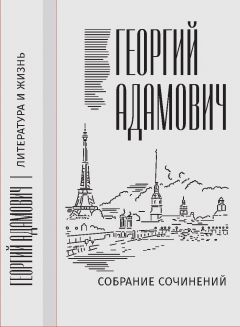
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Николай Оцуп
С Николаем Оцупом связаны у меня воспоминания, восходящие к ранней молодости. Воспоминания почти бесчисленные, хотя и разрозненные.
Оцуп появился в Петербурге года за два до революции. Приехал он из Парижа, где учился в Сорбонне, и вызван был, если не ошибаюсь, по делам, связанным с воинской повинностью. Помню статного, крепкого розовощекого молодого человека с чем-то спортивным в выправке, подчеркнуто вежливого и корректного, даже несколько «подтянутого». Помню и свой первый рассеянно-небрежный вопрос, к нему обращенный:
– Вы, кажется, тоже поэт?
И его ответ, в суховатой сдержанности которого чувствовалось не столько смущение или даже обида на мое «кажется», сколько неловкость от слишком легкого употребления слова «поэт», да еще с прибавкой «тоже»:
– Да, я пишу стихи.
Не могу сказать, чтобы мы сразу подружились. Николай Оцуп был не из тех людей, с которыми можно в первый же вечер перейти на «ты» и, выпив две-три рюмки водки, приняться цитировать Пушкина и Блока с восторженно-хмельными комментариями вперемежку, как водится, с цитатами из самих себя. Он казался застенчив, замкнут, холодноват, хотя, по-видимому, его очень тянуло к тому беспечному и трагическому жизненному укладу, который в последние благополучные русские годы сложился в наших поэтических и богемно-театральных кружках, с ночными сборищами в «Бродячей собаке» и беседами обо всем и ни о чем. Его тянуло к тому жизненному стилю, который теперь на почти уже полувековом расстоянии, представляется чем-то вроде «последних дней Помпеи», но он не мог себя к нему подладить, не мог стать в нем вполне «своим». Сошелся он ближе других с юным, робким, при каждом слове красневшим Всеволодом Рождественским, своим литературным сверстником, но остался чуть-чуть в стороне от группы тех поэтов, которые с благословения Гумилева официально или полуофициально величали себя «акмеистами». Лишь позднее, уже после октябрьского переворота, разделение исчезло, перегородки оказались уничтожены, и Оцуп, сблизившись с Гумилевым, нашим общим мэтром, занял в его окружении одно из виднейших мест.
Все это было давно. Однако первые впечатления почти никогда не обманывают, и вспоминая свои дореволюционные встречи с Оцупом, я убеждаюсь, что, в сущности, он был и тогда таким же, каким остался в зрелости. Конечно, многое изменилось в его повадках и привычках, в манере держаться и разговаривать, в том вообще, что скорей есть маска, которую носит человек, чем подлинное лицо его. Маска изнашивается, одной и той же пользоваться всю жизнь нельзя. Но человек «дан» уже в младенчестве, как нечто неизменное, и если порой мы удивляемся тем или иным душевным метаморфозам, то лишь потому, что в нужное время были недостаточно внимательны.
Ясно было сразу, что Оцуп – очень даровитый поэт, даровитый по-настоящему, без той импровизационной беззаботности, которая нередко выдается и большей частью с успехом сходит за «Божью милость», за «крылья», за «моцартианство». Но сразу же можно было почувствовать и то, что его сдержанность, его напряженность в общении с людьми, непроизвольная его величавость – черты, которые, углубившись и развившись, должны наложить особый отпечаток на его поэзию. Оцуп не был легким человеком, не стал он и поэтом легким. При несомненном наличии сильного и звонкого поэтического голоса он не соблазнился дешевой певучестью стиха, и если в его поэзии музыка и осталась, то музыка суровая и жестокая, как бы прошедшая через многие воздвигнутые ей препятствия. Но препятствия он воздвигал себе и в жизни, и чем пристальнее я вглядывался в Оцупа как человека, тем очевиднее мне становилась органичность его творчества.
Он рвался навстречу людям, стремился в отношениях с людьми к чему-то гораздо большему, чем простое приятельство, но о других судил по самому себе – и был очень требователен. Они, эти другие, уставали, недоумевали, мало-помалу от него отходили, как и он сам с удивлением и огорчением отходил от них, – и, право, не стоило бы обо всем этом вспоминать, если бы и поэзия Оцупа не оказалась у нас плохо понятой, не совсем дошедшей до ума и сердца читателей, словом, если бы не оказалась и она чуть-чуть «в стороне». Оцуп искал выхода или награды в любви, – единственной большой любви, которую в жизни знал, – и светом этой любви поэзия его проникнута. Но любовь лишь сильнее обострила его влечение к остальному миру, лежащему за пределами «одиночества вдвоем», как обострила она и глубоко скрытую, затаенную боль от отсутствия немедленного и дружного отклика.
Немедленного… Рано или поздно отклик, вероятно, возникнет. Стихи Николая Оцупа, собранные вместе, должны бы этот отклик вызвать. Случается ведь в истории литературы, что одиноких и несговорчивых мечтателей любят больше, и притом любят прочнее, вернее, чем тех, у кого демонстративная «душа нараспашку» была основным творческим побуждением. В стихах Николая Оцупа, где запечатлена редкая личная любовная удача, запечатлена и внутренняя драма, – правда, скорей между строк, чем в дословном тексте, скорей в мелодии слов, чем в их непосредственном логическом содержании. В этих стихах есть тревожная мысль, обращенная к судьбам нашего мира, есть пафос, есть готовность броситься в бой с неведомыми, темными силами ради спасения «добра и света», по Блоку, в них есть какое-то высокое, благородное и облагораживающее донкихотство. И еще: есть пренебрежение к пустякам и к мелочам во всех их разновидностях, хотя бы самых блестящих, передовых и усовершенствованных.
А люди как будто начинают быть пресыщены пустяками и мелочами. Вскоре должно бы настать время, когда поэзия Оцупа будет наконец оценена по достоинству, – когда читатели исправят оплошность современников поэта и своим ответным порывом, своим волнением и признанием искупят ее. Это – больше, чем надежда, это – уверенность. Кончу словами старца Зосимы, образ которого Николай Оцуп так любил и о котором было у меня с ним и в далекие, и в недавние годы столько споров.
– Сие буди, буди!
Анна Присманова (вступительное слово на собрании 16 декабря)
«Иных уж нет, а те далече».
При мысли о наших теперешних литературных вечерах естественно вспоминается эта пушкинская строка. В самом деле, все больше у нас собраний «памяти» такого-то поэта, все меньше вечеров, где поэт лично присутствовал бы. Незачем делать себе иллюзии: тот период, тот отрезок эмигрантской поэзии, или даже шире – поэзии русской, – который принято называть «парижским», близок к концу, а оставит ли он по себе след, и если оставит, то надолго ли, решит будущее.
Можно все-таки надеяться, что оставит, т. к. теперь, мысленно подводя итоги, убеждаешься, что кое-что в этот период найдено и уловлено было такое, чего прежде не было и что никакой другой «нотой», – как повелось у нас теперь выражаться, – заглушено и сведено на нет быть не может.
Не было однообразия, но было единство, как в хоре с разными голосами, не было подражания, но было предчувствие общего стиля, скорей внутреннего, чем внешнего, а почему это удалось, об этом говорить было бы долго. В двух словах, конечно, потому, что и такого жизненного опыта, тех «впечатлений бытия», которые выпали на долю поколения, тоже прежде не было и, вероятно, не будет и позднее.
Сегодня мы вспоминаем Анну Присманову, поэта резко индивидуального, обособленного, и все-таки, перечитывая к сегодняшнему вечеру ее сборники, я безошибочно почувствовал ее связь с парижской группой, связь, которая прежде представлялась мне не столь ясной. Почувствовал я и досаду, что группа эта распалась, не успев договорить всего, что договорить надо было бы, – а в особенности сравнивая, сопоставляя стихи Присмановой со многими, многими из тех «цветов поэзии», которые все обильнее украшают в последние годы нашу печать.
У Присмановой было сознание, определявшее все ее творчество: она знала, что поэзия возникает из слов, а не из эмоций. Но указывая на это, я боюсь быть не совсем верно понятым.
Поэзия, конечно, не исключает эмоций, она требует их, ведет и приводит к ним. Однако человек, который, залюбовавшись, например, лунным пейзажем или вспомнив что-либо давно его взволновавшее, принимается перекладывать свое чувство в рифмованные строчки, – без другого первоначального побуждения к этому, кроме данного пейзажа или воспоминания, – такой человек едва ли поэт. Нет и не может быть сомнения: стихотворение, по крайней мере настоящее стихотворение, начинается с двух-трех слов или даже с целой строки, неизвестно как и откуда пришедшей, и в зародыше, в источнике настоящего стихотворения неизменно кроется совсем особое волнение, вызванное именно сочетанием слов, а не каким-либо фактом или явлением, которые потом словам поручается иллюстрировать.
Да, конечно, этим стихотворение не довольствуется, не ограничивается, оно идет дальше, идет выше или глубже, оно по пути захватывает все, что безотчетно дремало в сознании, оно в конце концов несет какой-то «message», – но по самой природе своей оно в силах сделать этот «мессаж» подлинно действенным только тогда, когда слова оказались с мыслию или чувством органически сплетены и когда нельзя точно установить, где кончается форма и начинается содержание, или наоборот, где кончается содержание и начинается форма.
Не стоило бы об этом сейчас говорить, не будь поэзия Присмановой ярко показательна для понимания этого непреложного закона и для отказа, вернее даже неспособности удовольствоваться стихами, где слово было бы лишено своего основного, животворящего, волшебного значения.
Не раз в статьях о Присмановой бывало указано, что поэзия ее трудна, и что же, пожалуй, это верно.
Внешне трудна, потому что Присманова пренебрегала словами условно поэтическими и в этом смысле шла, как говорится, по линии наибольшего сопротивления. Когда поэт произносит, например, слово нимфа или слово ландыш, звезда, ангел, радуга, – называю слова наудачу, первые пришедшие мне в голову, – он какой-то поэтический отклик, пусть и совершенно ничтожный, себе обеспечивает в силу самой картинности таких слов, их привлекательности, их нарочитой антипрозаичности. Когда поэт говорит рыба, кость или соль, – слова, постоянно попадающиеся у Присмановой, – ему надеяться не на что, кроме как на свой дар связать эти речения так, чтобы отклик возник. Присманова была мучеником, героем, порой даже маниаком этих ничего заранее не обеспечивающих словосочетаний, иногда срывалась, иногда поднималась очень высоко, – и к концу жизни все выше, – но никогда не изменяла себе, тому, что было ее творческим принципом. Для нее поэзия не была отбором приятного от неприятного, красивого от уродливого, привлекательного от отталкивающего, нет, поэзия была для нее как бы оправданием всего существующего и защитой того, что в мнимо привилегированный, капризно-аристократический поэтический мир доступа будто бы иметь не должно.
А внутренне трудным творчество Присмановой было по всему ее духовному складу, – и тут мы подходим к вопросу столь излюбленному былой русской критикой: что поэт хотел сказать? Вопрос естественный, если признать, что ответ на него должен быть сведен к общей теме поэта. Вопрос вполне бессмысленный, если в качестве ответа требовать короткой и ясной формулировки, логически отчетливого утверждения. Есть у Льва Толстого фраза, – насколько помню, в предисловии к роману Поленца «Крестьянин», – которую всем критикам следовало бы заучить наизусть:
«Если смысл художественного произведения можно передать своими словами, незачем было писать художественное произведение».
Совершенно верно, в таком случае правильнее было бы написать статью, ученый трактат или исследование. Стихи Присмановой оттого и представляют собой в большинстве случаев произведение художественное, что передать их истинный смысл своими словами нельзя. Остается лишь что-то общее, неуловимое, как свет.
Есть в литературе стихи, выражающие или включающие в себе счастье жизни, и есть другие – о препятствиях к счастью. Есть стихи, несущие благодарность по отношению к жизни, благословение ее, и есть другие, таящие в себе упрек и как бы ищущие выхода. Какие стихи лучше, какие хуже, какие правильнее, какие ошибочнее, решить нельзя, хотя бы потому, что никто не знает, что такое жизнь, куда и откуда она идет.
Поэзия Присмановой – поэзия упрека, притом упрека невольного, сплетенного с гордостью, с желанием себя отстоять, с уверенностью в возможности этого: что-то сложное, прихотливое, но в конце концов вознаграждающее и самого поэта, и тех, к кому он обращается, за обиды судьбы и за преходящие неудачи.
Перечитывая стихи Присмановой, я не раз вспоминал другого поэта, одного из самых замечательных, какие в России когда-либо были, и великого мастера, великого специалиста по части этих поисков выхода, этих счетов с судьбой, этих затаенных обид и надежд – Баратынского. Интонация у Присмановой совсем иная, да и была она слишком талантлива, чтобы чужую интонацию – т. е. ритм, т. е. индивидуальную сущность – перенять. Но темы часто совпадают.
Баратынский пишет:
Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие…
Не продолжаю дальше, т. к. надеюсь, что если сегодня здесь собрались любители русской поэзии, то они мысленно сами докончат это восьмистишие, чудо скромности и чистоты, совершенно естественной человечности, образец преодоления того, что Поль Валери остроумно назвал «диезами» в литературе. «Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse».
Присманова такой простоты не достигает, да, вероятно, по некоторой патетичности, «диезности» своей натуры она ее и не искала. Недаром она дружила с Цветаевой, бесспорно самым «диезным» из всех русских поэтов нашего века и, кажется, высоко ее ценила. Но надежды ее родственны надеждам Баратынского, и когда она, например, говорит, что есть у нее это – та же уверенность, что кому-то нужна и я, что до кого-то стихи мои дойдут, будто послание, будто подарок, ему одному предназначенный и новым светом освещающий его жизнь.
…уверенность большая в непогрешимости моей судьбы
В чем назначение поэзии? Именно в этом. Не в доставлении нескольких приятных минут, так, между делом, для отдыха от более серьезных занятий, не в том, чтобы помочь «забыться», а, наоборот, в движении к свету, – Блок сказал о себе в третьем лице, явно стесняясь собственной своей характеристики: «он весь – дитя добра и света», – в преодолении всего, что косно и что мешает человеку быть тем, чем ему быть следовало бы.
Поэт физически умер, его нет. Если бы не бояться трюизмов и банальщины, можно было бы «под занавес» воскликнуть, что в стихах своих он продолжает жить.
Но важно другое: то, что и после своего физического исчезновения он творит жизнь, усиливает, утверждает, очищает, преображает ее в поколениях, идущих ему на смену.
Вечер, посвященный памяти истинного поэта Анны Присмановой, не имеет иного назначения, и зная покойную Анну Семеновну, я уверен, что иного отклика она и не ждала бы.
Пушкин
Слова Достоевского о тайне, которую Пушкин унес с собой в гроб, не утратили смысла своего до сих пор.
До крайности спорна та разгадка тайны, которую Достоевский в своей знаменитой речи предложил: о шаткости его «приятных для русского самолюбия» заключений, о славянофильской «гордыне под личиной смирения» метко и проницательно писал в свое время Тургенев. Но тайна остается. И пока существует Россия, вряд ли найдется образованный русский человек, который, раскрыв томик стихов Пушкина или «Евгения Онегина», не спросил бы себя: что же в конце концов скрыто в этих строчках такого, чего нет в других книгах, даже самых замечательных, отчего они как-то особенно дороги, несравненно близки, почему кажется, что русская культура потеряла бы душу, если бы Пушкина из нее исключить?
Объяснения чисто литературные мало что объясняют. Само по себе, конечно, верно, что пушкинские стихи совершеннее других стихов, написанных по-русски, что Пушкин привел в окончательный порядок наш язык, нашел нужные черты и краски для картин русской природы или, например, в «Станционном смотрителе» впервые наметил один из тех новых человеческих образов, которые позднее вошли в русскую литературу, как ее отличительное достояние. Литературная и литературно-историческая роль Пушкина огромна и разногласий о ней быть не может. Но все же не только в этой роли дело, и принадлежит Пушкин не только литературе, а России вообще, как ее острие и как имя, в ее истории центральное.
Нельзя хоть сколько-нибудь Россию и русскую историю понять, не понимая места Пушкина в ней, и оттого из поколения в поколение русские люди о Пушкине думают, мысленно к нему возвращаются, по-разному его толкуют и ищут на его «тайну» ответа. Были, казалось бы, в России писатели гораздо более сложные – Гоголь, Толстой, Достоевский, гении, измученные собственными своими противоречиями и притом способные измучить и тех, кто их власти поддастся. Пушкин обманчиво ясен, призрачно спокоен, Пушкин не мучает никого. Однако ясность его бездонна, неисчерпаема и что-то в ней ускользает именно в тот момент, когда все в ней как будто усвоено и разложено. Пушкин не ставит великих, «проклятых» вопросов, не бросает грозных упреков, не заставляет людей отречься от того, что в долгих трудах, в борьбе и в сомнениях они создали, Пушкин не предлагает «рискнуть миром», как сказал Бердяев о Толстом, он снисходителен к человеку и в снисходительности этой был и остается самым чистым, во всяком случае самым законченным воплощением понятия «человек» в нашей культуре.
На той же духовной высоте, на которую поднялись, до которой взвились Гоголь, Толстой и Достоевский, он нашел в себе силы оставить и в качестве насущного дела разрешить человеку заботы о государстве, о социальном развитии, о просвещении, о цивилизации, о науке, об искусстве, обо всем том, что у нашей великой после-пушкинской триады, да, пожалуй, уже и у Лермонтова, горело и сгорело дотла, – у Достоевского, кстати сказать, не менее бесследно, чем у других, как бы оплотом традиционной русской государственности и общественного благомыслия сделаться он ни старался.
Но Россия недостаточно дорожила Пушкиным и от гибели его не уберегла. Нет в нашей литературе ничего более драматического, чем постепенная, неуклонная убыль естественной жизненной радости в творчестве Пушкина, чем вторжение в это творчество дребезжащих, щемящих звуков, сначала едва уловимых, позднее сменившихся глухой, мужественной печалью в предчувствии того, что произойти должно… А произошло на первый взгляд нечто случайное. Ничтожный офицер-француз, забредший в Россию «на ловлю счастья и чинов», приволокнулся за женой поэта, и, сам не понимая, что делает, убил его на дуэли. Не будь Наталья Николаевна столь легкомысленна, не будь Пушкин столь ревнив и вспыльчив, могло как будто не произойти ничего. Как знать, в самом деле?
Но если Пушкин и искал смерти под воздействием тягостных обстоятельств личной жизни, запутавшись не только в отношениях с женой, но еще больше в отношениях с двором, то все же сейчас, через сто с четвертью лет со дня его смерти, эти личные, житейские причины бледнеют, как малозначительные. Наоборот, выступают и кажутся главенствующими черты иные: они приводят к мысли, или, вернее, к чувству, что смерть Пушкина в русской истории не случайна. Договориться до того, что она была необходима, было бы опрометчиво и метафизически-произвольно, но смысл и содержание русской истории этой смертью возвеличены и углублены, – так же, как смерть Сократа теперь, на расстоянии тысячелетий, возвеличивает и углубляет историю и культуру Греции (отчасти, правда, потому, что до нас дошел в качестве свидетельства о ней рассказ Платона, одна из прекраснейших в мировой литературе страниц, а Пушкин своего Платона едва ли дождется). Зачем нужна была жертва? Есть ли основание именно это слово произнести? Где здесь кончаются иллюзии, где начинается нечто хоть сколько-нибудь реальное? Ответить на это трудно, это полностью относится к области «тайн» и с той же легкостью может стать предметом плохих насмешек, как и досужего, псевдомистического умствования. Не знаем мы твердо ничего. Но совсем особое, не сравнимое ни с каким другим, не слабеющее с годами, обаяние Пушкина, даже самого имени его, особые нити, нас всех с ним связывающие, особое волнение, порой возникающее при мимолетном воспоминании о нем, все это со смутным представлением о жертве сходится и ее как бы подтверждает. Еще раз скажу, что объяснения узколитературные для Пушкина недостаточны.
Он нам оттого и дорог, что как бы ни были мы слабы, как бы ни были ничтожны, он частицей своего светлого и несчастного гения в нашем сознании присутствует, и что мы – или наши предки, все равно, ибо дело касается России в целом, – за гибель его безотчетно несем ответственность. «От судеб защиты нет», сказал он будто о самом себе в удивительном по силе энергии заключительном стихе «Цыган». А незадолго до конца, уже подводя итоги и одну за другой растеряв былые надежды, он ставил себе в заслугу лишь то, что «пробуждал чувства добрые», что в свой «жестокий век восславил свободу» и «милость к падшим призывал».
Это – завещание Пушкина и это – голос России в лучшем, самом простом, самом бесспорном, отчего ни под каким предлогом и ни при каких исторических метаморфозах недопустимо отречение. Наша страна должна бы хоть в этом, хотя бы в действенном, а не только показном внимании к этим предсмертным пушкинским словам, подняться до подлинной верности поэту, к которому оказалась безучастна при его жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?