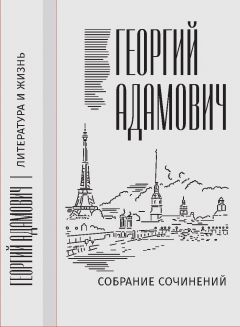
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Новый журнал» [№ 44]
Небольшой рассказ Мих. Иванникова «Правила игры», которым открывается тридцать четвертая книжка «Нового журнала», вызвал суждения до крайности разноречивые. Говорю, конечно, о прессе «устной»: отзывов печатных было до сих пор немного, да по количественной своей скудости наша зарубежная печать и вообще не может сколько-нибудь отчетливо отразить колебания и расхождения в читательских оценках. Расхождениям политическим отдано у нас первенство, и всякие другие разногласия оттеснены ими на задний план.
Не думаю, чтобы при внимании и чутью к слову, при способности ценить самую ткань повествования, а не только то, что именно в нем сообщено, можно было отрицать, что «Правила игры» – вещь на редкость талантливая. Должна ли она всем прийтись по вкусу, оправданы ли возражения, которые можно было бы сделать «по существу», т. е. в связи с литературными методами и приемами Иванникова, – вопрос другой, и, добавлю, вопрос второстепенный.
«Правила игры» – рассказ, который, разумеется, не может нравиться тем, кому в творчестве дороги непринужденность, безыскусственность, все то вообще, что обычно определяется расплывчатым, опасным и загадочным словом «простота». Поистине об Иванникове можно было бы заметить, что он «словечка в простоте не скажет», а читатель, которого в конце концов привели бы в ужас и раздражение все его стилистические фокусы, вспомнил бы, пожалуй, и Тургенева: «воняет литературой».
Да, совершенно верно, литература эта ни на минуту не дает иллюзии, будто она литературой быть перестает, будто грань между нею и жизнью или жизненной правдивостью окончательно уже стерта. Нет сомнения, что великие наши законодатели «правдивого» жанра, Толстой и Чехов, прочли бы «Правила игры» с недоумением и даже отвращением. Но это – не довод против такого рода писаний, во всяком случае – довод не против Иванникова исключительно, а против всего, что произошло в литературе и искусстве за последние полвека, и о чем судить надо бы в целом, приняв во внимание общеисторические и общекультурные причины происшедшего.
У кого Мих. Иванников учился? Прежде всего, по-видимому, у Андрея Белого. Самая фраза его звучит, как фраза Белого, с напоминающим «Петербург» или «Котика Летаева» нагромождением диковинных эпитетов, то никчемных, то блестяще-удачных, с прерывистым, будто спотыкающимся ритмом, с язвительным юмором, подсказывающим внезапные перебои этого ритма. Мне пришлось слышать предположение о влиянии Набокова на автора «Правил игры». Нет. Набоков гораздо глаже, стремительнее, эластичнее: здесь скорей Андрей Белый, да, кстати, и сарказмы автора над интеллигентствующими «бородачами», руководителями некоего эмигрантского «Общества», с жалкими интригами, сплетнями и борьбой самолюбий, напоминают страницы Белого, посвященные московским профессорам, приятелям его отца, известного математика Бугаева. Герой рассказа – некто Радкевич, ведущий двойное существование: с одной стороны, он среди иностранцев, на службе – новейшая разновидность Акакия Акакиевича Башмачкина, готовый обратиться к окружающим с бессмертным башмачкинским вопросом: «зачем вы меня обижаете?», с другой – он видный член «общества», подкапывающийся под членов еще более видных, и сам себе представляющийся, значит, величиной, особой, персоной. «Общество» обрисовано восхитительно-метко, с первоклассной силой изобразительности, в частности – госпожа Цык, почтенная дама, много лет уже неудачно и настойчиво добивающаяся избрания в председательницы, и находящая, наконец, утешение более естественное:
«Вся ее клокочущая, вздымающая высокую грудь, пятидесятилетняя страстность обрушилась на внука Тютика, ребенка совершенно необыкновенного: он говорил уже ау, говорил уже уа, он рос не по дням, а по часам, и постоянное прибавление в весе, вровень с его ковыляющими шажками, озарялось удивительной понятливостью, проблесками будущей гениальности: и умоляющая, заумно похохатывающая Цык все просила представить себе все это, а Радкевич с учтивой ненавистью глядел на ее запудренное, колышащееся нежным жирком альтовое горло…»
Надеюсь, по этой короткой цитате читателям нетрудно будет составить себе представление об общем стиле рассказа. Отмечу в добавление к ней особый, остроумный прием, которым пользуется Иванников, вводя в речь повествовательные фразы от первого лица. Например: на собрании памяти председателя общества Цык и Радкевич «говорили речи о заслугах покойного, незримое присутствие которого все мы в настоящую минуту ощущаем, господа…» Или дальше: «Радкевич призывал вернуться памятью к тем временам, я бы сказал, животворящего беспокойства…» Это мелочи, возразят мне, пожалуй. Действительно, мелочи. Но в иных мелочах больше блеска и находчивости, чем в целом ряде добросовестно раскрашенных страниц. Здесь слышен тембр голоса, видишь человека, наслаждающегося на эстраде цветами собственного красноречия, – и хотелось бы мне закончить эти замечания о «Правилах игры» стереотипным пожеланием: будем надеяться… Да, будем надеяться, что имя Иванникова станет в нашей печати чаще встречаться, а в литературе нашей надолго удержится.
Рассказ В. Яновского «Болезнь», как обычно у этого писателя – достаточно известного, чтобы нужно было давать его общую характеристику, – драматичен по замыслу и не то что ставит, а как бы только повторяет, напоминает вопросы из разряда самых «проклятых». Случай на первый взгляд выбран самый пустяшный: русский беженец Борисов семь месяцев живет в Нью-Йорке впроголодь, без работы. «Попробуй сознаться, что ты без работы, и кроме злорадных советов, критических замечаний и дешевых поучений ничего не добьешься. Но если заявить “у меня рак или камни в почке, нужна сложная операция”, пожалуй, добьешься подлинного сочувствия, а иногда – рикошетом – и денег». Кончается, однако, все благополучно, работа получена, притворяться больным больше нет причин. У обыкновенного бытовика все бытом и ограничилось бы. Но Яновский, о чем бы он ни писал, неизменно касается того, что Блок назвал «мировой чепухой», и все его персонажи, вместе с Борисовым и другими, в сущности лишь марионетки в руках непостижимой силы, о которой он даже не знает, злая она или добрая, слепая или мудрая.
«Дело Тверитинова» Г. Альтшуллера – отрывок из книги об известном московском чудаке-вольнодумце начала восемнадцатого века. Будет ли книга издана? Судя по отрывку – «добротно», «солидно» написанному, – не говоря уж об эпохе, к которой книга относится, эпохе неисчерпаемо богатой в своем содержании, бесконечно сложной, таящей в себе корни всех наших теперешних смут, – судя по главе, помещенной в «Новом журнале», книга Г. Альтшуллера вполне заслуживает издания. Но не окончательно ли сделались теперь русские издатели «существами метафизическими», как выразился Карамзин о космополитах?
Четырнадцать стихотворений Георгия Иванова объединены общим названием «Дневник». И это действительно дневник, если угодно, повесть о чем-то очень личном, очень смутном и очень горестном. Предлог, повод к стихам Георгия Иванова в каждом отдельном случае иной, новый, но тема во всех его стихах последних лет – одна, и, вероятно, то особое, настороженное внимание, которое именно в последние годы в поэзии Иванова возникло, на этом и основано. Не так часто поэзия, полностью оставаясь поэзией, перестает быть литературой в верленовском, условном, отрицательном значении слова, чтобы можно было ею не заслушаться.
У Иванова как стихотворца мало общего с Есениным. Он прежде всего гораздо искуснее, гораздо изощрен-нее его, он больше «мастер», а в певучей своей непосредственности едва ли ему уступает. Но имя Есенина я назвал не случайно: психологически, жизненно ивановская тема близка есенинской, – разумеется, лишь к Есенину самого его последнего периода, – в том смысле, что у обоих поэзия душевной ликвидации, поэзия «обманувших надежд», поэзия «облетевших цветов, догоревших огней» уничтожила всякие иные побуждения к творчеству. Порыв возникает из-за того, что рваться, собственно говоря, уже не к чему. Параллель легко было бы развить, она была бы в высшей степени интересна, но по недостатку места я ограничиваюсь указанием на ее возможность, с уверенностью, что любители поэзии мысленно продолжат ее сами… Послевоенные стихи Иванова – замечательное явление в нашей литературе. Тихим, приглушенным, вкрадчивым голосом, с причудливым, тончайшим смешением иронии и лиризма, с какими-то неожиданно-«достоевскими», – из «Кроткой» или из «Бобка», – интонациями в мелодии, он ведет монолог, ни от кого и ниоткуда не ожидая отклика или ответа. Меньше всего от судьбы.
В. Корвин-Пиотровский, по-видимому, находится на переломе, и, оставаясь верным излюбленному своему размеру, четырехстопному ямбу, изменяет прежней «прекрасной ясности» ради туманов, намеков и умолчаний. С первых же строф, однако, чувствуется, что это именно Пиотровский, а не кто-либо другой. Каждая из них скреплена, – как сказал Теофиль Готье о Бодлере, – его личной печатью. Стихи живут, «существуют», а не выдуманы или механически сделаны. У Лидии Алексеевой тоже, кажется мне, есть данные для неподдельного литературного существования. Некоторые ее строчки сразу запоминаются. Но признаюсь откровенно, я недостаточно внимательно за Алексеевой следил, не помню даже того, есть ли у нее отдельные сборники, – и оттого и пишу «кажется»: не из критической осторожности, а лишь по недостатку оснований для суждения твердого.
Несколько интересных – или, по крайней мере, любопытных статей, – политических, философских (Н. Лосский о Бердяеве), литературных (Е. Каннак о неизвестной пьесе Чехова). Особняком стоит «Моцарт» В. Маркова, произведение, о котором можно бы, перефразируя Некрасова, сказать, что в нем «словам просторно, мыслям тесно». Три-четыре оригинальных замечания тонут у Маркова в море суждений опрометчивых, скороспелых, а порой и фактически ошибочных. Стиль статьи, к сожалению, соответствует ее внутреннему складу. Досадно видеть под ребяческими, мнимо-поэтическими красотами и эффектами, которыми «Моцарт» в изобилии приправлен, подпись подлинного поэта.
Выделю, хотя и по другим причинам, и воспоминания Е.Д. Кусковой «Давно минувшее»: образец и доказательство того, что в девяти случаях из десяти человек пишет хорошо, действительно хорошо и свободно, лишь тогда, когда не слишком этим озабочен. А что записки Кусковой полны ума, чувства и знания жизни, незачем и добавлять.
«Новый журнал», книга 45-я
Рассказ Е. Гагарина «Охота на гусей», которым открывается очередная книжка «Нового журнала» – рассказ не плохой. Написан он, так сказать, по лучшим рецептам. Картины природы широки, величавы, спокойны, язык богат и точен. Поэтический элемент, связанный главным образом с появлением в деревенской глуши некоей обаятельной и таинственной молодой женщины, по прозвищу Аттила, тоже выдержан в тонах испытанных, проверенных, на первый взгляд безошибочно действенных. Почти Бунин, одним словом… Но в том-то и беда, что «почти»! В каждой строке «Охоты на гусей» заметно, что это вещь подражательная, а не подлинно творческая, не оригинал, а копия. Но копия, повторяю, хорошая, искусная, и, вероятно, многим читателям придется она по душе.
Совсем другое дело – отрывок из романа Ирины Одоевцевой «Когда бушевала буря». Едва ли к нему применимо выражение «придется по душе», хотя бы по всему его тревожному, даже мучительному складу. Но думаю, все признают, что в отрывке этом нет и следа какой-либо подражательности и что о горестных или постыдных происшествиях, составляющих его фабулу, рассказано в нем вполне по-своему. Да и написан отрывок вполне по-своему.
Одоевцева – романистка с уже большим стажем, а до сих пор не было в нашей критической литературе сколько-нибудь вдумчивой и справедливой статьи, ей посвященной. У меня нет, конечно, претензии заполнить сейчас этот пробел, и хочется мне только сказать несколько общих слов о даровании Одоевцевой, – том даровании, которое лет тридцать – тридцать пять тому назад отметил у совсем еще юной девочки, чуть ли не подростка, с высоты своего тогдашнего величия Лев Троцкий. Помню заключительную фразу Троцкого: – Браво, мадемуазель! Продолжайте! – означавшую приблизительно следующее: пролетариату и трудящимся массам ваши прелестные фантазии, сударыня, к сожалению, не «созвучны», но талант ваш мы ценим и приветствуем.
За Одоевцевой прочно установилась репутация писателя веселого, легкого, жизнерадостного, что отчасти верно, – но только отчасти, – и держится на впечатлении исключительно стилистическом. Звук ее фразы действительно легок, порывист, и ни в коем случае не располагает к меланхолии или задумчивости. Бунин, очень ее любивший, как-то пошутил: «читаю и будто сижу в лифте… вверх-вниз, вверх-вниз!» При чтении отрывка в «Новом журнале» это бунинское образное и остроумное замечание не раз приходило мне в голову: короткие предложения, почти без придаточных, нередко и без глаголов, точки там, где другой писатель поставил бы запятую, какой-то безостановочный полет, бег, неугомонная стремительность. Казалось бы, чтение действительно должно давать «бодрую зарядку», как выражаются в советской России.
Но индивидуальность Одоевцевой глубоко противоречива. В основании ее писаний лежит скрытый, может быть даже безотчетный ужас перед жизнью и перед беззащитностью человека. Оболочка ее писаний как бы в вечной опасности из-за толчков изнутри, и обманчиво-легкий их стиль готов каждую минуту сжаться, распасться, прорваться, чтобы дать место чему-то темному и глубокому. Тема беззащитности особенно ясна у Одоевцевой, когда она пишет о детях, или о полудетях, и мне вспоминается по этому поводу довольно удивительный случай: ее роман «Изольда» и известная повесть Жана Кокто «Les Enfants terribles» вышли почти одновременно, так что ни о каком заимствовании не могло возникнуть и речи. Между тем в замысле эти два произведения странно близки, близки они и в колорите, со смесью ангелоподобной чистоты и порочности, радости и отчаяния, ребяческой заносчивости и того, что можно определить непереводимым словом resignation. Статья моя превратилась бы в отзыв об одной только Одоевцевой, если бы я увлекся и стал подробнее говорить о ее творческих особенностях. Приходится поэтому оборвать эти замечания на полуслове, добавив только, что в отрывке «Когда бушевала буря» эти особенности – и этот талант – столь же отчетливо очевидны, как были в давнем «Ангеле смерти».
Речь идет в нем о спекулянте и «дельце» Рачинском, по малодушию совершающем во время немецкой оккупации чудовищную подлость и, как Раскольников, ищущем самооправдания в сравнении себя с Наполеоном. Но Раскольников, – хотя по собственному своему приговору он «не Наполеон, а вошь», – все-таки герой и великий человек рядом с Рачинским. Остатки живого чувства в душе Рачинского, впрочем, есть: и любовь, по-видимому жертвенная, а не чисто плотоядная, к некоей Ксане, вполне достойной его самого… Но все вместе, и он, и Ксана, и две несчастные старухи, им обманутые, и ребенок, чудом спасшийся от немецкой газовой камеры, все тонет в ужасе, бессмыслице и печали. «Скучно жить на свете, господа!» – сказал Гоголь. Одоевцева внесла бы поправку: – «страшно жить на свете». А, по-видимому, ей хотелось бы иметь и сохранить совсем иное представление о мире, и сознание ее омрачилось и застыло в безнадежности вопреки ее природным данным.
«Человек, которому все равно» Л. Ржевского интересен в психологическом отношении. Разумеется, все мы знаем и без каких-либо доказательств или документальных свидетельств, что в советской России есть множество людей, не вполне «приспособившихся», душевно-сложных, и представляющих собой нечто вроде оппозиции, если и не в прямом политическом смысле, то по своей духовной структуре.
Был в советской литературе писатель, о котором давно ничего не слышно, совсем теперь забытый, – какова его судьба? – Яков Рыкачев, автор замечательной книги «Сложный ход», одной из самых замечательных и умных книг, которые вообще за последние тридцать лет в России появились (ему же принадлежит и любопытнейшая повесть «Величие и падение Андрея Полозова», напечатанная в «Красной нови», но, насколько мне известно, отдельным изданием не вышедшая). Рыкачев специализировался на «несогласных» или на тех, которые изо всех сил бьются, чтобы стать хотя бы по виду «согласными», однако тщетно.
У Ржевского его герой Батулин занят преимущественно эмоциями любовными, притом с карамазовской одержимостью и маниакальностью, но это не мешает ему высказывать мысли, в которых коренное, непреодолимое несогласие на быт, организованный в духе насильственно-уравнительного благополучия, сквозит повсюду. Батулин малопривлекателен. Помимо Рыкачева, о котором автор повести, Ржевский, может быть, и не помнил, у Батулина есть явное родство с незадачливым Кавалеровым, героем знаменитой повести Юрия Олеши «Зависть». Оба они вышли из духовного «подполья» и восходят, в конечном счете, именно к «Запискам из подполья», произведению, оказавшему огромное, не поддающееся учету влияние на тысячи литераторов последнего полустолетия. Не то чтоб эти литераторы единодушно уверяли, что дважды два, может быть, вовсе не четыре, а пять, – нет, конечно: но им скучно, им душно, оттого что дважды два по-прежнему четыре, и какое-то фантастическое «пять» они возвеличивают на все лады, притом и в тех областях, где математике решительно нечего делать. А в России-то, где «дважды два четыре» провозглашено и утверждено с новой силой, настойчиво, нетерпимо, агрессивно и без тени сомнения в вечной ценности этой истины, притом во всех ее разновидностях, в России язвительно-подпольные намеки на возможности «пяти», тоска о «пяти», должны были найти новое вдохновение.
О Батулине Ржевский рассказывает со стороны, на основании нескольких встреч с ним, разделенных годами. Но по существу рассказ представляет собой монолог Батулина, весь выдержанный в запальчиво-подпольном говорке: от Лермонтова, который будто бы «выше Пушкина» – (вопрос, кто «выше», во веки веков неразрешен, и если вдуматься, вполне бессмыслен: но для душ сколько-нибудь ущербленных Лермонтов с его отсутствующим у Пушкина «вздохом», с его «небом полуночи», навсегда останется «выше») – к «девочкам», от «девочек» к людям, «ползающим на брюхе перед властью», и так далее, и так далее. Монолог горячечный и местами тягостный, при всей его искренности. Примиряет с Батулиным, пожалуй, лишь смерть его. Но смерть примиряет всех и все, и более ценно было бы примирение, которое налаживается еще при жизни. Это, кстати, следовало бы принять за общее правило.
Из стихов надо обратить внимание – правильнее было бы сказать: «наконец обратить внимание» – на стихи А. Величковского. Имя его, сравнительно новое, в последние годы довольно часто мелькает в нашей печати.
Не берусь судить о размерах дарования Величковского. В его стихах есть почти всегда что-то неуклюжее, то подчеркнуто-прозаическое, то простодушное в самой манере выражения. Но зато у него есть свой тон, и это с лихвой искупает все, что в стихах его может покоробить. Тон далеко не обычный: глуховатый, сдавленный, скромный, с отзвуками глубоко утаенной боли и недоумения. Читаешь, бывает, иные стихи, иных авторов, – и думаешь: будто вода из крана! Льется, журчит, и если крана не закрыть, будет литься до бесконечности, – но к чему, зачем, даже если вода чистая и прохладная?
О Величковском этого никак не скажешь. Большой ли из него выйдет поэт, останется ли он таким, каков он сейчас, гадать не будем. Но нет сомнения, что он – поэт настоящий.
В. Злобин, которого к малоизвестным и молодым причислить нельзя, с каждым годом развивается и заслуживает того, чтобы поговорить о нем обстоятельно. С большой охотой поговорил бы я обстоятельно и о легчайшем, ускользающем от логического анализа, сюрреалистическом вдохновении Одоевцевой как поэта и стихотворца, если бы проза ее не заставила меня уделить ей в моей статье слишком много места. Замечу только, что последние строки ее стихотворения:
Я крепко сплю, не достигая
Глухого дна
Отчаянья
– очень красноречивы в качестве комментария и дополнения к тому, что было о ней сказано.
Статьи ценны, содержательны, интересны, в особенности «Шиллер в России» Дм. Чижевского, а отчасти и «Анненский о Гоголе» Зои Юрьевой (впрочем, в некоторых суждениях статья эта очень спорная). Номер журнала вообще прекрасно и богато составлен. Воспоминания Е.Д. Кусковой – «объядение», как писал кому-то Чехов, и надеюсь, почтеннейший автор не примет это мое определение за развязность. Воспоминания действительно восхитительны, – и в том, как они написаны, и во всем своем добродушно-умудренно-всепонимающем складе. О разговорах со Львом Шестовым, по записи Б. Фондана, о «Комментариях» М. Карповича, в их литературной части, – когда-нибудь в другой раз.









































