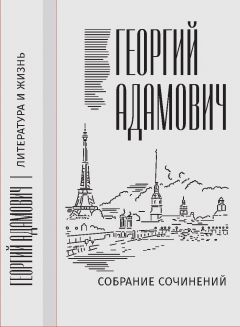
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Памяти доктора Б.Н. Беляева (Б. Щербинского)
На днях исполнилось два года со смерти доктора Бориса Никандровича Беляева, в литературе – Б. Щербинского.
Как врача его знал весь русский Париж. Знал, что Беляев был учеником и ассистентом знаменитого Сиротинина, знал, что он человек особенный, на других не похожий, чуткий, отзывчивый, какой-то весь трепетный, «врач-художник», без малейшей профессиональной самоуверенности или узости во взглядах. Беляев сам не раз говорил: главное в нашем деле поставить диагноз, с остальным на крайность справится и фельдшер! Это замечание очень для него характерное: поставить диагноз, уловить, догадаться, в чем корень зла, с чего началась болезнь, какой винтик в сложнейшей человеческой машине стал сдавать, и при этом всегда помнить, что на ход машины влияют причины не только физические, но и психологические.
Однако о враче-Беляеве судить по-настоящему могут только специалисты. Дилетантские соображения в этой области ни для кого не убедительны и могут оказаться досужей болтовней, – чему примеры бывали. Но о человеке вправе сказать несколько слов всякий, кто с Беляевым встречался.
Пожалуй, охотнее всего он беседовал о музыке и сам был превосходным пианистом. В частности бетховенские сонаты «сводили его с ума». Но и музыка в расширенном смысле слова, «музыка» в кавычках, музыка в сравнительно новом, ницшевском понимании термина была сферой, куда он с особой силой тянулся, и, в сущности, только тех людей он и ценил, которым это «музыкальное» начало не было чуждо. Сказывалось это и в его литературных суждениях. Все бытовое, плоско-натуралистическое оставляло его совершенно равнодушным, и как бы ни был искусен, красочен и живописен иной роман, если в романе этом не было скрытого второго «подводного течения», он заинтересоваться им не был в силах. Наоборот, малейший нервный, «нервический» – как выражался Тургенев – перебой, малейшее дребезжание заставляло его насторожиться – и откликнуться. «Тут что-то есть», как будто задумывался он и пытался понять, в чем загадка.
Музыка и литература: по-видимому, Беляев жалел, даже, может быть, страдал от того что главнейшие свои силы отдал науке, – хотя нельзя сказать, чтобы медицины он не любил или не видел в ней ничего увлекательного. Нет, но к музыке и литературе относился он все-таки совсем иначе. Он сам писал, и писал так же нервно, порывисто, как делал все в жизни, с теми же колебаниями, теми же сомнениями, удалось ли ему сказать то, что сказать хотелось бы. Поймут ли читатели его? Была, кажется, и тайная мысль: полюбят ли? В его литературном энтузиазме было что-то донкихотское, – если только лишить это понятие всего насмешливого, что к нему пристало, и оставить лишь черты благородно-бескорыстные, те, которые в Дон Кихоте отметил Достоевский, считавший сервантесовское создание самым высоким и чистым поэтическим образом в истории человечества. Да, в литературе Беляев был немножко Дон Кихотом. В своем писательском увлечении он даже терял природную зоркость по отношению к людям, он забывал, что иной его собеседник ровно ничего не в состоянии понять в его порывах, исканиях, намеках, – и читал, читал, читал свои писания пациентам, которые много охотнее внимали бы разъяснениям насчет того, почему, скажем, у них колет в левом боку. Случалось, замечая нетерпение, Беляев говорил: «да, да, я сейчас выпишу рецепт, совершеннейшие пустяки, не волнуйтесь, натощак по одной столовой ложке, – но вот послушайте…» – и продолжал чтение. Об этом с добродушным юмором рассказывала Тэффи, очень любившая Беляева, очень его ценившая, но, в отличие от других больных, способная оценить и его литературное «горение», а уж ко всему донкихотскому особенно чувствительная. Иногда она с усталой улыбкой прерывала чтеца: «Борис Никандрович, значит, анализ крови делать не стоит?» Другие пациенты мало-помалу переходили к другим врачам, может быть и менее талантливым, но ни повестей, ни рассказов не сочинявшим и Бетховена не игравшим.
Самый заметный след, оставленный Беляевым-Щербинским в литературе – большой роман «Постскриптум». На знаю, какова судьба рукописи другого рода, об императрице Александре Федоровне, с которой Беляеву приходилось чуть ли не каждый день встречаться в царскосельском лазарете во время войны, и о ее окружении: опыт медицинского, даже психиатрического подхода к истории на том историческом «отрезке», где только при медицинском истолковании многое и становится понятным. Помнится, любопытнейший очерк этот должен был выйти в английском переводе, но, насколько мне известно, до сих пор не вышел.
В «Постскриптуме» автор – пожалуй, с чрезмерной к себе строгостью – говорит:
«Я никакой не писатель, я только рассказчик некоего “жизненного случая”. Посему и никакая критика в обычном смысле ко мне не применима. Как можно критиковать или придираться к рассказу о том, что человек видел, знает? Если тебе не интересно, захлопни книгу, скажи: «мне скучно слушать, скучно читать», и вопрос исчерпан. Я на это отвечу: другой кто-нибудь прочтет, кого заинтересует. Что касается писателей, пользуюсь случаем высказать свое о них суждение. Я их делю на людей, которым есть о чем поговорить (таких большинство), которым есть что интересного рассказать, и, наконец, таких, которым есть что сказать. Этих единицы. Повторяю: я не писатель, но и мне есть что сказать, – только благодаря тому, что передо мною, врачом, люди не скрывали правды, мне же их слова удалось запомнить».
Это была его постоянная мысль: врач знает людей больше, чем кто бы то ни было, так как видит их порой в состоянии, когда им не до притворства или актерства. Его удивляло и даже возмущало замечание Толстого о Чехове, что, не будь Чехов доктором, он писал бы еще лучше. Но у Толстого к медицине, впрочем как и ко всему решительно, было отношение свое, особое. Толстой считал медицину наукой лживой, вредной, и, кстати, мало кто заметил, что отрицание медицины заставило его, кажется, единственный раз в жизни согласиться с Наполеоном, признать слова Наполеона разумными, проницательными: в «Войне и мире», где с хронологической перестановкой приведена цитата из лас-казовского «Мемориала Св. Елены» насчет необходимости оставить человеческий организм жить и умирать без всякого вмешательства. У Толстого врач – почти всегда тупица, да еще и чуть-чуть пошляк, который входит к больному в комнату с вопросом «как делишки?» – думая, что эти «делишки» пациента должны ободрить. Или истукан, вроде светила-профессора, который на робкий вопрос Ивана Ильича, опасна ли его болезнь, отвечает: «я сказал все, что считал нужным сказать», и полупоклоном дает понять, что прием окончен. По существу, конечно, Беляев был прав: если врач внимателен, если он зорок и не глуп, поле для наблюдений перед ним открыто необозримое. Толстой судил по себе: ему не нужны были никакие консультации, чтобы видеть людей насквозь. Но не все писатели – Толстые.
Автобиографичен ли «Постскриптум»? Сомневаться в этом трудно, и кто знал Беляева, сразу уловит в его Павлике черты знакомые.
В Париже встретились два старых приятеля, не видавшихся много лет. Один – врач, постоянно живущий во Франции, другой – профессор-лингвист, приехавший в командировку из СССР. Сначала в их отношениях что-то не ладится. Профессор шумлив, болтлив, насмешлив и с трудом приноравливается к болезненной сосредоточенности своего друга. Человек он простой, давно отвыкший от лирических бесед на метафизические темы и с неловкостью от них отшучивающийся. «Совсем ребенок», – думает доктор. Однако именно этому профессору оставляет он свой дневник, внезапно исчезнув из Парижа, и тот, кряхтя и охая, принимается его читать:
«– Ах, докторчик, докторчик! Страшно мне за тебя, голубка. Хоть бы кто-нибудь полечил тебя, родной мой!»
Но доктор, судя по дневнику, страдает недугом, который лечению не поддается. Он живет – и не живет. Он – созерцатель, мечтатель, аналитик, он не в силах участвовать в жизни вместе с другими людьми, он чувствует, что жизнь уходит как вода сквозь пальцы, он хочет удержаться, за что-то схватиться, на что-то опереться, – а вокруг пустота. Именно поэтому доктор из «Постскриптума» так любит музыку. В музыке он забывается, в ней находит наркоз от всех своих мучений. «Радости мне, конечно не испытать, – говорит он сам себе, не она – мой удел… Но только бы освободиться от того, кто я сейчас!»
Исповедь доктора разделена на главы: «первая тайна», «первое разочарование», «первая ложь», «первое искушение», «первый протест», «первая женщина», «первая дружба». Самые факты, о которых он рассказывает, ничего исключительного собой не представляют. Но крайняя, сверх-мимозная чувствительность автора дневника, крайняя его впечатлительность превращают всякий пустяк в драму.
Едва ли было бы ошибкой сказать, что истинная тема «Постскриптума» – раздробление сознания, расщепление или распыление души, то есть тема, связанная с основными мотивами новой западной литературы. Павлик что-то в себе утратил, и из-за этого вся его личность распадается. Он – не совсем цельный, будто не вполне доделанный Творцом человек, он – туманность, лишенная отчетливых очертаний. Как далекий потомок Гамлета, он в недоумении стоит перед жизнью, и о чем бы ни думал, о чем бы ни вспоминал и ни рассказывал, повторяет все тот же вопрос: «быть или не быть?»
Перечитывая «Постскриптум», книгу неровную, книгу, в которой рядом со страницами на редкость содержательными и даже глубокими попадаются, что же скрывать, и декоративно-слащавые банальности, – вроде посмертной прогулки доктора со своим другом в нездешнем, райски-просветленном мире, – перечитывая этот роман, где, несомненно, автору было, действительно было «что сказать», невольно вспоминаешь Беляева, каким он представлялся в повседневной жизни, и думаешь: так вот что таилось за его какой-то неуловимостью, за тем, что при всей своей порывистости он будто ускользал, улетучивался, испарялся именно тогда, когда казался, наконец, близок? Причудливый это был человек, обаятельный и неясный, настойчиво стремившийся к общению, к тесной сердечной связи с людьми и в последнюю минуту наталкивавшийся по пути к ней на непреодолимые препятствия. Беседовать с ним бывало всегда интересно, хотя бы потому, что был он человеком больших знаний, широкой культуры. Но кое-что в беседе и смущало, – и теперь я понимаю, что именно подразумевал профессор-лингвист, когда, приступая к чтению дневника, хмурился: «ах, докторчик, докторчик, страшно мне за тебя, голубка!»
Со своей раздвоенностью и уклончивостью, при всей своей «туманности» это был во всяком случае человек, которого нельзя было не заметить в толпе других людей, промелькнувших в жизни. Его легкий и грустный образ удержался в памяти, а, кажется, он больше всего и хотел, чтобы о нем не совсем забыли и на его мучения и стремления не ответили полным безразличием.
«Новый журнал». Книги 51—52
Начну с того же, с чего начал и предыдущую статью о «Новом журнале»: в обеих последних книжках так много материала, и большей частью материала интересного, что приходится сделать выбор, – то есть или сказать по несколько слов о каждом авторе, или остановиться только на некоторых произведениях, обойдя другие молчанием. Второе решение мне представляется предпочтительнее, хотя к нему необходимо бы сделать разъяснение, оговорку: в молчании не содержится и не подразумевается, конечно, никакой оценки. Наоборот, иную статью приходится отложить до проблематического «другого раза» скорей потому, что в ней слишком много содержания, и если бы вступить с автором в спор, или, изложив его соображения, добавить к ним свои собственные, то больше ни на что не осталось бы места. Мне крайне жаль, например, что я принужден обойти молчанием короткие, но интереснейшие «Комментарии» М.М. Карповича, на этот раз полностью посвященные литературе, в частности Достоевскому. Жаль отчасти потому, что возражения и добавления напрашиваются сами собой. Отложим их «до другого раза», с надеждой, что намерение это не окажется пустой фразой.
Сегодня разговор преимущественно о стихах. Поэты недовольны. На них при разборе «Нового журнала» мало обращают внимания, и должен покаяться, я лично перед ними действительно в долгу. В последних выпусках журнала – целая галерея поэтов, и, бесспорно, внимания они заслуживают.
Первое, основное впечатление от чтения всех помещенных стихов подряд – разнообразие стилей, приемов, настроений, школ, вкусов, всего решительно. Когда-то существовала пресловутая парижская «нота», – «нота» многострадальная, следовало бы сказать, если бы, давно скончавшись, она не была бы теперь мертвенно-равнодушна ко всему тому вздору, который о ней порой еще слышится. В наши дни никаких «нот» больше нет. Каждый пишет по-своему и о своем: разнобой полный. Радоваться этому или огорчаться? По-моему, скорей радоваться. Во-первых, всякие «ноты», при естественном своем стремлении к единообразию и установлению некоей моды, на деле приводят к притворству и подделкам, во-вторых, жизнь, значит, в эмиграции не оскудевает, а эмигрантская поэзия еще не вышла из состояния того «буйного цветения», которое Константин Леонтьев считал признаком эпох истинно творческих. Я слегка иронизирую, конечно. Особенно буйного «цветения» в нашей поэзии не заметно. Но стихи попадаются прекрасные, и таких стихов немало.
Несмотря на разнобой некоторым диссонансом звучит стихотворение покойного Б.В. Савинкова. Несправедливо было бы сказать, что оно совсем слабо. Нет, но оно поэтически наивно, оно легковесно в самом словесном составе своем, и если бы не имя автора, человека, который в истории нашей след оставил, помещать его в большом журнале не стоило бы. По совести, место ему скорей в изданиях вроде «Огонька» или «Солнце России».
Если кому-либо из читателей замечание мое о литературном простодушии Савинкова покажется произвольным, пусть вслед за его стихотворением прочтет стихи Д. Кленовского. Думаю, каждому станет ясно, в чем дело, и что я имею в виду. Кленовский – настоящий мастер, требовательный, подчеркнуто консервативный, но умеющий одной чертой, одним намеком вдохнуть в свой консерватизм жизнь, остановиться там, где началась бы мертвечина. Вот, например, его первое стихотворение о «славном содружестве поэтов благословенной пушкинской поры»: на первый взгляд – типичная стилизация под тридцатые годы прошлого века. Одна, единственная строка – «развлечены, но не потрясены», с этим двойным, непривычным «ны», – заставляет насторожиться и вносит в пушкинообразное, будто бы подражательное стихотворение нечто свое, новое, живительное. Или неожиданное «перешептали» в стихотворении об украинских соловьях, настолько голосистых, что их не перекричать, но которых влюбленным удалось «перешептать»! Каждое стихотворение Кленовского отмечено подобными своеобразными находками. В общем складе его поэзии есть что-то гумилевское: мужественность, стройность композиции, стойкость в раз навсегда принятой литературной позиции. Но гумилевскую манеру Кленовский обточил и развил, от основных ее принципов не отступая.
Олег Ильинский как будто находится еще в стадии поисков самого себя, своей индивидуальности, своего стиля и жанра. Поэт эти поиски оканчивает, и оканчивает успешно, лишь тогда, когда авторство его можно узнать без подписи. Ильинский от этого еще далек, и думаю, если бы такой опыт со стихами его проделать, никто не узнал бы, кому они принадлежат. Стихи Ильинского ничем между собой не связаны и никак одно другому не откликаются. Но в том, что он талантлив, сомнений нет, – талантлив и довольно смел, хотя и не всегда удачлив. Слово «синтез», например, в русской поэзии употреблено, вероятно, впервые. По-моему, слову этому хорошо было бы еще полежать, помедлить в словарях, в ученых трактатах, в статьях, пускать его в поэзию еще рановато, если когда-нибудь и найдется ему в ней место! Ведь даже тютчевский «протест» – «души отчаянный протест» – чуть-чуть режет слух. Самое стремление стереть стилистические отличия поэзии от прозы, конечно, законно, и заложено оно в ходе вещей. Но к словам иностранным и отвлеченным поэзия мало расположена и плохо с ними уживается.
О рифмах: Ильинский рифмует «завладел» и «в воде», «разлив» и «донесли». Такие созвучия появились в нашей поэзии давно, лет сорок тому назад, если не больше. Одно время они казались остроумным, желательным новаторством, теперь скорей кажутся несколько устарелой, досадной причудой. Замечательно ведь вот что: ни один стихотворец, в литературе не искушенный, ни один стихотворец-дилетант и самоучка никогда «в воде» и «завладел» не срифмует! Зато срифмует он – и поэты неопытные постоянно это делают, – «в воде» и «во мне», «в воде» и «на окне», то есть слова с разными опорными согласными, но без дополнительной согласной в конце. Ухо, очевидно, к таким созвучиям склонно, оно их допускает. Но «в воде» и «завладел» есть насилие над слухом, ничем не оправданная выдумка, и если она и приемлема, то, пожалуй, лишь в стихах, написанных размером вольным, в стихах вольного, размашистого, скажем, «Маяковского», склада, но едва ли в правильных ямбах[37]37
Впрочем, как все шатко и спорно в области созвучий, слуха, гармонии! В одном из предыдущих номеров «Нового журнала», например, В. Набоков-Сирин писал с необычным для себя лиризмом, что строка из «Онегина» Напев торкватовых октав… для него «насквозь осветила и окрасила полжизни», что он до сих пор слышит ее «весной во сне». Я был крайне удивлен совпадением в выборе строки, т. к. именно она, эта строка, всегда казалась мне сравнительно мало удачной. Пушкину почти никогда не изменяли ни чувство меры, ни слух, но здесь он оказался к этому близок: инструментовка стиха на «к» и «в» слишком подчеркнута, «кваква» похоже на кваканье. Если некоторые строки из «Онегина» могли бы и мне «осветить полжизни», то другие, скорей всего из последних двух глав. А из уже упомянутых мной «Комментариев» М. Карповича я узнал, что Юрий Олеша о другой пушкинской строке «И пусть у гробового входа…» говорит: «Пять “о” подряд! Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами – эхо». Но ведь здесь – явное недоразумение. В пушкинской строке не пять «о», а всего только два, т. к. остальные три неударяемых «о» при правильном произношении звучат неопределенно и никакого эхо не напоминают. Олеша, если не ошибаюсь, одессит, а очевидно говорит по-русски с вологодско-архангельским оканьем.
[Закрыть]*.
У Ирины Одоевцевой – редкое в нашей новейшей поэзии совпадение того, что сказано, тому, как сказано. Ее-то можно безошибочно узнать по трем-четырем строчкам! Что особенно у Одоевцевой своеобразно, это сплетение обманчиво-веселого, даже почти что пляшущего напева, игры словами, красочной пестроты с темной, скрыто-трагической сущностью общей ее темы. Не случайно одно из ее стихотворений кончается упоминанием о «райском ужасе»; словосочетание крайне для нее характерное. Одоевцева о рае туманно мечтает, а ужас отчетливо перед собой видит, и в стихах с постоянной, все усиливающейся «сумасшедшинкой» от мечты к реальности переходит, перебегает, будто в заколдованном кругу. Ворожба, колдовство в стихах Одоевцевой очевидны. Но эта ворожба вдруг исчезает, растворяется в каком-то легчайшем, жалобном вздохе, будто то, что поэт знает, он бережет про себя, а пугать никого не хочет. Надо бы когда-нибудь о стихах Одоевцевой поговорить обстоятельно, они стоят того. Лев Троцкий проявил несомненное литературное чутье, когда в ранних, еще полудетских балладах ее отметил черты, принадлежащие ей одной, больше никому.
О стихах Игоря Чиннова тоже следовало бы поговорить не в общем обзоре, а отдельно, с тем вниманием, которого они заслуживают. Поэзия Чиннова настолько сдержанна, меланхолична и внутренне стыдлива, что первый шаг к ней должен бы сделать читатель. Но не всякий читатель к этому склонен: большинство предпочитает, чтобы их «брали за жабры» (как выражался Бунин, говоря о Некрасове). Однако широкой популярности Чиннов, кажется, и не ищет. Был в русской истории «тишайший» царь: теперь есть у нас «тишайший» поэт, тишайший и тончайший. Кто к чинновской поэзии первый шаг сделает, многое в ней уловит, если только от природы не глух: поэзия эта вся в обертонах, вся – по верленовскому совету – в оттенках и переливах, хотя при ювелирной своей отделке и не впадает в претенциозную изысканность. Чиннов расщепляет чувство, мысль или образ, обычно считающиеся цельными, а затем снова их собирает, – но лишь предварительно показав их сложнейший состав. Бывают поэты-ораторы, поэты-трибуны и запевалы. Чиннов – крайняя им противоположность: он никого не потрясет, не увлечет на своих «крыльях» под облака (подлинные или бутафорские: случается ведь и это!), но он может заставить задуматься о многом таком, мимо чего ораторы и запевалы рассеянно проходят мимо. Пожалуй, даже больше: может иного оратора при сравнении с собой превратить в болтуна и верхогляда.
Галерея поэтов в «Новом журнале» действительно обширна, приходится отзывы и замечания сократить.
А. Величковский пишет все лучше, все чище и увереннее, без тех странных срывов, которые у него бывали еще недавно. Школа Ходасевича? Да, бесспорно. Поэтический реализм Величковского, реальность, переходящая в сновидение, сон, превращающийся в реальность – от Ходасевича. Но что же, школа это хорошая, а Величковский – один из немногих, кто с пользой для себя в ней побывал!
Стихи Н. Туроверова, как всегда, ладно скроены, крепко сшиты, добротны, и, что особенно в них привлекательно, живут органической жизнью, то есть это стихи, которые ничем, кроме стихов, быть не могли бы. Полет или ход в них тяжеловат, но движение свое и без перебоев. О Юрии Трубецком (первое стихотворение которого сразу вызывает в памяти блоковское восьмистишие «Ночь, улица, фонарь, аптека…», – и не могу не воспользоваться случаем сказать: восьмистишие поистине гениальное, одна из драгоценностей русской поэзии), о Екатерине Таубер, о Лидии Алексеевой, о Н. Евсееве, о Георгии Евангулове – в другой раз, и подчеркиваю, повторяю, настаиваю, исключительно потому «в другой раз», что статья и без того разрослась. Новое имя – по крайней мере, для меня – Мих. Дороганов: не уверен, однако, что и в другой раз найдется, что о нем сказать. Но отчаиваться никогда не надо, подождем подписи его под другими произведениями.
Наконец – шесть стихотворений Георгия Иванова, «Дневник». Позволю себе, в отступление от правил и даже, пожалуй, от литературной благопристойности, указать, что в «Новом журнале» помещена моя статья о стихах Георгия Иванова, и к ней отослать тех, кого критическое суждение о них могло бы заинтересовать.
В прозе надо отметить «День гнева» Г. Андреева, короткий рассказ о казаке, перешедшем во время войны к немцам, – рассказ, полный напряжения, недоумения перед случившимся, «тревоги и беспокойства», если воспользоваться словами автора, всего того, что слышалось у Андреева и в «Трудных дорогах». А еще – любопытнейший историко-беллетристический очерк Н. Ульянова «Педро Иванович», о русском посольстве в Испанию при царе Алексее Михайловиче.
«Ремизов о самом себе» Н. Кодрянской – всего восемь страничек, отрывок из готовящейся к печати книги, – пожалуй, самый верный «ключ» к Ремизову, какой у нас до сих пор был. Не скрою, не стану притворяться: мне лично «ключ» к этому очень сложному, очень противоречивому, замечательному и несносному писателю нужен. Завидую тем, кто им восхищается без оговорок или отбрасывает его без колебаний! У Кодрянской Ремизов человечен, мудр, чуть-чуть жалок, и… второе «чуть-чуть»: у Кодрянской он чуть-чуть похож на Розанова, и даже вспоминает ту же молитву «Не имамы иныя помощи…», которая приведена в незабываемом предисловии к «Людям лунного света». К помещенной в предыдущей книжке журнала «Плачужной канаве» записки Кодрянской – лучший комментарий и дополнение.
Интересны и содержательны статьи – М. Слонима о романе Пастернака – кстати, есть ли надежда, что роман этот мы прочтем по-русски? в переводе, даже самом искусном, от Пастернака должно мало что остаться! – прот. В. Зеньковского о «Миросозерцании Тургенева» (впрочем, до крайности спорная в выводах). В. Седуро о Достоевском и другие. Как обычно, воспоминания Е.Д. Кусковой не только интересны и содержательны, но и с чудесной непосредственностью написаны.
P.S. Статья Ник. Оцупа о сборнике переводов из Тютчева – в ответ на мою статью, появившуюся в «Русской мысли» месяца два-три назад, – меня удивила. Во-первых, если уж отвечать, почему было не ответить сразу, когда и читатели, и даже я сам, твердо помнили, в чем дело? Во-вторых, удивили меня цветы полемического красноречия, статью Оцупа украшающие.
О них говорить не будем. Оцуп «с уважением к противнику», – признаться, я не знал, что я его «противник»! – «вынужден указать мне мои ошибки». Внимательно прочитав статью, я, однако, ошибок не обнаружил, а нашел только расхождения в истолковании противоречивых замечаний о Тютчеве Некрасова и Достоевского.
Несколько иначе обстоит дело с вопросом об ударениях. По-моему, Оцуп в тютчевских стихах расставляет их произвольно и с явными колебаниями. Отметив это, я, помнится, добавил, что колебания вполне естественны, – но Оцуп их отрицает. Речь идет о словах односложных, – и Оцуп пишет: «Ставлю я значок на односложных словах лишь там, где и так подразумеваемое ударение надо усилить, так сказать, нажав педаль». Прекрасно, но почему в таком случае в ямбической, – т. е. требующей ударения на втором слоге, – строчке на «так» значка нет? Что же, надо прочесть ее, как ямб правильный, гладкий? «Педали» нажимать не следует?
Так! Но прощаясь с римской славой…
Или дальше: «О, этот юг, о, эта Ницца…» На «о» значка нет, а ведь это тоже ямб! Не могу допустить, чтобы Оцуп, поэт, читал эту строчку с ударением на «этот», «эта», а не на «о».
И подобных примеров – без счета.
«Спорным» считает Оцуп мое замечание, что в строчках:
Где поздних, бледных роз дыханьем Декабрьский воздух разогрет
«дыханье» следовало бы перевести словом «souffle», а не «parfum», тем более что это лучше сохранило бы шеллингианский оттенок, у Тютчева если не постоянный, то не редкий. «Шеллинг Шеллингом, – пишет Оцуп, – а переводы-то все-таки сделаны на французский, а не на немецкий язык!» Совершенно верно. Но насколько мне известно, слово «souffle» по-французски и значит дыхание, а «parfum» значит аромат, запах.
Все это, – да и кое-что другое, разумеется, – мелочи, и, не увлекаясь полемикой, я хотел бы повторить, что в общем сборник составлен Оцупом отлично. А вот с его утверждением о великой пользе «столкновения мнений» согласиться не могу. По французской поговорке, «из столкновения мнений возникает – jaillit – истина». Нет, в девяти случаях из десяти не jaillit ровно ничего, в особенности при спорах газетных и журнальных, – отчасти потому, что каждый из спорящих думает не столько об истине, сколько о том, как бы изловчиться и положить «противника» на обе лопатки.









































