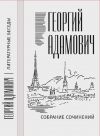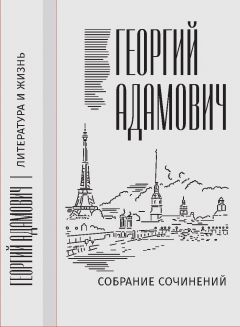
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Восьмидесятилетие Бориса Константиновича Зайцева
Все, вероятно, согласны, что русская литература – лучшее, что Россия дала. Ни в какой другой области великая даровитость нашего народа не обнаружилась с такой полнотой и убедительностью, – ни в какой другой, не исключая и музыки. Хороша русская музыка, но Пушкина, Толстого, Тютчева, Достоевского, Лермонтова в ней все-таки нет! Не тот духовный уровень, не та глубина и сила.
Конечно, произнося эти два слова «русская литература», как нечто достойное стать в один ряд с тем, что было создано людьми наиболее замечательного, имеешь в виду главным образом наш девятнадцатый век. Покойный Алданов настойчиво повторял, что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате», последней большой повести Толстого, – и помню, сказал он это однажды в присутствии Бунина, который явно с ним был согласен, хотя тут же, притворяясь слегка обиженным, полушутливо, полуворчливо возразил:
– Ну, что вы, Марк Александрович, зачем же преувеличивать?.. Были и после Толстого неплохие писатели!
Спорить было бы смешно. Были и после Толстого писатели в самом деле «неплохие». Но я уверен, что Борис Константинович Зайцев, как в глубине души и Бунин, тоже согласился бы с Алдановым: великая русская литература – это девятнадцатый век, наш «золотой» век, почти непостижимый по внезапности, стремительности и высоте взлета, притом «из ничего», без настоящей подготовки, будто Россия, чувствуя, как она отстала от Запада, решила одним броском наверстать упущенное. Не случайно Поль Валери, человек с очень острым чутьем, безошибочно догадывавшийся о том, чего, в сущности, не знал, заметил, что русский девятнадцатый век – «третье чудо в истории мира», третье после Афин и итальянского Возрождения. А чудеса долго не длятся и не повторяются.
Борис Зайцев дорог русским читателям вовсе не только как олицетворение связи с прошлым и непрерывности литературного развития. Он дорог сам по себе, и живи он в другую эпоху, отношение к нему осталось бы тем же. Он несомненно один из тех писателей, которых вместе с собой имел в виду Бунин, когда возражал Алданову. И хочется добавить – из тех немногих писателей, – потому что сколько за последние годы и десятилетия померкло в нашем сознании звезд, казавшихся когда-то ослепительно-яркими, и какую переоценку волей-неволей пришлось нам мысленно произвести! Но Зайцев уцелел, остался: ни время, ни события, наше время наполнившие и даже его переполнившие, Зайцева не тронули и прелести его писаний не уменьшили.
Слово «звезда» подвернулось мне только что случайно. Но нет писателя, в котором отчетливее и таинственнее чувствовалось бы что-то именно «звездное»: голубое, лучистое, далекое мерцание, не совсем земное, будто коснувшееся на пути к земле каких-то «миров иных». Да, тут же матушка-Москва со своим привольем и раздольем, тут же быт, иногда густой и плотный, как, например, в повести «Анна», но если не присутствие, то отсвет «миров иных», воспоминание о них, у Зайцева везде, – и звезды, как их зримый образ… – Все это своеобразно до крайности, – своеобразно и литературно, и человечески.
Но в юбилейные дни критический анализ, даже самый доброжелательный, не совсем уместен, и хотя о Зайцеве много уже было написано, окажем доверие будущему исследователю, «будущему историку», лицу проблематическому, но который должен бы когда-нибудь явиться и должен бы сказать о Зайцеве то, чего нам до сих пор сказать все-таки не удалось.
Сегодня, к празднику зайцевского восьмидесятилетия, надо поделиться другими соображениями: Борис Константинович среди нас – будто оплот, охрана, залог того, что не все еще «идет к черту», как говорил Чехов, боясь смерти Толстого и некоего «все позволено», которое после нее могло бы распространиться. Сейчас на Зайцеве – долг. Это, очевидно, передается от одного к другому, из рук в руки – как символ старшинства, я не знаю, к кому перейдет такая роль после Зайцева, – предвидеть трудно! Но сейчас она принадлежит ему, сознает он это или не сознает, хочет он этого или нет: сейчас предводительство, представительство русской литературы – не только его право, но и его обязанность, и вспоминая, что первые, но уже типично зайцевские вещи его появились, когда только что еще было написано «Воскресение», радуешься тому, что он еще по-прежнему бодр и духовно молод.
Все движется, все изменяется, и нелепо было бы стремиться ход жизни задержать. Не об этих безнадежных, юлиановских затеях речь. Но движение не есть разрыв, и присутствие в нашей литературе человека, который прошлое соединяет с настоящим, удерживает ее облик от искажения.
Дай Бог Борису Константиновичу сил на еще долгие годы! О будущем всегда чуть-чуть жутко думать, а в такое время, как наше, тем более. После нас, что будет? Поймут ли наши внуки и правнуки, почему мы с тревогой представляли себе их жизнь, их участь, их книги? Почувствуют ли они, что нам не было «все равно», когда мы пытались перенестись мыслью в далекое, неведомое будущее, и что мы сознавали долю и своей ответственности за него?
Здесь, в нашей оскудевшей литературной семье, Зайцев – тот человек, последний, после которого смутная, все усиливающаяся растерянность может стать всеобщей, и чем дольше он во главе этой семьи простоит, тем легче ей будет остаться своему назначению верной. Оттого его сегодняшний праздник – наш праздник. Едва ли найдется русский писатель, который, кланяясь ему сегодня, этого не понял бы.
«На врачебном посту в земстве»
Первые страницы воспоминаний доктора С.Ф. Вербова менее интересны и содержательны, чем все то, что следует за ними. О дореволюционном студенческом житье-бытье, о юных иллюзиях и разочарованиях, о политических волнениях в университетах рассказано было много раз, и хотя Вербов пишет об этом с живой непосредственностью, а иногда и юмором, самый предмет его рассказа настолько знаком, что внимание мало-помалу рассеивается.
Но читателю, который, поддавшись этому первому впечатлению, ограничится тем, что только перелистает и дальнейшие главы книги, придется потом пенять на самого себя. Едва только Вербов переходит к своей врачебной практике, как в повествовании его появляются верные наблюдения, проницательные догадки и мысли, и не только становится оно увлекательным, но часто заставляет и задуматься. Медицина ведь каждого из нас так или иначе «касается», и едва ли я ошибусь, сказав, что, например, медицинские заметки в газетах и журналах читаются усерднее иных больших статей на темы политические или литературные. А у Вербова его медицинские размышления связаны с картинами темной и бедной среды, в которой ему, только что выпущенному из университета врачу, пришлось работать, и одно с другим складывается в рассказ, полный значения и внутренней правдивости.
Первое, самое острое ощущение молодого врача, который вместо книг и руководств оказался лицом к лицу с «живым больным», – беспомощность и растерянность. Об этом Вербов вспоминает вполне откровенно, и, вероятно, многие его товарищи по профессии испытали то же самое, – особенно в те, уже далекие времена, когда университетское преподавание сводилось преимущественно к чтению лекций. «Ничего не знаю», «никогда этого не видал», «не помню, что в таких случаях рекомендуется делать», – вот первая реакция молодого земского врача на внезапно открывшуюся ему бесконечную разновидность человеческих немощей. Однако Вербов уже и тогда отдавал себе отчет в том, что врач должен внушить больному доверие к своим знаниям и что лечение без этого не даст и половины желаемого результата.
Кто не знает этого по себе, или хотя бы по семейным наблюдениям и воспоминаниям? Больной, в особенности если болен он серьезно, опасно, жаждет доверия к врачу, ищет, требует его, и весь организм больного тянется навстречу этому целительному доверию. А между тем, если взглянуть со стороны, можно ли не понимать, что и самый авторитетный, прославленный профессор, склоняясь над постелью больного, порой недоумевает: что у этого несчастного? как ему помочь? как бы не ошибиться в диагнозе? – и пожалуй даже, чем врач опытнее и прозорливее, тем настойчивее сомнения одолевают его. (Есть у Селина в его замечательном «Путешествии вглубь ночи» – книге, вызвавшей в свое время много шума, а теперь позабытой, вернее, умышленно «замолчанной», к чему, впрочем, личность автора дала немало поводов, – есть у Селина любопытнейшая страница об этом: разговор старика-академика со своим учеником, пришедшим к нему посоветоваться о ребенке, по-видимому, заболевшем скарлатиной. Старик отвечает: «видишь ли, знай я только то, что знаешь ты, случай этот я считал бы совсем простым и ясным! Но с каждым годом я все больше убеждаюсь в загадочной сложности и своеобразии каждого человеческого организма и по совести все меньше чувствую в себе врачебной уверенности». Разумеется, у постели больного он в этом не признался бы и был бы прав.)
Вербов умело скрывал от больных свои сомнения, а количество лекарств, которыми он в качестве земского врача в сельской глуши располагал, было так ничтожно, что точность диагноза все равно большого значения на практике иметь не могла. Приходилось прописывать то, что находилось под рукой. Помогала, да отчасти и укрепляла веру врача в свое дело, близость «всесильной и благодетельной» – как выражается Вербов, – природы: врачевал свет, солнце, воздух, чудесно чистый, «богатый кислородом от изобилия трав, цветов, лесов, пропитанный растительными соками». О природе Вербов пишет много, с увлечением, и хотя в медицине я полнейший профан, однако догадываюсь, чувствую, что пишет он умно и верно, в согласии с тем, что и профанам, и ученым одинаково подсказывает их жизненный опыт. Не менее убедительно и то, что говорит он о целительных силах, существующих в организме, и о том, что задача врача – «по существу лишь облегчать, или в лучшем случае усиливать, а иногда и вызывать к жизни действие этих сил». Каждый человек чувствует эти силы в себе и знает, к чему приводит при заболевании их упадок или, наоборот, их отказ от сдачи, их бунт и сопротивление.
Но, конечно, огромный, всесторонний опыт, мало-помалу приобретавшийся земским врачом, – которому приходилось и бороться с эпидемиями, и быть акушером, и рвать зубы, – заставлял его лучше, полнее понять и усвоить все то, что ускользает от человека городского, и даже от врача городского, к тому же ограничивающего себя одной, узкой специальностью. Бесспорно, в своей области специалист располагает сведениями, которых не могло быть ни у какого земского врача. Но если признать, что медицина – наука широкая (притом все расширяющаяся по сравнению со временами, когда Базарову казалось, что для постижения всех ее тайн достаточно «резать лягушек»), наука в финальных своих очертаниях крайне зыбкая и неясная, надо признать и то, что общее знание жизни, знание человека, а не только процессов, происходящих в его теле, дает в ней очень многое. С того дня, как Вербов растерянно глядел на страдальца-мужика, умолявшего сделать ему «пырацию», и потом, в течение долгих лет земской практики, он выучился тому, чего ни в каких руководствах не нашел бы.
В высшей степени интересно все то, что рассказывает он о недоверии крестьян к медицине, и даже не столько к самой медицине, сколько к врачу, который для них был прежде всего «барином». А раз барин, то надо быть настороже, раз барин, то добра от него не жди! Вспоминаю в связи с этим давние слова Бунина, знавшего русскую деревню, как мало кто другой: «если русскому мужику сказать, что сегодня погода хорошая, а завтра, пожалуй, будет дождь, мужик примется думать: зачем он мне это сказал? не для того ли, чтобы у меня что-нибудь выманить, как-нибудь меня обмануть?»
Да вспомнить можно и многое другое: например, Нехлюдова из «Воскресения», тщетно пытающегося отдать крестьянам свою землю во владение («Даром землю отдам, говорит, только подпишись!.. Подпишись вдвоем с другим мужиком, Тит! Мало они нашего брата околпачивали»). Или того же Базарова и его разговор с мужиком, который бормочет что-то умилительно сладкое, – «вы наши отцы», – а оставшись вдвоем с другим мужиком, изменившимся, суровым голосом замечает: «барин, вот и захотелось языком почесать!» Это, впрочем, вопрос, который отвлек бы нас очень далеко от книги Вербова, да по существу это и один из «проклятых» вопросов русской истории, с тяжкими и огромными в ней последствиями, – чему мы и оказались невольными свидетелями.
Записки земского врача должны бы найти широкий отклик, вызвать внимание. О том, что Вербов – писатель, наделенный особым даром повествовательной легкости и непринужденности, мы знали еще по его предыдущей книге – о юношеском путешествии через днепровские пороги. Но то было чтение скорей развлекательное, чтение «для отдыха», а теперь, при той же писательской манере, автор делится воспоминаниями, которые чуть ли не на каждой странице вызывают ответные мысли.
Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лаффит)
Есть вопрос, на который трудно ответить без колебания, – настолько противоречивы мысли, им вызываемые: нуждается ли русская литература, и прежняя, и новая, в том, что можно бы назвать пропагандой в ее пользу? Должны ли мы бороться с некоторым безразличием, окружающим на Западе русское творчество, – безразличием несомненным, если только не поддаваться приятным иллюзиям? Нет ли чего-то досадного и даже слегка унизительного в стремлении ознакомить Запад с тем, к чему, в сущности, он подлинного интереса не имеет?
Мне возразят, вероятно, сразу же: что вы, что вы, интерес есть, он велик, он все растет! Нет, это впечатление обманчивое, и уж во всяком случае мнимый, поверхностный «интерес» этот мало имеет общего с тем страстным, нетерпеливым, тревожным вниманием, с которым мы в России относились ко всему западному, вниманием, которое по всем признакам настойчиво пробивается теперь и у молодежи советской. Мы в России не ждали, чтобы французы или англичане осведомили нас о своих поэтах, об основных западных книгах, о тех суждениях и оценках, которые устанавливаются в Париже или Лондоне: мы сами торопились все это узнать, все это понять, и свои оценки мы сталкивали с иноземными, то уступая, то оставаясь при своем. Препятствия в языке? Нет, язык тут почти ни при чем. Причины гораздо глубже, коренятся они в самом различии культур, – откуда, конечно, было бы крайне опрометчиво, и даже просто глупо, делать вывод, что наша культура была лучше. Не лучше, нет, а отзывчивее и как будто пористее. Дело, по-видимому, в том, что Запад в своих духовных очертаниях округлен, замкнут, сам себе «довлеет», представляет собой исторический мир, способный еще долго жить, питаясь своим собственным содержанием. Но факт остается фактом. Да, кое-что – помимо классиков – о русской литературе французам или англичанам, немцам или итальянцам действительно известно: Маяковский, например, – имя его знают все. Как же, помилуйте, «великий революционный поэт», – и скажу мимоходом, я менее всего склонен отрицать, что Маяковский был поэтом подлинным, исключительно даровитым, хотя и променявшим творчество свободное на работу по заказу, по мерке и постороннему внушению… Но вот Тютчев был поэтом гениальным, а еще недавно можно было найти в одной английской книжке указание, – очевидно, в качестве рекомендации или диплома, – что Тютчева, видите ли, ценил Маяковский! Кто на Западе знает Тютчева, кроме специалистов, кроме ученых исследователей? Кто слышал имя Иннокентия Анненского, которого, кстати, Маяковский тоже «ценил» («Анненский, Тютчев, Фет» – в одном из стихотворений 1917 года)? А ведь если собрать всех русских поэтов, в том числе и советских, и предложить им честно, чистосердечно ответить, кто для них дороже, Тютчев или Маяковский, то вызовет это у огромного большинства лишь изумленную усмешку: как можно имена эти ставить рядом? И даже сопоставление с Анненским оказалось бы для Маяковского катастрофическим.
Примеров, впрочем, не оберешься, и вот еще один из них: глубокое расхождение в оценке чеховских пьес, которые западной «элитой» приравниваются чуть ли не к Шекспиру, а взыскательным русским читателям и зрителям давно уж представляются испорченными неврастенической сентиментальностью и приторным лиризмом в духе «неба в алмазах». И что особенно показательно – полное отсутствие любопытства к этому русскому ощущению непрерывной фальши и слащавости, ощущению, которое в качестве реакции соотечественной имеет все шансы оказаться реакцией верной! Или случай с «Доктором Живаго», в котором за шумом политическим, и политически оправданным, повсюду на Западе обнаружилась наивность в отношении русских литературных перспектив, приведшая к тому, что роман этот – более значительный как «человеческий документ», как «глас вопиющего в пустыне», как явление духовное, чем как явление художественное, – был провозглашен новой «Войной и миром».
Что же, надо на самих себя и пенять? Значит, мы плохо осведомляем Запад о жизни, о развитии, о судьбах русской литературы? Вот тут-то и запятая, – как говорит Иван Карамазов. Уверенность в русском литературном равноправии с любой из великих западных литератур заставляет воздерживаться ото всего сколько-нибудь похожего на искательство, на навязывание, да и вызывает сомнение в результатах этой настойчивости. Иногда хочется сказать: поинтересуйтесь, полюбопытствуйте сами, спросите, справьтесь, прочтите, сравните, подумайте, но не ждите от нас, что мы будем просить о внимании! Если его маловато, то, очевидно, не очень велика и потребность в нем.
Эти свои соображения я высказываю «в дискуссионном порядке». Предвижу, что многим они покажутся односторонними, а то и вовсе ошибочными. Не думаю, чтобы ошибся я «стопроцентно», но начал-то я с указания на колебания не случайно, – допуская, значит, возможную основательность и другого взгляда. Если чувство, о котором я упомянул, и возникает, то ведь преимущественно потому, что слишком уж живуча оказалась «клюква» во всех ее разновидностях, обличиях, оттенках и степенях: нечто вроде репейника из предисловия к «Хаджи-Мурату».
Но отбросим крайности. Нечего поздравлять друг друга, нечего умиляться и гордиться, когда какая-нибудь действительно замечательная русская книга обратит наконец на себя внимание, но нельзя и не воздать должного тем, кто в этом смысле России и русской культуре достойно и со знанием дела служит.
София Григорьевна Лаффит служит России и русской культуре уже довольно много лет, усердно, трудолюбиво, с большой проницательностью и чутьем. Еще совсем недавно русские парижане могли в этом убедиться на интересной и богатой толстовской выставке, которую именно она, в качестве заведующей русским отделом Национальной библиотеки, и устроила. Первая литературная работа Софи Лаффит появилась вскоре после войны – большая монография о Блоке. За этим последовали книги о других русских поэтах, – о Есенине, с обстоятельной вступительной статьей, об Анне Ахматовой, составленная главным образом из переводов. Последняя работа Софи Лаффит – «Лев Толстой и его современники», бесспорно самая ценная из всех, не говоря уже о том, что она и наиболее увлекательна.
Не только тема этому причиной, но и подход к теме, то личное, живое, непосредственное, прихотливое, порой даже своевольное, что автором внесено. Монография о Блоке была исследованием академическим. Здесь, в книге о Толстом, если от какого-либо академизма след и остался, то лишь в виде библиографических данных, в обилии ссылок на года и даты, в тщательности примечаний к именам и названиям. Но самый характер изложения настолько необычен, или даже фантастичен, что вначале читатель невольно спрашивает себя: что это, сплошной вымысел? Прочитав главу-другую, он с повествовательной манерой Софи Лаффит свыкается, а закрывая книгу, о недоумениях своих и забывает, – подчинившись закону, согласно которому «победителей не судят».
В прологе действие происходит – именно «действие происходит», ибо книга, как драма, разделена на «акты», – в редакции «Нового времени», в достопамятном Эртелевом переулке. В кабинете старика-Суворина сидят Чехов и Розанов и беседуют с хозяином о Толстом. Была ли когда-нибудь такая беседа? Вопрос этот в данном случае праздный, так как на историческую точность действия автор не претендует. Остается он по мере возможности верен лишь точности высказываемых мыслей, и читая этот обмен мнений, то и дело припоминаешь: вот это из писем Чехова, другое сказано Розановым в «Уединенном» или в «Опавших листьях», третье – из бунинских воспоминаний о Чехове, – и так далее.
Глава о Толстом и Тургеневе составлена иначе, в соответствии с образцами более традиционными, и по богатству собранного в ней материала, да отчасти и благодаря сложности толстовско-тургеневских взаимоотношений, от страниц этих подлинно «нельзя оторваться». Дальше глава… нет, не глава, «акт второй»: Толстой и Достоевский. Как известно, два наших величайших писателя не были лично знакомы, – по вине Толстого, который отказался от предложения Страхова познакомить его с Достоевским, когда оба они были в Соляном Городке на лекции Владимира Соловьева (теперь это кажется чем-то невероятным, почти что сказочным: на эстраде – Соловьев, в публике – Толстой и Достоевский!)
Софи Лаффит не доходит в своей вольности до того, чтобы «вообразить» встречу Достоевского с Толстым, она поступает иначе: Достоевский у нее незадолго до смерти беседует с любимой «бабушкой» Толстого, долголетним его другом, Александрой Андреевной Толстой, и высказывает ряд мыслей о «Войне и мире» и «Анне Карениной», а попутно и об общем характере толстовского творчества. Картина убедительна и правдоподобна, лихорадочный стиль Достоевского с непрерывными отступлениями в сторону воспроизведен очень удачно, и это тоже глава захватывающая. Однако здесь Софи Лаффит делает то, от чего по отношению к Тургеневу воздержалась: она как бы продолжает мысли Достоевского, развивает, дополняет их, приписывая Достоевскому суждения, которые тот мог бы высказать, но на самом деле не высказывал. Крайне интересно все, что Достоевский у нее говорит о Наполеоне, иногда с дословной точностью повторяя Раскольникова. По-видимому, сама Софи Лаффит принадлежит к людям, которых образ Наполеона неотразимо пленяет и волнует, – это чувствуется в книге между строками, а что Достоевский, вслед за Пушкиным и Лермонтовым, мог бы быть причислен к посмертной наполеоновской литературной свите, сомнений нет[40]40
Удивительное явление, этот культ Наполеона! Объяснение его, вероятно, в тусклом, прозаическом однообразии современного быта, в безотчетном отталкивании от того «всемства», которое ужасало К. Леонтьева. Достаточно вглядеться в притихшую, но явно взволнованную толпу над наполеоновской гробницей, чтобы убедиться в какой-то иррациональности этого культа. Не «самая головокружительная в мировой истории карьера», по формуле Алданова, не просто выдающийся полководец или государственный человек, как, скажем, Веллингтон или Бисмарк, а последний западноевропейский миф, последняя легендарная личность, легендарная судьба. Отклики возникают до сих пор, и нельзя предвидеть, где и у кого. В недавно вышедшей шестой книжке «Мостов» напечатаны отрывки из писем Марины Цветаевой к А.В. Бахраху. Оказывается, Цветаева, приезжая в Париж, останавливалась не где придется, а на рю Бонапарт – «из любви к Императору».
[Закрыть]*.
Одна мелочь меня озадачила: опровергая в беседе с Александрой Андреевной толстовский взгляд на Наполеона как на «ничтожное орудие истории», Достоевский ищет поддержки у нескольких великих и проницательных людей и называет Гёте, Байрона, Пушкина, Лермонтова и Ницше. Насколько помню, нигде, ни в одном из писем Достоевского, не говоря уже о «Дневнике писателя», имя Ницше не упоминается. Если даже допустить, что Достоевский, этот много читавший, за всем следивший, обо всем новом и необычном беспокоившийся человек (заинтересовался же он Лобачевским, судя по трактирному разговору Ивана с Алешей!) – если даже допустить, что Достоевский о Ницше слышал, то указывать на преклонение его перед Наполеоном не мог никак. Ко времени смерти Достоевского едва кончился вагнеро-шопенгауэровский период в умственном развитии Ницше, а все «сверхчеловеческое» нашло выражение свое позднее, в восьмидесятых годах. И во всяком случае при жизни Достоевского Ницше ни для кого еще авторитетом не был, так что ссылка на него не могла бы иметь значения.
Конечно, это мелочь, и путаница произошла тут только в хронологии, а не в самом существе дела. Но мелочь это характерная для своего рода сотрудничества автора с представленными им лицами и для его вторжения в их разногласия.
На полях «Толстого и его современников» можно бы написать почти столько же, сколько написано в книге самой Софи Лаффит, и говорю я это отнюдь не как упрек, а наоборот, как доказательство идейного богатства и своеобразия ее работы. Восклицательными, а то и вопросительными знаками хотелось бы испещрить каждую страницу! Не все верно, но зато все интересно. Неверным кажется мне, например, утверждение, – в том же «акте» о Достоевском, – что Раскольников раскаивается в преступлении. Глубокая оригинальность романа Достоевского тем и обусловлена, что Раскольников раскаивается вовсе не в убийстве, а только в том, что в убийстве сознался. Даже на каторге он еще признает, что его «совесть спокойна», даже на каторге он еще недоумевает, есть ли какой-нибудь смысл в слове «злодеяние», а самые последние, противоречащие всему замыслу, строки приделаны Достоевским явно под занавес, для спокойствия читателей, для «счастливого конца» (об этой «благочестивой лжи» правильно и проницательно писал покойный Мочульский в своей книге о Достоевском). В эпилоге, посвященном «анти-толстовцам» Ленину и Горькому, преувеличенной представляется мне панегирическая оценка Горького, в особенности его воспоминаний о Толстом, как «лучшего, что о Толстом было написано». Спору нет, воспоминания талантливы и ярки. Но одна заключительная страница бунинских воспоминаний о «горестном» Толстом глубже всего, что удалось рассказать Горькому. Кстати, Бунин утверждал, что записи Горького насквозь лживы. Не берусь судить, насколько это верно в целом, но действительно попадаются в них свидетельства неправдоподобные. Кто Толстого читал, кто хоть сколько-нибудь его почувствовал, тот голову даст на отсечение, что многого, приписанного ему Горьким, он сказать не мог.
В Крыму, например, на дороге стояли великие князья. Толстой ехал верхом и должен был остановиться. Великокняжеский конь отошел в сторону и Толстого пропустил. Тот в укор недогадливым высочествам будто бы сказал:
– Лошадь, и та поняла, что надо Толстому дать дорогу!
Невозможно! Если бы Горький даже нотариально заверил подлинность своей записи, то и тогда невозможно было бы сомневаться, что она им выдумана – или, по крайней мере, что слова Толстого в ней извращены до неузнаваемости.
Да, жаль, что потребность и стремление кое-где дополнить мысли Софи Лаффит соображениями собственными, а кое-где с ней и поспорить, поневоле должны в газетной статье остаться неосуществленными. Ее писательский задор, ее авторский темперамент к спору располагает сам собой, а иногда располагает и к улыбке. Не то удивляясь, не то любуясь автором, говоришь себе: какая живость и непосредственность, какая свежесть и смелость! Кто, в самом деле, из писателей уже довольно солидных, составивших себе имя, решится употребить в отношении толстовских мыслей эпитет «возмутительный», «возмутительно»? (возмутительны, по мнению Софи Лаффит, выводы из «Так что же нам делать?»). Общее мое впечатление сводится к тому, что автор «Толстого и его современников» – человек скорей «достоевский», чем «толстовский»: психологически эта разница огромная, говоря языком Пушкина – «дьявольская». Но в книге, даже и с выпадами насчет «возмутительности», много искреннего, неподдельного восхищения Толстым и есть в ней редкая способность понять то, что по природе должно бы автору остаться чуждо. В этом ее и ценность.
Начал я свою статью как будто «за упокой», кончаю – «за здравие». Тем лучше, и надеюсь, никто на меня за это не посетует.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?