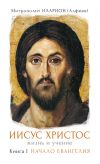Текст книги "Свет во тьме светит"

Автор книги: Георгий Чистяков
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Лекции и доклады, прочитанные в Московской государственной консерватории «И слово в музыку вернись!..»
Отец Георгий Чистяков и музыка
Любовь к музыке у отца Георгия Чистякова была заложена с детства. Среди его окружения – прежде всего, бабушка, Варвара Виссарионовна Ворогушина, выпускница Высших женских курсов, филолог, знаток славянской палеографии и русской житийной литературы; ее подруга, Варвара Степановна Мельникова, блестящая пианистка, ученица Глиэра; любимая тетка, «Ольга Сергеевна Агаркова, вдова одного из ярких пианистов предреволюционной эпохи, расстрелянного в 1937 году»[11]11
Чистяков Г., свящ. Души их во благих водворятся // Русская мысль. 1997. № 4167. 27 марта – 2 апреля. С. 16. Здесь и далее в настоящем разделе примечания Е.И.Чигарёвой.
[Закрыть]. Отец Георгий вспоминает: они «знали и любили музыку, почти все пели или играли. Романсная лирика Чайковского, Шуберта и Рахманинова – вот музыка, под звуки которой прошло мое детство»[12]12
Там же.
[Закрыть]; «Это был мир старых дам, научивших меня читать по-русски и по-старославянски, молиться Богу и ходить в церковь, любить Шопена и Шуберта, русскую поэзию и прозу»[13]13
Чистяков Г., свящ. В городе солнечных старушек // Общая газета. 1997. № 16 (195). 24–30 апреля. С. 15.
[Закрыть]. В книге «Римские заметки» автор снова возвращается к детским воспоминаниям, рассуждая о связи музыки и слова: «Она… невероятно значима для меня, как для ребенка, выросшего где-то у самого хвоста старого “Бехштейна”, рояля моей бабушки, филолога, певицы и педагога, временами по целым дням занимавшейся этими самыми романсами со своими ученицами…»[14]14
Чистяков Г. Римские заметки. М., 2003. С. 54.
[Закрыть]
Одно из детских музыкальных впечатлений Г.П.Чистякова – присутствие на концерте Марии Вениаминовны Юдиной. Памяти пианистки он впоследствии посвятил небольшой очерк, опубликованный в газете «Русская мысль». Есть в этом очерке и личная нотка, которая возникает почти всякий раз, когда он говорит о музыке: «Главной любовью Юдиной был Бах. Во время поездки в ГДР она, грузная и пожилая женщина, прошла через весь Лейпциг к его могиле в церкви Св. Фомы босиком, как средневековая паломница. С какою мощью звучала в ее исполнении органная фуга Баха, сыгранная на всего лишь кабинетном рояле в совсем небольшом зале музея Скрябина, я, тогда почти ребенок, не забуду никогда. Так не всегда звучит и самый мощный орган»[15]15
Чистяков Г., свящ. Самосжигающая пламенность // Русская мысль. 1999. № 4290. 28 октября – 3 ноября. С. 19.
[Закрыть].
Диапазон музыкальных интересов отца Георгия был необычайно широк. И это, прежде всего, потому, что в музыке он видел не чистое искусство, не простую игру звуков, но отражение духовной и душевной жизни человека, воплощение его жизненного credo, ответ на «вечные вопросы» – жизни, смерти, бессмертия, Бога.
Отец Георгий тянулся к музыке, любил ее и к нам, консерваторцам, относился особенным образом. И потому, когда я предложила ему выступить в Консерватории с докладом на конференции «Слово и музыка» памяти А.В.Михайлова, он согласился с готовностью и радостью. Правда, сомневался: дескать, чтó он может сказать нам, музыкантам, о музыке? С присущей ему скромностью он говорил: «Мне всегда неудобно выступать в вашей аудитории, поскольку я только слушатель музыки и в настоящее время не самый примерный слушатель, хотя когда-то был примерным…» Тем не менее, судя по выступлениям отца Георгия в Консерватории, он хорошо знал музыку и нередко приводил очень точные примеры. Но может быть, дело не в знании и не в профессионализме. Он чувствовал музыку – так, как это дано не каждому музыканту.
Одна из ключевых тем выступлений Г.П.Чистякова в Консерватории – проблема неразрывной взаимосвязи, взаимодействия слова и музыки. И это понятно. Он пришел к нам как филолог и историк – не как богослов, хотя, как известно, одно от другого в нем было неотделимо.
В этом отношении он как бы наследовал Александру Викторовичу Михайлову, крупному ученому – филологу, искусствоведу, музыковеду, философу, с которым мы в 1994 году организовали конференцию «Слово и музыка» в Институте мировой литературы. В этой встрече приняли участие и филологи, и музыковеды. После смерти А.В.Михайлова в 1995 году конференции (посвященные его памяти) стали регулярными и проводились уже в Консерватории. На этих конференциях отец Георгий выступал четыре раза: в 1998, 2000, 2003 и 2005 годах. Темы его докладов: «Немая музыка псалмов», «La solidad sonora»[16]16
Звонкое одиночество (исп.) – название сборника стихотворений испанского поэта Р.Хименеса.
[Закрыть], «Puer nobis nascitur[17]17
Младенец родился нам (лат.) – начальные слова католического рождественского гимна.
[Закрыть] (Службы Рождества Христова в латинском обряде)», «Феноменология страха».
Первый и третий доклады опубликованы в сборниках материалов конференций «Слово и музыка»[18]18
См.: Чистяков Г., свящ. Немая музыка псалмов // Слово и музыка. Материалы научных конференций памяти А.В.Михайлова. Вып. 1. М., 2002. С. 86–92; его же. Службы Рождества Христова в латинском обряде // Слово и музыка. Материалы научных конференций памяти А.В.Михайлова. Вып. 2. М., 2008. С. 214–220.
[Закрыть], остальные два публикуются в настоящем сборнике впервые.
В своем первом докладе Г.П.Чистяков высказал, казалось бы, парадоксальную мысль: возможность услышать в звучании текста несохранившуюся музыку. Это касается, прежде всего, псалмов, но не только: «Все греческие поэты VII, VI, V веков писали для музыки. <…> Мы это прекрасно понимаем, когда читаем эти тексты. Даже перевод и то иногда доносит до нас достаточно четкое представление о том, что это тексты для музыки. Но когда читаешь их на греческом языке, тут вообще не остается никаких сомнений. Более того, парадоксально, но эту музыку слышишь… Совершенно не представляя себе, какой эта музыка могла быть, филолог может ее услышать, просто вчитываясь в звуки какого-нибудь гимна или стасима в хоре у Еврипида, вслушиваясь в размер».
Здесь проявился, если воспользоваться удачным выражением диакона Павла Гаврилюка, «абсолютный филологический слух» Г.П.Чистякова. Но это был особый филологический слух, позволяющий услышать в слове скрытую музыку. Тем самым демонстрировалось то самое единство слова и музыки, которому была посвящена конференция.
Тема «неслышимой музыки», музыки, проступающей в слове, становится сквозной идеей следующего доклада Г.П.Чистякова – «La solidad sonora», посвященного античной поэзии, латинской гимнографии, церковной поэзии в их исторической взаимосвязи. Отец Георгий говорит о том, что существуют различные типы взаимодействия слова и музыки: «Либо музыка пишется к тексту, либо текст подбирается к музыке, либо и то, и другое возникает в душе автора одновременно»[19]19
Чистяков Г. Римские заметки. М., 2003. С. 55–56.
[Закрыть].
Но существует еще один, особый тип взаимодействия музыки и слова – текст, который подразумевает музыку, скрыто присутствует в ней, хотя музыки нет: «Но тем не менее эта музыка всё равно звучит и всё равно она рождается из этого слова. Происходит то, о чем поэт говорил как о возвращении слова в музыку: “И слово в музыку вернись!”[20]20
Строка из стихотворения О.Э.Мандельштама «Silentium» (1910).
[Закрыть] – вне зависимости от того, кто читает и в рамках какой культуры. Это музыка, которую нельзя изобразить при помощи нот, но эта музыка, вместе с тем, есть то порождение действующего и животворящего Слова, отражением, уже земным, которой будет любая другая музыка».
От музыки в слове – к Слову. Так возникает еще одна, чрезвычайно важная тема: Слово сакральное и стоящая за ним Музыка, музыка в религиозном обряде. Третий доклад отца Георгия Чистякова – «Службы Рождества Христова в латинском обряде» – фактически посвящен именно этой теме.
В текстах Г.П.Чистякова встает важная и очень непростая проблема – проблема воздействия музыки на человека, которое не всегда бывает позитивным, в зависимости от того, чтó вложено в нее композитором. В докладе «Феноменология страха» отец Георгий говорит о разных типах страха и, в частности, об экзистенциальном страхе: «Это страх перед темнотой, страх перед смертью, страх перед экзистенциальным», страх, который парализует, но и завораживает, притягивает. «В особенности это тот экзистенциальный страх, который выплескивается у Чайковского в “Манфреде” и Шестой симфонии, а у Шостаковича – в Четырнадцатой симфонии».
«Рождественский доклад» открыл целую серию дальнейших выступлений отца Георгия в Консерватории – в другом жанре. Тема эта заинтересовала слушателей, после доклада к нему подошли преподаватели и студенты и попросили прочесть цикл лекций по этой тематике. Он согласился и весной следующего, 2004 года прочитал в рамках факультета повышения квалификации четыре лекции под общим названием «Литургический текст в римско-католической традиции как основа для музыкального воплощения»:
1. Богослужебный чин в римской католической традиции;
2. Великий пост в западной литургической традиции;
3. Пасха в западной литургической традиции;
4. Дева Мария в западном литургическом обряде.
Не говоря прямо о музыке в религиозном обряде, отец Георгий подводит слушателей к этому разговору. Он предполагал параллельно к своим лекциям делать «музыковедческие комментарии» – содоклады музыкантов. Но в его лекциях немало и собственных интересных наблюдений, касающихся музыкального искусства. Например, по мнению Г.П.Чистякова, музыка оказывается одним из важнейших факторов развития латинской средневековой цивилизации: «Думаю, что поскольку тексты остаются прежними, это развитие происходит именно в сфере звука, в музыкальной сфере. Сколько есть Месс, написанных разными композиторами, музыкантами – не сотни даже, а тысячи, но все они написаны на текст одной и той же, сначала дотридентской, а потом – тридентской Мессы, которую можно найти в любом латинском миссале. У меня такое впечатление, что в какой-то мере западноевропейская музыка обязана своим развитием тому, что слово, от которого она отталкивалась, слово, ради которого она рождалась, в течение веков оставалось неизменным. Но вот эта неизбывная жажда нового утолялась в мире звука».
А вот идея объединяющей роли музыки, высказанная в дискуссии, возникшей после одной из лекций: «Я думаю, что всё-таки тексты разного происхождения и разных эпох, совершенно разной стилистики и разных языковых достоинств, стилистическая пестрота в архитектуре, в декоре – всё это, наверное, объединено каким-то музыкальным единством».
Лекции пользовались большой популярностью, их посещали и профессора, и студенты. Для музыкальной медиевистики этот материал оказался чрезвычайно ценным и востребованным. Кроме того, выступления отца Георгия поражали широким кругозором лектора, его невероятной эрудицией. Причем не сухой, книжной эрудицией научного работника, но живой эрудицией человека, живущего в мире оригинальных идей и образов и невольно приобщающего к нему слушателя, втягивающего его в процесс развертывания мысли.
Говоря о псалмах, отец Георгий читал их на латыни – разумеется, наизусть, тут же переводя тексты на русский. В своем чтении, необыкновенно музыкальном, он интонацией выделял аллитерации и ассонансы, иногда повторяя какие-то строки, чтобы подчеркнуть звуковой образ. Это просто завораживало! То же происходило и на лекциях. Говорят, что отец Георгий сетовал на то, что не с кем поговорить на латыни. Так вот – он именно говорил на латыни! Не читал заученное, а говорил – свободно, вдохновенно, радостно! Но помимо этого – сколько интересных деталей, экскурсов в различные сферы культуры, спонтанно возникающих аналогий, цитат! Всё это порой ускользает из письменного текста, но зато остается в магнитофонных записях, и это – настоящее сокровище!
Наше расставание было очень теплым. После завершения цикла лекций доктор искусствоведения профессор Московской консерватории Т.С.Кюрегян, выражая мнение всех слушателей, сказала: «Я хочу Вас поблагодарить за всё и сказать: кроме того, что мы получили очень много информации, и каждый извлечет из этой информации для себя свое – и это, наверное, самое дорогое – Вы дали нам возможность услышать сегодня музыку латинских стихов. Мы очень много имеем дело с латынью, но, к сожалению, с “немой” латынью. И это было для нас событие, потому что всё-таки наши уши привыкли слышать, и Вы дали нам эту возможность – это было действительно исполнение концертное, почти музыкальное»[21]21
Чистяков Г., свящ. Литургический текст в римско-католической традиции как основа для музыкального воплощения // Точки-Puncta. 2010. № 3–4 (9). С. 249.
[Закрыть].
Тронутый этими словами, отец Георгий ответил так: «Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что вы так внимательно меня слушали, так старательно, бросая все дела, приходили на эти встречи. Я надеюсь, что мы не расстаемся, тем более что всё-таки я бы хотел с вами работать вместе – с теми, кто занимается григорианикой, с теми, кто занимается полифонией более позднего времени, но с латинскими текстами в основе. Для меня это очень интересно: для меня ваши замечания, ваши вопросы, ваши советы просто-напросто бесценны, потому что мы как бы живем одним материалом, но смотрим на него с совершенно разных точек зрения»[22]22
Там же. С. 248–249.
[Закрыть].
Мы договаривались с отцом Георгием о повторении этого опыта: слушатели очень просили его рассказать об итальянской поэзии. Этот второй цикл всё время откладывался «до лучших времен» и так и не состоялся.
В заключение хочу отметить, что отец Георгий ощущал музыку как один из возможных ключей к познанию божественной сущности мира. Музыке Г.П.Чистяков отводил особую роль в духовном становлении человека – на пути его к вере, подчас непростом: «Приходящие сегодня в Церковь люди, христиане нового поколения, отвергнув свой атеизм, как правило, вместе с ним отказываются и от культуры, перестают ходить на концерты и в музеи, читать книги и бывать в театрах. Это приводит к тому, что человек, формально вошедший в Церковь, становится после этого не добрее, а наоборот жестче, мрачнее, суровей и даже агрессивней». «Думается, что раскрыть сердце человеческое может прежде всего искусство. Художественная литература, музыка, особенно Бах, Моцарт или Шопен, и вообще искусство в целом. Художественное слово доходит до тех слоев в глубинах нашего “Я”, куда иногда абсолютно нет возможности добраться никаким другим способом, музыка как ланцетом вскрывает сердце и иной раз абсолютно неожиданно дает нам возможность увидеть те горизонты, о существовании которых мы даже не подозревали»[23]23
Чистяков Г., свящ. Ея же ничтоже в мире нужнейше // Русская мысль. 1997. 17–23 апреля. № 4170. С. 15.
[Закрыть].
Евгения Ивановна Чигарёва,
профессор Московской государственной консерватории,
член Союза композиторов России
Литургический текст в римско-католической традиции как основа для музыкального воплощения[24]24Расшифровка магнитофонных записей лекций и докладов отца Георгия, публикуемых ниже, была осуществлена Светланой Евгеньевной Лукьяновой и Евгенией Ивановной Чигарёвой; редакция греческих и латинских текстов – филологом и переводчиком Андреем Валерьевичем Лукьяновым.
[Закрыть]
Богослужебный чин в римской католической традиции
19 марта 2004 года
Дорогие коллеги, я, конечно, прошу прощения за то, что уж совсем не музыкант. Я буду говорить всё-таки преимущественно или почти исключительно на филологические и богословские темы. Более того, я думаю, поскольку речь часто будет идти о текстах, которые знакомы вам по музыкальным произведениям, то всё, что касается музыкального анализа, вы можете дополнить своими размышлениями, про себя или вслух – быть может, лучше даже вслух, потому что это мне будет полезно. И сама основная идея, которую я бы хотел сделать главной в размышлениях о латинских текстах, породивших великую музыкальную традицию, – это именно анализ их происхождения и их бытования в церкви и культуре. Всё остальное – это уже ваш материал, за который, повторяю, я буду благодарен вам.
У латинского языка в истории христианства совершенно особая судьба, потому что греческий язык в историю христианства вошел в своей нелитературной форме. Те переводчики Библии на греческий язык, которые в Александрии сделали так называемый «перевод семидесяти», не имели никакого представления о греческой литературе. Они никогда не читали ни Гомера, ни Софокла, ни других греческих авторов, и поэтому их перевод Ветхого Завета сделан на язык обыденной жизни, на язык хозяйственных документов, на язык Александрийского рынка, но ни в коем случае не на язык, у которого к этому времени – к III веку до нашей эры – была уже огромнейшая традиция, потому что в то время уже были написаны гомеровские поэмы, прозвучала, отзвучала греческая трагедия, уже оставили все свои тексты греческие лирики VIIVI веков, и Платон с Аристотелем уже написали к этому времени свои произведения. Но всё это прошло мимо греческого языка Ветхого Завета, потому что Евангелия, конечно, были написаны на самом простом греческом языке, на котором говорили апостолы и их ученики – люди, которые знали греческий как выученный язык, а затем, в следующем поколении – как родной язык, когда христианами стали не только евреи, но и греки, или люди греко-язычного – восточно-средиземноморского мира; но, тем не менее, они тоже ничего общего с греческой культурой, с греческой литературой не имели. И это касается, в общем, и греческой гимнографии, то есть молитвенной поэзии, – вплоть до эпохи Иоанна Дамаскина. Вот тогда-то, в VII веке только, происходит встреча между греческой литературной традицией и христианством на греческом языке. Поэтому восточное христианство, в целом, не унаследовало литературных традиций Античности.
А вот с латинским христианством всё обстояло совсем наоборот, потому что уже в IV веке, когда первые латинские авторы стали писать на богословские темы, когда блаженный Иероним начал переводить на латинский язык сначала Ветхий, а потом и Новый Завет, когда писал свои произведения Августин и его старший современник Амвросий Медиоланский, тот самый Амвросий, которому традиционно, но ошибочно приписывается гимн Te Deum laudamus, – так вот все эти авторы, то есть прежде всего эти трое – Амвросий Медиоланский, Августин и Иероним блаженные – были пронизаны традициями латинской прозы и поэзии.
Как известно, Иероним переживал относительно того, кто же он всё-таки: christianus или ciceronianus, христианин или цицеронианец? в кого он верит больше: в Иисуса или в Цицерона? Для него это был вопрос, как относиться к латинской поэзии, потому что он весь пропитан Вергилием, он знает наизусть «Энеиду», он знает наизусть почти всего Горация и, наверное, сотнями строк помнит на память Овидия. То есть этот создатель церковной латыни весь пронизан античным поэтическим материалом, он на нем вырос, он из него вышел, – я говорю об Иерониме. И, в общем, так же и Августин: он тоже вполне классический автор, и его латынь – это прямое продолжение латыни Цицерона и Тацита, Плиния Младшего и великих поэтов эпохи Августа, прежде всего – Вергилия, Горация и Овидия. Причем, хотя Августин живет в Северной Африке, но в ту эпоху эта земля мало чем отличается от Рима. До сих пор в Тунисе сохраняются памятники римской архитектуры, которые поражают, потому что, когда оказываешься в пустыне – это уже самая настоящая Сахара, которой, правда, тогда не было еще, – подъезжаешь через пустыню на автобусе к огромному сооружению, которое ничем не отличается от римского Колизея. Это такой же Колизей, но только в африканской пустыне. Так вот, не только один Колизей существовал в Северной Африке, но там было всё, что было в Риме: и такие же риторские школы были в это время в римской провинции «Африка», и такие же интеллектуалы, и Августин был именно одним из них. Потому что, скажем, Амвросий – тот живет в Медиолане, теперешнем Милане, Августин живет на севере Африки, но, в общем, они существуют в абсолютно одинаковых интеллектуальных условиях.
Так было с этими тремя авторами, вслед за которыми начинает развиваться церковная латынь. Ведь Иероним, переведя всё Священное Писание от начала до конца на латынь, заложил основы и для богослужения, потому что всё-таки богослужение в первые века строится, в основном, на чтении Священного Писания и на рецитации, а затем – на пении псалмов из числа псалмов Давида и отдельных библейских стихов, взятых из разных частей Священного Писания, из псалмов, в первую очередь, из пророческих книг, частью – из Нового Завета. Если посмотреть латинские богослужебные книги, то они состоят либо из псалмов, либо из точных или почти точных цитат из разных библейских книг: иногда очень известных, иногда очень мало читаемых, как, скажем, антифон заупокойной службы Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis – «вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет да светит им». Это цитата из Четвертой Книги Ездры, как правило, даже не включаемой в канон Ветхого Завета. Она включается в латинскую Библию, но не включается ни в греческую, ни в славянскую, не печатается почти никогда в современных изданиях Священного Писания, но, тем не менее, блаженный Иероним перевел и эту книгу, которая лежит на грани Священного Писания и межзаветной еврейской апокрифики, и стих из нее, посвященный усопшим, тому сну, в котором они пребывают, вошел буквально в каждое богослужение, посвященное умершим, и все его знают, даже те, кто никакого представления не имеет о латинском языке и кто никогда не слышал и никогда не услышит о том, что была такая Четвертая Книга Ездры.
Надо еще назвать, наверное, одно имя – это имя Григория Великого, который был Папой в конце VI века – он умер в 604 году. С именем Григория Великого связана вся история григорианского пения, создание одного из первых миссалов – тогда они назывались сакраментариями – и становление латинской Литургии. С этим именем связывается уже следующий этап развития средневековой латыни, когда она начинает отрываться от языка классического и существует теперь уже сама по себе, но неся в себе память о том классическом языке, из которого вышла.
Если анализировать средневековые песнопения просто с точки зрения латинской грамматики, лексики и владения языком, то очень часто оказывается, что они составлены людьми, которым самим было не очень просто выражать свои мысли на латыни. Иногда кажется, что средневековый человек, тем более средневековый клирик, свободно говорил и писал на латыни. Конечно, это не совсем так. Свободно писали, говорили и думали на латыни – Августин и его современники в IV веке, а затем уже – гуманисты в эпоху Возрождения. Понятно, что Эразм Роттердамский или Томас Мор, другие светские и церковные писатели эпохи Возрождения действительно думали и говорили на латыни абсолютно свободно. Но для людей VIII–IX веков, даже для людей XIII века, какими были Франциск Ассизский или Фома Аквинский, латынь представляла собой нечто более или менее сложное. Они на латыни говорили, они на латыни писали, но, в общем, это было для них не всегда просто. И это чувствуется в средневековой латыни, которая избегает некоторых грамматических форм, у которой сократился запас слов, у которой сократилось число разных вариантов выражения одной и той же мысли. В общем, в их устах и в их рукописях латинский язык – как английский язык у современного человека, который, в общем, может читать, говорить и писать по-английски, может сделать по-английски научный доклад, может объясниться по-английски по телефону, может даже лекцию прочитать по-английски, но это, конечно, будет английский язык не тех, кто родился в Англии и свободно говорит и думает по-английски. Это будет всё-таки то, что называют poor English – бедный английский. Так вот и средневековая латынь была чем-то таким, хотя среди латинистов Средневековья были люди, владевшие языком блестяще и думавшие, безусловно, на латыни, но при этом у кого-то это получалось тоже с довольно большим трудом.
Есть гимны, которые составлены на «корявой» латыни. Видно, что автору хочется выразить эту мысль, но ничего не получается. Он это делает, потому что у него нет другого выхода, потому что только по-латински принято писать, только по-латински принято молиться Богу, и поэтому, если он хочет написать этот гимн, он не может написать его на народном языке. Надо было обладать дерзновением Данте для того, чтобы в Божественную комедию включить два больших молитвенных фрагмента по-итальянски: это парафраза Отче наш в XI песне «Чистилища» и – в конце «Рая» – гимн в честь Святой Девы, в честь Богородицы. Вот эти два текста у Данте и еще – последние стихи в «Canzoniere» у Петрарки – это, в сущности, то единственное, что было написано из молитвенной лирики не на латыни за всё Средневековье. Ну и еще, конечно, – Гимн Солнцу у Франциска Ассизского: текст, который считается древнейшим текстом на итальянском языке, текст, который столько раз в течение XX века звучал в разных переводах на русском языке и которому Шнитке дал новую жизнь своей музыкой[25]25
Имеется в виду произведение Альфреда Шнитке Der Sonnengesang des Franz von Assisi для двух смешанных хоров и шести инструментов; текст Франциска Ассизского, в немецком переводе (1976).
[Закрыть].
Так вот, надо было действительно быть такими гигантами, как Франциск, Данте или Петрарка, чтобы в молитве отказаться от латыни. Все остальные – знали ли они латынь прекрасно или владели латынью с огромным трудом – писали только на латыни. Поэтому у этого языка была какая-то совершенно особая судьба. Как сказал уже в XX веке Папа Иоанн XXIII, это было своего рода золотое одеяние как античной, так и средневековой христианской мудрости.
С другой стороны, латинский язык обладал тремя особенностями, о которых тоже потом, уже в XX веке, будет говорить Папа Пий XI.
Это был язык universale, всеобщий, потому что действительно на латыни говорила и думала вся интеллектуальная и вся церковная Европа – от Запада, то есть от Португалии, и кончая современной Литвой и Белоруссией. Вся Европа с Востока до Запада думала и писала исключительно на латыни, училась исключительно на латыни, открывала для себя что-то новое тоже только на латыни. Поэтому действительно всю Европу латинский язык объединял в единое целое. И вот если, скажем, брать даже ту же католическую традицию, с которой связана средневековая латынь, но уже в XX веке, то за последние сорок лет, конечно, появились совершенно разные, не только по содержанию, богослужебные книги в Италии и во Франции, в Германии и в Англии. И, скажем, если взять современную Литургию Часов по-итальянски, то она гораздо ближе к латинскому оригиналу. С другой стороны, переводы псалмов с латыни на итальянский выполнены довольно легким, простым, я бы сказал, даже несколько упрощенным языком.
А вот французская Литургия Часов – та выполнена в переводе на блестящий французский язык современной поэзии ХХ века, на французский язык очень высокого стиля. Более того, если, скажем, латинские гимны в современной итальянской церковной традиции заменены на простые гимны, написанные короткими верлибрами, переведенные на простой, очень ясный итальянский язык, то во французской традиции это, как правило, стихотворные тексты, рифмованные и переведенные на поэтический язык Клоделя, Жамма, Превера или других поэтов XX века. То есть стилистически, скажем, французский католицизм сегодня очень сильно отличается от итальянского.
От того и от другого отличается немецкий католицизм. А вот для Средневековья этого не существовало. Скажем, если бы мы не знали, что Фома Аквинский – итальянец, потому что он родился в Италии и происходил из итальянской семьи, мы бы могли предположить, что он кто угодно: немец, нидерландец, француз, потому что в этом плане Европа была совершенно единой. Это первая из черт средневековой латыни: она действительно объединяла всю Европу.
С другой стороны, это был язык неизменяемый. Он как живой язык остановился в своем развитии, потому что он уже не развивался по тем законам, по которым развивается всякий живой язык, который всегда питается живой речью детей, женщин, необразованных людей. Это был всё-таки язык элиты. Да, к этой элите относились люди не только типа Фомы Аквинского, но и какие-то полуграмотные церковные пономари, но тем не менее это всё-таки была элита: латынь знали только те, кто ее специально учил в школе. И поэтому она в своем развитии, как живой язык, к тому времени уже остановилась.
И, в-третьих, это был уже язык, как говорит Пий XI, non vulgare, не народный, то есть простые люди его совершенно не понимали, для них это был язык абсолютно чужой, и они воспринимали богослужение примерно так же, как сегодня воспринимают латинское богослужение люди, которые никогда не учили латинского языка ни в школе, ни где-то еще.
Я помню, лет двадцать пять тому назад, в Тбилиси, в Католической Церкви, я заговорил с одной из прихожанок, довольно пожилой женщиной, которая, как оказалось, знала почти всю Мессу на память. Она могла во время богослужения отвечать священнику в течение всей службы, она знала и Pater noster, и Agnus Dei, и Sanctus, но оказалось, что при этом она не знает, чтó всё это значит. Она не знала, что Agnus Dei – это «Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира», и Miserere nobis – «помилуй нас». Мне также приходилось видеть греков на Кавказе, вернее, гречанок – старушек, которые знали кое-какие молитвы по-гречески, но не знали, чтó они значат, потому что жившие тогда на территории Грузии греки, так называемые урумы – это переселенцы из Турции; они потеряли греческий язык как разговорный. Они говорили исключительно по-турецки, а греческий сохранили только как литургический, знали отдельные молитвы, не зная, чтó они значат.
Так вот, примерно так же обстояло дело с прихожанином средневековой Церкви в Германии, в Нидерландах, в Англии или где-нибудь в Скандинавии. Несколько легче было французам, итальянцам и испанцам, потому что всё-таки романские языки ближе к латыни, поэтому они могли что-то понимать, но, повторяю, опять-таки только «что-то». То же показывает опыт этих прихожан тбилисского католического храма, греков на Кавказе, опыт современных евреев, которые тоже знали почти все молитвы на иврите, совершенно не зная, чтó значат эти слова, или татар, которые знают молитвы по-арабски, не зная арабского языка, и т. д. Я видел, даже неоднократно, старушек, которые умели читать арабскими буквами Коран, и за это им другие давали какие-то деньги, потому что они могли прочитать молитвы, – но они не могли понять, чтó это значит.
В такой же ситуации находился и простой человек в средневековой Европе. Вот отсюда это двоеверие, когда две совершенно разные культуры существуют у людей книжных и людей простых, о чем так много писал в своих книгах Арон Яковлевич Гуревич. Можно вооружиться любой из его книг о народной культуре Средневековья, о категориях средневекового сознания и т. д. Три страницы из Гуревича уже очень много дают для того, чтобы понять, чтó представляла собой эта как раз не книжная, не латинская, а народная культура Средневековья, которая очень часто была культурой безъязычия просто потому, что на народном языке вообще ничего не существовало, кроме народной речи. И не случайно, когда Тиндейл перевел на английский язык Священное Писание, то такой блестящий мыслитель эпохи Возрождения, каким был Томас Мор, принял это в штыки. Он писал, что английский язык не приспособлен для того, чтобы на нем выражать высокие истины Писания. Английский язык приспособлен только для того, чтобы на нем объясняться с женщинами, слугами и детьми, а для того, чтобы переводить Евангелие или Псалмы, английский не подготовлен. В конце концов Тиндейла казнили за то, что он перевел Библию на английский язык, а на дворе был уже XVI век, всё-таки не какой-нибудь VII или VIII, а XVI век: в 1536 году казнили Уильяма Тиндейла именно за то, что он перевел Библию на английский, который, с точки зрения его современников, был для этого совершенно не пригоден. А вся культура в это время была латино-язычной, в крайнем случае – франкоязычной, потому что поэзия трубадуров и труверов – вся на провансальском или французском языке, и, конечно, английские дворяне говорили по-французски.
И в это время, когда народная культура живет в условиях безъязычия, продолжает развиваться латинская культура: на латыни продолжают создаваться новые тексты, но в основном, конечно, сохраняются тексты старые. И в этом смысле всё Средневековье – это всё-таки эпоха скорее сохранения того, что было когда-то приобретено, чем накопления новых текстов, потому что Священное Писание было переведено на латынь раз и навсегда. Оно переписывается, естественно, от руки, пока не появляется книгопечатание. Причем переписывается чрезвычайно тщательным образом: рукописи Писания на латыни почти не отличаются одна от другой. Там минимум разночтений, они сохраняют текст почти так же точно, как сохраняет его печатное издание. С другой стороны, сохраняется текст богослужения, сохраняются тексты псалмов, антифонов и других богослужебных текстов, из которых состоит Литургия Часов, которые составляют так называемый Бревиарий; сохраняется всё та же Литургия, которая была зафиксирована еще во времена Григория Великого и его предшественников. Появляются новые богословские тексты, но это тексты – для крайне узкого круга читателей. А то, что предназначено широкому кругу – это примерно то, что уже было накоплено в IV, V, VI веках. Это только переписывается, только сохраняется, только иногда чем-то дополняется или как-то незначительно видоизменяется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.