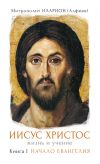Текст книги "Свет во тьме светит"

Автор книги: Георгий Чистяков
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
24 декабря 2003 года
Я, дорогие коллеги, начну с 24 декабря, то есть с сегодняшнего дня, поскольку это, согласно григорианскому календарю, Рождественский сочельник, и как раз о рождественской службе в латинском Бревиарии мне бы хотелось сегодня говорить.
Ключевым библейским стихом, с которого в Римско-Католической Церкви начинается рождественская служба, а точнее рождественская вечерня 24 декабря, является несколько измененный стих из книги Исход: Hodie scietis – «Сегодня вы узнаете, что придет Господь и спасет вас, и наутро увидите Славу Его».
Этот стих повторяется в течение латинской вечерни пять или шесть раз, а затем становится интроитом и градуалом во время последней предрождественской Мессы. Нужно сказать, что в современном католическом богослужении эти части подверглись достаточно сильному сокращению и сегодня только иногда в монастырях у бенедиктинцев рождественская вечерня или утреня (как и вообще вечерня и утреня) служится полностью. И даже современный Бревиарий, вернее, Литургия Часов, которая издается последние сорок лет после Второго Ватиканского собора, не включает почти ничего из этого чина, который в какой-то мере просто ушел в прошлое.
Месса Рождественского сочельника (24 декабря) служится вечером, что вполне соответствует и византийской традиции, согласно которой литургия этого дня начинается с вечерни. После Мессы, согласно дособорному Бревиарию, начинается собственно рождественская утреня. «Спаситель наш Возлюбленный родился сегодня, возрадуемся» – Salvator noster dilectissimus hodie natus est: gaudeamus. Так начинает свою проповедь в день Рождества Христова, включенную в латинский Бревиарий, Папа Лев Великий. В этих словах ясно звучит отголосок того места из евангелия от Луки, где ангел возвещает пастухам «великую радость», что ныне родился Христос Спаситель. Здесь у Льва Великого повторены все ключевые слова из этого евангельского текста.
Далее в этой проповеди говорится о том, что в этот день нет места печали, поскольку сегодня natalis est vitae, то есть день рождения Самой Жизни. Никто не устраняется от участия в этой радости (здесь употреблено слово alacritas). «У всех, – говорит святой Лев, – сегодня одна причина для веселья [тут звучит уже другое слово – laetitia], ибо Господь наш, грех и смерть сокрушивший, когда никого не нашел свободным от вины, пришел, чтобы освободить всех». И далее: «Пусть ликует святой, ибо он спешит к награде; пусть радуется грешник, ибо он приглашается к прощению; пусть воодушевляется язычник, ибо он призывается к жизни». Пафос и сама стилистика проповеди Льва Великого сближает ее с Огласительным словом Иоанна Златоуста, которое читается, согласно византийскому обряду, в конце пасхальной заутрени. Радость здесь обозначена тремя словами – gaudium, alacritas и laetitia. Прощение даровано всем, поэтому и святые, и грешники, и язычники – все сегодня призываются к ликованию, так же, как Златоуст призывает ликовать в день Пасхи всех: и тех, кто постился, и тех, кто не постился во время Великого поста.
«С ликующими ангелами, – говорит дальше Лев Великий, – когда Господь рождается, воспевается “Слава в вышних Богу” и возвещается мир людям доброго воления, ибо они видят, как возникает Небесный Иерусалим, из всех народов мира созидаемый; как дόлжно от этого веселиться, от смирения человеков, когда до такой степени радуется возвышенный хор ангелов». И далее, возвращая нас к началу своего слова, он опять восклицает: «Возлюбленные [dilectissimi] – так возблагодарим же Бога Отца!» (Здесь уже слышится цитата из чина Мессы: Gratias agamus Domino Deo nostro, или – «благодарим Господа Бога нашего!») «Возблагодарим Господа через Его Сына за то, что мы стали в Нем новым творением и новым Его рук делом». Этот текст напоминает пасхальный ирмос девятой песни канона у Иоанна Дама-скина: «Святися, святися, Новый Иерусалиме!»
В старом Бревиарии эта проповедь на середине прерывается антифоном O magnum mysterium, где говорится о том, как животные увидели родившегося Господа, лежащего в яслях. Далее прославляется Мария Дева, чрево Которой блаженно, ибо в нем Она носила Сына Великого Отца. Далее: Ave, Maria, gratia plena – первые слова молитвы. Когда же проповедь заканчивается, антифон Sancta et immaculata продолжает тему прославления Девы Матери: «Какими прославлю Тебя похвалами, не знаю, ибо Того, Кого не могли вместить Небеса, Ты понесла во чреве». А далее продолжается молитва Ave, Maria: «благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего» – benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tuae. Богородица, о Которой в проповеди Льва Великого еще не было сказано ни слова, здесь, к концу утрени, как бы выступает на первый план. Завершается утреня пением гимна Te Deum laudamus – «Тебе Бога хвалим», который обычно называется песней Амвросия Медиоланского, где также упоминается Святая Дева.
Так в центре внимания молящегося сначала оказывается только Puer, то есть Младенец, а потом и Mater, Его Мать – совсем как в формуле «Младенец и Матерь Его», которая пять раз повторяется во второй главе Евангелия от Матфея.
Еще одно ключевое слово рождественской утрени – hodie, «сегодня»: «Сегодня вы узнаете, что грядет Господь, сегодня нам
Царь Небесный благоволил родиться от Девы». Или: «Сегодня для нас с Неба истинный мир нисходит» и т. д. Это слово пришло в богослужение из уже цитированного Евангелия от Луки: Natus est vobis hodie Salvator – «вам [или: для вас], – говорит Ангел, – родился ныне Спаситель». И если в Евангелии это Natus est vobis – «родился для вас», то в песнопениях рождественской утрени Natus est nobis – «родился для нас»: евангельское слово обращено к людям, а теперь в молитве человек отдает его Богу.
Пение гимна Te Deum – это единственный момент чрезвычайно торжественной, но в то же время тихой утрени (во время которой чтение превалирует над пением), когда, по словам Огюста Родена, звуки «взмывают вверх, чтобы музыкально достичь архитектурного свода». «Музыка и архитектура встречаются, пересекаются, сплетаются», – говорит Роден. Вот оно – то действительно единственное место в этом чине, когда слово уступает место звуку, уступает место музыке. Похоже, что Поль Клодель, в то время еще не католик, а агностик, пришедший в Нотр-Дам, чтобы почерпнуть из рождественского богослужения в соборе какие-нибудь новые темы для своих, тогда еще декадентских, стихов, именно после этого Te Deum почувствовал, что здесь, в Нотр-Даме, присутствует Бог.
Сразу после Te Deum начинается первая из трех месс, служащихся в день Рождества. Эта Месса называется Ad galli cantum – «На пение петуха», или «После полуночи». Молитвы, которыми начинаются мессы, журчат, говорит Роден, словно вода в купели, очистительная вода. Они читаются ровным тоном без звука. Эта Месса посвящена Иисусу, родившемуся в Вифлееме от Девы Марии. В старых миссалах она называется «Стояние в Санта-Мария Маджоре у яслей». Эта Месса подводит молящегося к созерцанию Иисуса, лежащего в яслях, и Марии, сидящей рядом. Здесь читается Евангелие от Луки, вторая глава, ключевыми словами которой являются следующие: «И родила Сына Своего Первородного, и пеленками Его обвила, и положила Его в яслях». Дело в том, что в римской базилике Санта-Мария Маджоре, в специальном серебряном ковчеге, находятся привезенные некогда из Святой Земли ясли Иисуса. Именно здесь, в древности (примерно во времена Папы Григория Великого) весь римский клир собирался на ночную рождественскую Мессу, во время которой в церкви должны доминировать полумрак и тишина, молчание священнейшей ночи.
«Мария помогает нам, – говорит Папа Иоанн Павел II, – понять ключевые слова, говорящие о тайне Рождества Ее Божественного Сына. Смирение, молчание, изумление, радость: Она побуждает нас прежде всего к смирению, чтобы Бог смог найти место в нашем сердце. Она указывает на ценность молчания, которое дает нам услышать пение ангелов и слабый крик Новорожденного, не заглушенный шумом и беспорядком». Остановимся, продолжает Иоанн Павел II, вместе с Нею у яслей в глубоком изумлении, переживая простую и чистую радость, которую Младенец приносит человечеству. Молчание, о котором говорит Папа, окрашивает ночную рождественскую Мессу в особые тона. Тут действительно почти нет человеческого пения, чтобы молящиеся могли услышать пение ангелов. Не случайно Евангелие, читающееся во время этой, может быть, одной из самых тихих в течение церковного года месс, заканчивается словами, которые бесплотные ангелы поют на небесах: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человеках благоволения».
Вторая Месса, In aurora – «На заре», служится после лауд и посвящена тому, что Иисус рождается в сердцах пастухов, пришедших поклониться Младенцу, а, следовательно, и в сердцах всех верующих. Итак, если первая Месса посвящена тому, как Иисус рождается от Марии в Вифлееме, то вторая – тому, как Иисус рождается в сердцах верующих. Поэтому Евангелие говорит о поклонении пастухов. В интроите, коллекте и других молитвах этой Мессы ведущей является тема света, который воссияет сегодня над нами. А читаемые прямо перед началом этой Мессы лауды включают в себя пять антифонов и гимн A solus ortus cardine.
В антифонах обращает на себя внимание элемент драматургии. «Кого вы увидели, пастухи? Скажите, возвестите нам, кто явился на земле?» – спрашивает чтец. Другой чтец от имени пастухов отвечает: «Родившегося мы видели и хоры ангелов, восхваляющих Господа». Этот текст по стилистике напоминает пасхальную секвенцию Victimae Paschali, где также заметны элементы диалога между действующими лицами. «Мария, нам возвести, что ты увидела на пути», – спрашивает хор. И далее он же отвечает от имени Магдалины: «Гробницу Христа Оживающего и славу увидела я Воскресающего».
Третья Месса, которая служится уже днем 25 декабря, посвящена предвечному рождению Сына Божьего. Чтению Евангелия, как и пасхальным утром, в средневековом богослужении предшествовала секвенция. В данном случае это проза, то есть гимн, написанный свободным размером: Laetabundus exsultet fidelis chorus. Alleluja. Regem regum intactae profudit thorus: Res miranda! Angelus consilii natus est de Virgine: Sol de stella. Каждая третья строка этой секвенции противопоставляется двум первым: Alleluja или Res miranda или Sol de stella, – как колокольный звон; например: «Ангел Совета родился от Девы, Солнце от Звезды» – Angelus consilii natus est de Virgine: Sol de stella.
Надо сказать, что в прозах[42]42
Разумеется, это только термин «проза», потому что хотя это, конечно, стихи, но стихи, написанные не сообразно правилам латинской метрики, пусть многократно нарушенным, а стихи, написанные вне правил латинской метрики.
[Закрыть], то есть стихах, написанных для пения перед чтением Евангелия во время торжественных месс, почти всегда имитируется колокольный звон[43]43
Эта традиция ведет свое начало из Сандалена (теперешняя Швейцария), где в IX–X веках писали такие тексты.
[Закрыть]. Евангелие этой Мессы – «В начале было Слово» – то самое, что читается в пасхальную ночь по византийскому обряду. Замечу попутно, что западное Рождество по богослужебному чину в чем-то напоминает пасхальные службы византийского обряда.
Из всех трех, а вернее, четырех месс Рождества (если иметь в виду, что первая – праздничная Месса – совершается вечером 24 декабря), дневная – самая торжественная. Здесь более всего звучит орган и больше всего задействован хор, и единственный раз за все дни праздника нарушается молчание священнейшей ночи.
В первое воскресенье после Рождества (или 30 декабря, если Рождество приходится на воскресенье) празднуется день Святого семейства. Раньше этот праздник приходился на первое воскресенье после Богоявления. В современный текст Литургии Часов на этот день включено чтение из проповеди, которую произнес в Назарете в 1964 году Папа Павел VI. «Дом Святого семейства в Назарете, – говорил он, – это школа, в которой мы начинаем понимать жизнь Иисуса, иными словами – школа Евангелия. <…> Прежде всего, она учит нас молчанию.
О, если бы в нас возродилось благоговейное чувство по отношению к молчанию. Молчание Назарета учит нас быть твердыми в добрых мыслях, сосредоточенными во внутренней жизни, готовыми хорошо почувствовать тайные призывы Бога, Который Один видит тайное». «Оно учит нас, это молчание, – говорит дальше Павел VI, – размышлению, внутренней жизни, молитве».
На 1 января в латинском календаре приходилось, как и в византийском обряде, Обрезание Господне. Однако теперь это праздник в честь Божьей Матери. Наконец, на 6 января приходится Епифания, или Богоявление. На Востоке это праздник в честь Крещения Господня. На Западе сегодня это день воспоминания о поклонении волхвов, хотя прежде он был посвящен четырем событиям: поклонению волхвов, Крещению, претворению воды в вино на браке в Кане Галилейской и умножению хлебов. Правда, Августин в словах на этот праздник говорит только о поклонении волхвов. Во время чтения Евангелия, когда священник доходил до слов: «И войдя в дом, нашли Младенца с Марией, Матерью Его», все молящиеся опускались на колени, и храм на несколько мгновений погружался в абсолютное молчание, – то самое молчание, которое, как говорит Иоанн Павел II, «дает нам услышать пение ангелов и слабый крик Новорожденного».
Нельзя не напомнить, что первоначально именно в этот день праздновалось Рождество Христово. Не случайно поэтому и сегодня, согласно православному обряду, евангельское чтение на литургии в самый день Рождества посвящено поклонению волхвов. Сам же праздник Рождества Христова на Восток пришел с Запада, потому что на христианском Востоке первоначально праздновалось только Богоявление, как сейчас в Армянской Церкви, которая до сих пор не знает Рождества (25 декабря), а только Богоявление (6 января). Рождество, согласно текстам латинского Бревиария и, таким образом, практике католической Церкви, празднуется вплоть до 2 февраля, до дня Сретения. Но собственно торжественные службы Рождества заканчиваются второй вечерней в день Богоявления и пением чрезвычайно корявого гимна Crudelis Herodes – «О жестокий Ирод», которому в современном Бревиарии придан весьма благопристойный, с точки зрения метрики и грамматики, вид. Теперь этот гимн сформулирован на вполне классической латыни. Но при этом он, конечно, утратил ту средневековую уродливость, что делало его похожим на готическую скульптуру на стенах средневековых соборов Франции.
Рождественская служба латинского обряда породила невероятное множество музыкальных текстов, написанных для того, чтобы она совершалась в больших соборах в сопровождении хора и органа. В то же время огромное место в рождественской службе уделяется молчанию. Это одна из ее характерных черт. Рождество – день радости, которая обозначается такими словами, как gaudium, alacritas, laetitia. Но радость выражается не через звук, а через благоговейное и радостное молчание. Традиция, сохраненная в римском Бревиарии, сумела передать это особенное настроение: радость, выраженную не через звук, но через silentium – молчание.
Думаю, что в следующий раз я буду взывать к музыкантам и музыковедам, чтобы кто-то, заранее уже условившись со мной, продолжил меня, и чтобы я говорил о текстах, которые лежат в основе, допустим, пасхальной службы, а кто-то из вас, дорогие коллеги, – о том, какая музыка создана для этих текстов, как латинское слово продолжает жить в той музыке, которая, в отличие от латинских слов, понятна уже не только тем, кто полжизни учил латинский язык, но абсолютно каждому. В этом, наверное, и заключается феномен церковной музыки, что текст, доступный единицам, она переводит на язык, который понятен сотням и тысячам, – всякому молящемуся. Надо иметь это в виду и в связи с тем, что на французском, итальянском, немецком и любом другом языке Бревиарий начал читаться только сорок лет тому назад, а до этого времени все эти тексты звучали только по латыни. И поэтому единственным способом перевести их на язык, понятный молящемуся, была музыка.
Феноменология страха3 ноября 2005 года
Дорогие коллеги! Эта тема очень обширная, поэтому я попытаюсь выхватить из нее только несколько значимых замечаний, представляя вам этот своего рода «Ночной Гаспар». Классическое определение страха дает в своем сочинении «Страсти души» Рене Декарт, когда говорит, что страх и ужас, которые противоположны отваге, представляют собой смущение и изумление души, лишающие ее возможности противостоять приближающемуся злу. В этом определении существенно то, что Декарт подчеркивает парализующую силу страха, которая лишает душу, как он говорит, возможности противостоять тому, чтó приближается. А вот совсем другой текст, реплика из сегодняшнего Интернета.
Девушка по имени Лиза пишет: «У меня возникла проблема, с которой я раньше не сталкивалась. У меня нет опыта восприятия страха.
Недавно посмотрела очень страшный фильм, и, удивительно, некоторые кадры так повлияли на мое эмоциональное состояние, что я уже не сплю две ночи от страха. Что делать? Неужели у меня так вдруг смешались реальность и киношный сюжет?»
Конечно, эта девушка достаточно инфантильна, и всё-таки ее реплика чрезвычайно существенна. Психологи утверждают, что страх основан на инстинкте самосохранения и поэтому присущ и животным, имеет защитный характер и сопровождается определенными физиологическими изменениями, что отражается на частоте пульса, дыхании, показателях артериального давления, выделении желудочного сока. Например, при страхе темноты человек испытывает боль в сердце, скованность в груди, сдавленность в горле: такое ощущение, будто его кто-то душит. В самом общем виде эмоция страха возникает в ответ на действия угрожающего характера. Этот страх знаком, как я уже говорил, не только людям, но и животным, которые так же, как и люди, боятся реальной опасности и, будучи охвачены страхом, либо застывают на месте и замирают, словно парализованные, либо убегают, – третьего не дано.
Но сегодня я хочу говорить не об этом страхе, который, в общем, естественен, а о страхе, который субъективен и иррационален: о страхе, которому невозможно дать однозначное определение. Братья Вайнеры в повести «Лекарство против страха» пишут так: «Мы все предрасположены к этой болезни: естественная реакция наших далеких предков на окружающий мир, таинственный, опасный и непонятный. Мы несем его в своих генах. Но одни воюют со страхом всю жизнь и побеждают, а другие сдаются ему сразу или постепенно».
Когда братья Вайнеры говорят о том, что страх мы несем в своих генах, то я бы всё-таки сослался на Юнга и вспомнил о коллективном бессознательном. Действительно, из этого резервуара черпается всё то, что связано с древними страхами. Платон, подобно Декарту, говорил, что страх – это душевное потрясение, вызванное ожиданием беды. Но вот я хочу напомнить вам один текст из Ги де Мопассана – его новеллу «Страх», где он говорит следующее: «Каким угрюмым, пугающим должен был казаться вечерний сумрак в те времена, когда его населяли выдуманные, неведомые существа, блуждающие, злобные, способные принять любой образ! Страх перед ними леденил сердце, их тайная власть выходила за пределы нашего разума, избежать их было невозможно. Вместе со сверхъестественным с лица земли исчез и настоящий страх, ибо по-настоящему боишься лишь того, чего не понимаешь. Видимая опасность может взволновать, встревожить, испугать. Но чтó это по сравнению с той дрожью ужаса, которая охватывает вас при мысли о встрече с блуждающим призраком, об объятиях мертвеца, о появлении одного из чудовищ, порожденных напуганной фантазией людей? Мрак кажется мне уже не таким темным с тех пор, как он стал пуст». И в другом месте: «Когда я выхожу ночью, мне так и хочется вздрогнуть от страха, от того жуткого страха, который заставляет старух, проходящих мимо кладбищенской ограды, креститься, а суеверных людей – убегать от причудливых болотных туманов и капризных блуждающих огней! Как мне хотелось бы верить во что-нибудь таинственное, устрашающее, что как будто проносится во мраке…»
Мопассан признаёт, что он не верит в таинственное, что время для этого прошло. Но в то же время ему хочется «вздрогнуть от страха», и хочется достаточно часто.
Сёрен Кьеркегор отмечал, что страх ужасного и загадочного столь сущностно свойственен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться. Даже если он страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. Этот страх, отмечает Кьеркегор, есть во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа. Страх, говорит Кьеркегор, можно сравнить с головокружением. Тот, чей взгляд случайно упадет в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем же причина этого? Она столько же заложена в его взоре, как в самой пропасти. Ведь он мог бы и не смотреть вниз.
Выше я говорил, что есть две формы страха: рациональная и иррациональная. Первый основан на понимании реальной ситуации и формируется, вероятно, в коре головного мозга. Это страх простой: перед болезнями, финансовыми затруднениями, несчастным случаем и т. д. Второго типа страхи – продукт подкорки, отражение первобытных страхов наших предков. Это страх перед темнотой, страх перед смертью, страх экзистенциальный. При этом надо отметить, что обе формы страха парализуют, но, как отмечает Кьеркегор, в то же время завораживают, причем чем серьезнее страх, чем больше он связан с нашей подкоркой, тем он больше завораживает. В особенности это тот экзистенциальный страх, который выплескивается у Чайковского в «Манфреде» и Шестой симфонии, у Шостаковича – в Четырнадцатой симфонии. Этот же страх, хотя и в инфантильной форме, пережила девушка Лиза, письмо которой я процитировал в самом начале.
Лукреций в поэме «De rerum natura» описывает, как человеческая душа macerat metu, «томится от страха» (это очень сильное выражение!) и прежде всего – от страха перед смертью. Идя вслед за Лукрецием, Папиний Стаций в конце I века уже нашей эры напишет: Primus in orde deos fecit timor – «Страх первый создал богов». Разумеется, сегодня наука придерживается несколько иного мнения о происхождении религии, но не об этом речь. Важно понять, что античная религия не всегда была светлой и жизнеутверждающей, как думает один из пользователей интернета, который пишет: «Страх – первопричина религии как таковой. Надо же оправдать всё непонятное в жизни. Но религии не всякой, а декадентской, христианской. Греческая религиозность, которая являла собой жизнеутверждение, вырастала из благодарности богам за то, что они дали людям жизнь».
Такое наивное ницшеанство, конечно, ничего общего не имеет с действительностью, потому что в основе греческой религии как раз лежат хтонические культы (от слова «земля», χθών) – культы страшных существ, вышедших из земли, культы, первоосновой которых было чувство страха перед загробной неизвестностью. В связи с этим и культ этих существ принял особый отрицательный характер: у них не просили ничего, они не являлись подателями благ; их умилостивляли, задабривали жертвами, требуя от них в вознаграждение только одного – полного невмешательства в жизнь людей. Их культ был в глазах людей как бы неизбежным злом. Всё-таки античная религия – это не только Афродита Милосская, но это, прежде всего, хтонические культы, о которых так много и так хорошо писал Лосев.
Можно вспомнить и другие культуры. Например, в Эрмитаже находится древнеегипетская богиня Сохмет, которая также должна была вызывать ужас, и вызывала таковой даже в XIX веке, когда
Норов вез Сохмет из Верхнего Египта в Александрию, чтобы переправить в Эрмитаж. Или сфинкс фараона Хефрена в Гизе, который арабы так и называли: «отец страха», «отец ужаса».
Если говорить о латинском языке, то такое понятие, как «страх», выражается словами metus, timor, pavor, еще horror – это «ужас». Это особая тема – анализ оттенков значений этих слов. Во всяком случае, ясно, что страх приковывал к себе древнего римлянина чрезвычайно жестко. Если вспомнить слова Стация о том, что timor fecit deos – «страх породил богов», – то действительно страх, причем не только страх смерти, сопутствует религии, и не только древней религии.
И вот последняя цитата из интернета. Пользовательница по имени Светлана пишет: «Как избавиться от страха перед Богом? Я недавно окунулась в православие, после которого лечилась. Я не могу соблюдать посты, читать утренние и вечерние молитвы, в которых только и говорится, какая ты грешная, слабая и зависимая от воли Божьей тварь. Одновременно у меня периодически возникают страхи попасть в ад и вечно мучиться, потерять своих близких. Я потеряла доверие к Богу и радость жизни, уверенность. Как быть?»
Мне представляется, что на вопрос этой девушки лучше всего отвечает Николай Александрович Бердяев в статье «О вечно бабьем в русской душе» – эта статья посвящена Василию Васильевичу Розанову. Бердяев пишет, что Розанов из страха принял православие, но православие без Христа, православный быт, всю «животную теплоту» православной плоти, всё языческое в православии. И дальше Бердяев говорит: «Но ведь он это всегда любил в православии и всегда жил в этой коллективной животной теплоте. Не любил он и не мог принять лишь Христа. Ни единого звука, который бы свидетельствовал, что Розанов принял Христа и в Нем стал искать спасения, в его текстах не найдешь».
Прервусь на минуту, чтобы вспомнить о том, как однажды я получил письмо из Парижа, которое было подписано псевдонимом «Силуан Овернский» (каким-то образом старец Силуан соединился с Овернью). Автор упрекал меня, что такие духовные писатели, как митрополит Антоний (Блум) или отец Александр Шмеман (и мои статьи упоминались) лишают православие его теплоты, его связанности с язычеством, его корней, как он говорил. Письмо было написано очень талантливо. Понятно, что газеты теряются, и «Русская мысль» этого времени уже вряд ли у кого есть. Надо это опубликовать заново, потому что очень интересный диалог получился по поводу этой «животной теплоты» и «языческого в православии». Что это такое и как с этим быть?
Так вот, на самом деле, понятно, что эта девушка мучается из-за того, что она приняла обрядность православия, не пережив встречу с Иисусом, тогда как в Евангелии Иисус многократно говорит: «Не бойтесь!», и только однажды этот императив звучит без отрицания, в 10-й главе Евангелия от Матфея: «И не бойтесь убивающих тело, души же не имеющих силы убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне». То есть не бойтесь смерти и не бойтесь людей, а бойтесь Бога. Здесь Иисус призывает к тому, что может быть названо очищением страхом. Он говорит: бойтесь не смерти, а Бога, ибо страх Божий вытесняет все остальные страхи.
Но страх Божий – это очень древнее ощущение, которое еще в начале XX века лучше всего описал немецкий ученый Рудольф Отто, проанализировав различные формы религиозного опыта. Биолог по образованию и по призванию психолог, он сумел раскрыть само содержание религии в целом: оставив в стороне всё рациональное, что есть в религии, он описал исключительно ее иррациональную сторону. Читая Лютера, Рудольф Отто понял, что означает для верующего живой Бог, а не Бог философов, как говорил Паскаль, не Бог Эразма, как говорил сам Отто: не какая-то идея или просто моральная аллегория. Нет, говорит Отто, это страшная мощь, проявляющаяся в Божьем имени. Рудольф Отто стремится показать в своей книге характерные черты этого иррационального и пугающего опыта. Он обнаружил, что священное – это misterium tremendum, вызывающая трепет, вызывающая ужас тайна, в которой открывается величие (majestas) Божие. Он показал, что misterium tremendum не только пугает, но и завораживает, очаровывает человека и становится misterium fascinans – «тайной завораживающей», обнаруживая которую в мире вокруг себя человек ощущает, что чувство присутствия божественного в жизни есть нечто совершенно иное. По-немецки Отто называет это ganz andere, то есть нечто абсолютно отличное и от природного, и от космического, и от человеческого.
Надо сказать, что только Иисус открыл человечеству, что Бог, вызывающий трепет и ужас, – это Любовь. Вера в Иисуса есть избавление от страха. И именно поэтому не прав Мопассан, когда утверждает, что вместе со сверхъестественным с лица земли исчез и настоящий страх. Как раз наоборот: секуляризация и деевангелизация культуры приводит к тому, что древние страхи вновь начинают парализовывать и одновременно притягивать к себе человечество.
Сегодня тема страха задействована в так называемой молодежной готической субкультуре, построенной, пусть в примитивной форме, на тех же переживаниях, которые в свое время были так хорошо выражены в «Ночном Гаспаре» – как в стихотворениях в прозе Бертрана, так и в музыке Равеля.
В психиатрии есть такой термин – «метафизическая интоксикация». Скажем, Ясперс в качестве примера тех, кто пережил метафизическую интоксикацию, приводит Ван Гога. И еще где-то мне встречались описания, построенные на собственных текстах Жерара де Нерваля – описания опять-таки метафизической интоксикации. Человек переживает огромный ужас, начинает творить на совершенно другом уровне и создает потрясающие тексты. Я думаю, что быть может «Манфред», Шестая симфония, «Франческа да Римини» Чайковского – это тоже результат такой метафизической интоксикации.
Мне всегда неудобно выступать в вашей аудитории, поскольку я только слушатель музыки и в настоящее время не самый примерный слушатель, хотя когда-то был примерным. Но в сентябре этого года мне пришлось послушать после большого перерыва Шестую симфонию Чайковского, и я, конечно, очень много пережил – именно в плане того, что это метафизическая интоксикация плюс катарсис. Я с трудом выдержал, честно говоря.
Когда переживание страха доводится до достаточно высокого уровня с точки зрения эстетической, вот тогда наступает катарсис, и тогда от этого страха освобождаешься. Я думаю, что «Франческа да Римини», «Манфред» или Шестая симфония написаны именно с этой сверхзадачей – пережить катарсис, что, наверное, было важно не только для слушателя, но и для самого автора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.