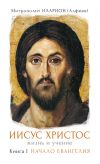Текст книги "Свет во тьме светит"

Автор книги: Георгий Чистяков
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Когда-то, в начале 1970-х годов я был в Грузии и там познакомился с абхазским католическим священником, которого застал в последний период его жизни (он умер через несколько месяцев). Этот священник учился в семинарии в Лионе в конце XIX века, и там он научился читать латинские псалмы совершенно потрясающим образом. Больше я нигде не слышал такого чтения. Но лет через десять или пятнадцать мой ученик Андрей Александрович Россиус стал мне читать вслух Катулла так, как, он считал, звучал Катулл на латыни в его времена. (В юности Андрей очень увлекался игрой на лютне и немецкими композиторами, которые писали для лютни; он был и музыкантом, и филологом в высшей степени тонким и оригинальным.) И что поразительно, я услышал те самые звуки, ту самую мелодику, которую слышал от отца Шалвы. Это было потрясающе, потому что Андрей ничего, конечно, не знал об этом абхазском священнике и вообще о том, как читали на латыни псалмы в XIX веке в Лионе и как вообще читали на латыни умершие уже к тому моменту католики.
Итак, до конца XIX века на клиросах храмов Греции и Запада в латинском или греческом вариантах дожило то звучание текста, которое было обычным две тысячи лет тому назад.
Но звучащий текст обладает особой природой. Он не читается, а изливается, как об этом говорится в одном из византийских ирмосов: «Молитву пролию ко Господу»; он звучит таким образом, что и без мелодии, которая сегодня утрачена, он превращается в музыку, но в музыку сердца, когда именно сердце молящегося, сердце поющего, сердце читающего становится мицмором.
Человек переживает какие-то моменты своей жизни особенно остро – боль, одиночество, чувство того, что напрасно проходит жизнь, что он брошен всеми. Так вот эта тема (скорее, на первый взгляд, типичная для нашего века), как это ни парадоксально, постоянно присутствует в псалмах. Генрих Гейне когда-то заметил, что дети, оказавшись в темноте и умирая от страха, начинают громко петь, – и страх проходит. Именно такой песнью часто звучат псалмы Давидовы.
Наверное, в отличие от всех остальных библейских книг, которые возглашались торжественно на площади в Иерусалиме, псалмы писались, звучали не для провозглашения с высокого места. Они складывались в эпоху плена, в Вавилоне, как песни боли и тоски, и звучали вполголоса и даже тише – они звучали шепотом, чтобы не смеялись над грубым звучанием еврейского языка жители Вавилона, восклицая: «Воспойте нам от песней Сионских!» (Пс 136: 3)
Читая псалмы, можно научиться тому, как опуститься на самое дно отчаянья и оттуда, «из глубины» (Пс 129: 1) – de profundis – воззвать к Богу, уже, казалось бы, потеряв и остатки веры и надежды. Как сделать рывок и не утонуть в тот самый момент, когда пучина уже «затворяет… пропасть зева своего» (Пс 68: 16) над головой утопающего? Бывает так, что человек спасается, оказавшись на самой грани жизни и смерти, и только здесь ему удается осознать что-то такое, что прежде казалось абсолютно непонятным, абсолютно недоступным и нереальным.
Как прикоснуться к Богу и почувствовать, что с ним у меня есть какие-то личные отношения? Как понять, что в том мире, который я сам для себя создаю из людей и вещей, находящихся вокруг меня, Бога нет и не будет, пока я не начну не просто искать Его, но обращаться к Нему? Именно этому можно научиться, читая псалмы.
Как, наконец, понять, о чем же и как молился Иисус, уходя ночью на гору и оставаясь там на коленях до самого утра? А если этого не поймешь, то очень многое, если не всё, в Евангелии останется непонятным. И вот тут на помощь приходят псалмы, ибо эти тексты Он повторял про себя ночами.
От боли к радости, от скорби и отчаяния к надежде, от мрака к свету, от ночи к сиянию утренней зари выводит нас эта странная поэзия библейских псалмов – поэзия, которая помогает вырваться из любого болота и выпрямиться во весь рост, помогает преодолеть любые испытания и водовороты, «подымая к созвездиям очи», как сказал однажды Овидий[39]39
Овидий. Метаморфозы. I, 86. Перевод С.В.Шервинского.
[Закрыть]. Южные звезды сияют над нами (и это так хорошо понимаешь, когда перелистываешь страницу за страницей Книгу Псалмов) как нигде ярко. Горы возвышаются вокруг, а земля благоухает цветами… Так бывает всегда, но не всегда мы видим или, вернее, не всегда замечаем всё это, ибо зачастую мы не умеем так же стремиться к Богу, как в пустыне рвется к источникам вод изнывающий от жажды олень[40]40
Ср. Пс 41: 2.
[Закрыть].
Псалмы звучат за каждым богослужением – у православных и католиков, у протестантов всех деноминаций. Они поются на самые разные напевы, они читаются нараспев и, как я уже говорил, это чтение восходит к глубокой древности, – и одной из самых печальных для меня особенностей нашего времени является то, что это искусство утрачивается с каждым годом всё больше. Псалмы предваряют собой чтение Евангелия и завершают молитву. Мы все прекрасно знаем, что это такое, но не всегда понимаем, что это за сокровище – странная книга, сочиненная множеством древних поэтов, собранная из текстов навсегда утраченной музыки.
Ни один композитор никогда не сможет ее реконструировать. Но сердце каждого может ее услышать и осознать в ней каждый такт, каждую мелодию, если только мы научимся вслушиваться в это молчание, через которое с нами говорит Бог. Вслушиваться – и высоко в горах, и посреди моря, и среди уличного шума, и в метро, и в трамвае, и в тишине храма, и просто у себя дома, где можно, заперев дверь на ключ, открыть эту книгу.
19 декабря 2000 года
Дорогие коллеги, когда я думал, как назвать те размышления, которыми я попытаюсь сейчас с Вами поделиться, я в конце концов пришел к выводу, что лучше всего будет использовать название одного из сборников стихов Рамона Хименеса, цитатой из которого я постараюсь закончить свои размышления. Называется этот сборник «La soledad sonora» – «Звонкое одиночество». А почему – об этом я как раз сейчас буду говорить.
Когда мы берем в руки сборник стихов Константина Романова и находим там тексты типа «Уж гасли в комнатах огни», «О, дитя, под окошком твоим» или «Растворил я окно»; когда мы берем книгу Апухтина и натыкаемся на стихи «День ли царит, тишина ли ночная», то в нашем сознании начинает звучать музыка Чайковского, и более того – быть может, даже голос того или иного исполнителя. А если идти дальше, то, возможно, возникают в памяти какие-то интерьеры Зала Института имени Гнесиных или Малого зала Консерватории. При этом мы вполне отдаем себе отчет в том, что эти тексты были написаны вне какой бы то ни было связи с будущей музыкой, и что эта музыка их поглотила – просто в силу огромного дарования композитора. То же самое можно сказать, например, о «Средь шумного бала» Алексея Константиновича Толстого.
Но понятно, что эти слова оказались связанными с конкретной мелодией только в рамках нашей культуры, в которой романсная лирика Чайковского занимает несравнимо большее место, чем поэзия Константина Романова или творчество Апухтина или даже Алексея Константиновича Толстого.
Однако никакой изначальной, онтологической связи между этими текстами и теми мелодиями, от которых они в нашей памяти неотделимы, конечно же, нет. Эта связь носит чисто культурный характер и она значима для нас просто потому, что мы выросли в том пространстве, в той атмосфере, где звучали романсы Чайковского.
А вот пример совсем другой связи между музыкой и словом:
Тихо порхает ветер прохладный,
Слышатся лютни звонкие струны…
Дев чернокудрых песни несутся…
Синее море, синее небо…
Конечно, это чудовищно пошлые, нелепые, затертые и состоящие из одних штампов слова. Эти слова никакой ценностью без музыки Римского-Корсакова, вне «Песни веденецкого гостя», не обладают и не могут обладать.
Можно только гадать, почему такой высокой культуры композитор подбирал, наверное, к уже созревшим в его сознании музыкальным текстам такие штампованные слова. Тем не менее, когда мы видим эти слова написанными на бумаге, то, поскольку мы все многократно слышали «Песню веденецкого гостя» и поскольку опять-таки зачастую эта музыка связана с замечательными исполнителями и с какими-то моментами нашей жизни, эти слова не производят впечатления таких штампованных, какими они являются в действительности. Однако же, ценностью без музыки они не обладают никакой.
Итак, можно, наверное, говорить, что Чайковский и Римский-Корсаков в данном случае демонстрируют нам два типичных подхода композитора к тексту в новой европейской культуре. Либо композитор берет текст и вкладывает в него свою музыку, либо он подбирает или сочиняет текст к уже сложившейся или отчасти сложившейся (возможно, уже и на бумаге, а может быть, в его сознании) музыке. Во всяком случае, текст играет тут явно вспомогательную роль.
Абсолютно иначе относились к тексту, скажем, греческие поэты VIII–VII веков до нашей эры – Алкей или Ивик, Сапфо или Алкман, которые создавали текст и музыку одновременно. Другое дело, что с нашей точки зрения эта музыка была достаточно однообразной, возможно, именно поэтому она до нас не дошла, в отличие от всей греческой лирики. Эта музыка была значительно слабее слов, но тем не менее она возникала вместе со словами. Нечто подобное будет потом с творчеством Галича, Окуджавы или Высоцкого. Но, с другой стороны, хотя тексты Булата Окуджавы или Александра Галича издаются без нот, за ними всё-таки стоит вполне конкретная, известная, как в случае с поэтами XX века, и неизвестная, как в случае с Сапфо или Алкеем, но тоже вполне конкретная музыка. Таким образом, это третий вариант взаимоотношений между текстом и музыкой.
Значит, либо музыка пишется к тексту, либо текст подбирается к музыке, либо и то, и другое возникает в душе автора одновременно.
Но есть и четвертый вариант, и об этом варианте мне как раз и хочется говорить сегодня. По-моему, появление чего-то подобного в первый раз в истории можно зафиксировать, читая одну из эпиграмм Платона. Это достаточно известный текст, но всё-таки я его прочитаю, поскольку это всего лишь шесть строчек:
Тише, источники скал и поросшая лесом вершина!
Разноголосый, молчи, гомон пасущихся стад!
Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели,
Влажной губою скользя по составным тростникам.
И окружив его роем, спешат легконогие нимфы,
Нимфы деревьев и вод, танец начать хоровой.
Разумеется, Платон, когда писал эту эпиграмму, тоже имел в виду какую-то музыку, это совершенно ясно… «Тише, источники скал…»
Причем надо сказать, что это очень точный перевод. Был такой замечательный специалист по мозгу человека, великий русский физиолог Леонид Васильевич Блуменау, который в незапамятные времена работал в Военно-медицинской академии в Петербурге. Вечерами, вернувшись из Академии, он занимался переводом греческой антологии. Вот так за двадцать или тридцать лет работы возникла небольшая книжечка, которая вышла после его смерти[41]41
Греческие эпиграммы / Пер., статья и прим. Л.В.Блуменау, ред. и доп. Ф.А. Петровского. М.; Л.: Academia, 1935.
[Закрыть]. Переводы Блуменау очень поэтичны и при этом в высшей степени точны.
«Тише, источники скал…» Он призывает к тишине эти источники, которые выбиваются из-под скал, и деревья, которыми заросла вершина, призывает молчать стада, потому что «Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели, влажной губою скользя по составным тростникам». Понятно, что это такая свирель, сделанная из многих дудочек – сиринга, греческая сиринга, фистула.
Но конкретная музыка за этими стихами не стоит. Музыка к ним никогда не была написана. Это уже не те стихи, которые писала Сапфо или Алкей, Ивик и другие поэты для того, чтобы их петь под аккомпанемент кифары, барбитона или другого инструмента. Это стихи, которые написаны только для чтения. Сам жанр эпиграммы – это надпись на какой-нибудь вещи: на ложке, на гребне, на шкатулке. У Платона – это уже эпиграмма условно; она была, конечно, написана на папирусе, но этот текст предназначен только для чтения, и это текст, при чтении которого возникают какие-то музыкальные ассоциации. Музыка начинает рождаться в самом сознании, в сердце человека, она рождается буквально из ничего благодаря этому тексту. Такой текст стимулирует внутреннее музыкальное творчество, и на самом деле именно этот тип взаимоотношений между словом и музыкой победил в эллинистической, а затем и в римской поэзии. Потому что когда Феокрит пишет идиллии, в которых тоже постоянно кто-то поет сольные партии или дуэты, за этим не стоит никакой музыки, но это рождает музыку в сознании читателя.
И то же самое будет у Горация. Понятно, что это стихи для чтения. Но, с другой стороны, поэт их называет словом carmina – песни и, если внимательно читать стихи Горация, в них можно найти десятки глаголов, которые обозначают именно пение; там упомянуты все музыкальные инструменты, причем введены все синонимы. Там будет и лира, и testudo – черепаха, и барбитон, и кифара и многое другое. Эта carmina пишется с таким смыслом, чтобы вызвать в сознании читателя какие-то музыкальные образы.
Перенесемся из античности в XV век. У Полициано, который был не только замечательным поэтом, но и блестящим знатоком латыни и греческого и перевел «Одиссею» с греческого на итальянский, есть замечательные стихи; это довольно большое стихотворение, но я выхвачу из него отдельные строчки. Поэт говорит:
Udite, selve, mie dolce parole,
Poi che la ninfa mia udir non vuole,
La bella ninfa è sorda al mio lamento
E ’l suon di nostra fistula non cura…
Услышьте, леса, мои сладкие слова,
Которые не хочет слышать моя нимфа,
Прекрасная нимфа, она глуха к моему плачу
И ее не волнует звук нашей свирели…
Подобно Платону, Полициано заставляет своего читателя услышать какую-то музыку. Но сам не предлагает ее мелодии, мелодии даже нет в подтексте. Он призывает леса слушать звуки его песни, его подруга не хочет слушать этот звук (il sono), звук свирели, она глуха к его плачу и т. д. Здесь каждое слово работает на то, чтобы создать звуковой образ. А потом поэт обращается к ветру и говорит:
Portate, venti, questi dolci versi
Dentro a l’orecchie de la ninfa mia…
Принесите, ветры, эти сладостные стихи
Прямо к ушкам моей нимфы…
То есть опять-таки речь идет о воспринимаемом звуке, о какой-то мелодии, но это именно versi, а не carmina, это стихи, а не песни, которые принесет ветер к ее ушам. Это стихи, но они должны натолкнуть читателя на то, чтобы он сам, в результате какой-то внутренней работы, сумел услышать ту музыку, которая провоцируется этими словами.
В литературоведческих исследованиях, посвященных эпохе эллинизма, достаточно подробно описано такое явление, как экфраза. Экфраза – это описание картины или портрета, или просто человека, текст, в котором чисто вербальными средствами создаются зрительные образы. Нет ни одного эллинистического романа, где не было бы подробнейшего описания какой-нибудь картины. Более того, в эпоху Возрождения (конечно, уже позднего Возрождения, когда читали по-гречески, в XV–XVI веках) художники занимались тем, что воспроизводили по античным описаниям те древние картины, которые не сохранились или, может быть, которых даже никогда не было. Используя эти словесные описания, художники создавали видимые образы – уже не только в своем сознании, как это делал античный читатель, но на холсте.
Такое описание, конечно, можно интерпретировать по-разному. Во-первых, понятно, что в любые эпохи искусства стремятся к синтезу, но всё-таки до того, как греки поселились в Египте, до того, как рухнула полисная система, этого в античной литературе не было, этого не было и в восточной литературе. Такого рода картины, нарисованные словесными средствами, отчасти характерны для библейского мира, но там понятна причина: изображение запрещено, и поэтому единственный способ вызвать в сознании того, кто воспринимает это (в данном случае, читателя), зрительный образ – это «нарисовать» его словами. Поэтому в Ветхом Завете можно найти целый ряд замечательных мест, где мы просто-напросто видим, как что-то происходит.
Нечто подобное наблюдалось во времена эллинизма: в эллинистическом Египте или на Ближнем Востоке – смотря по тому, где живет автор, – он оказывается в новой ситуации. Некогда житель Афин шел в театр и слушал там Софокла, потом шел на Акрополь и смотрел там на статуи Фидия. А теперь это невозможно. Теперь в лучшем случае один раз в жизни мы можем съездить куда-то в Олимпию для того, чтобы посмотреть на Гермеса, или съездить на Крит для того, чтобы увидеть Афродиту. Это дорогостоящее путешествие, на которое в эпоху эллинизма человек, конечно, мог решиться максимум один раз в жизни.
Но эти произведения стали уже всем известны, уже без них человек жить не может. Еще не существует ни фотографии, ни даже гравюры. И поэтому появляются миниатюрные воспроизведения знаменитых статуй, начитает бурно развиваться мелкая пластика, чего не было до эллинистического времени. До того, как греки поселились в Египте, до III века до н. э., то есть до Александра и диадохов, не было этих маленьких фигурок, которые бы воспроизводили греческие статуи, это никому не было нужно. А потом они появляются. Но это всё-таки дорого: какая-нибудь маленькая Афродита Критская из слоновой кости стоит безумно дорого. А вот эпиграмма, в которой эта статуя описывается, эпиграмма, читая которую владелец текста как на «открытке» разглядывает статую, – ничего не стоит. Это какие-нибудь шесть, максимум восемь строчек, которые очень легко выучить на память, особенно учитывая мнемонические приемы древности, когда все учили на память стихи сотнями и тысячами.
Итак, этот текст интенсивно вызывает в памяти образ, и такое стихотворение оказывается своего рода «открыткой».
Но надо понять, что такая поэзия появляется только на высотах, она знаменует и завершение эпохи, и начало новой эпохи – то, что происходило как раз во времена эллинизма. Такая поэзия появляется и на высотах средневековой культуры, потому что, конечно, какие-то явления эллинистической культуры сопоставимы с тем, что было в эпоху Возрождения. Скажем, если мы вернемся не во времена Полициано (это XV век), а в начало XIV века, то увидим, что Данте в начале 11-й песни «Чистилища» дает довольно объемный итальянский вариант молитвы «Отче наш». Это двадцать одна строка – довольно много. Практически весь текст от начала до конца – «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое» и т. д. – присутствует в этом поэтическом тексте. O Padre Nostro, che ne’ cieli stai… – «Отче наш, который на небесах…» Или дальше: Laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore da ogni creatura… – «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое…» и далее по тексту.
Дальше можно обратиться к переводу Лозинского, потому что он довольно хорошо отражает оригинал. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – Dà oggi a noi la cotidiana manna… – Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Здесь точнейший перевод, только слово «хлеб» (panem) заменено на «манну». И у Лозинского: «Да ниспошлется нам дневная манна, без коей по суровому пути отходит вспять идущий неустанно». То есть к строке молитвы прибавляется своего рода аккомпанемент – я бы сказал, органный аккомпанемент, потому что, конечно, в сознании Данте всплывает пение «Отче наш» во время Мессы под звуки органа. Это уже следующие две строчки после дословного перевода из молитвы. И далее: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» – E come noi lo mal ch’avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona benigno, e non guardar lo nostro merto. Это почти то же самое, что в современном итальянском тексте (или по латыни). «Как то, что нам далось перенести» («Как то зло, которое нам далось пережить, пострадать которым»), – он подставляет там, – «прощаем мы, так наши прегрешенья и Ты не по заслугам нам прости». Конечно, по-итальянски несколько лучше: Benigno, e non guardar lo nostro merto – «Благожелательный, прости нам, не смотря на то, как измерить наши заслуги».
Когда поэт пишет этот текст, он, безусловно, слышит какие-то звуки и дает возможность эти звуки услышать своему читателю, при том, что текст молитвы сохраняется внутри этого звучания, этого достаточно большого произведения в двадцать одну строчку – практически без каких бы то ни было изменений.
Приведу еще один пример, потому что мне кажется, что этими двумя текстами – началом 11-й песни «Чистилища» и последним гимном из «Canzoniere» Петрарки – заканчивается средневековая латинская гимнография. Последний гимн из «Canzoniere» – это песнь, посвященная уже не Лауре, живой или умершей, а Пречистой Деве: Vergine bella, che di sol vestita. Это Апокалипсис: «Прекрасная Дева, одетая в Солнце» – Coronata di stelle, «коронованная звездами» и т. д. А дальше, через какое-то число строк: Vergine santa d’ogni gratia piena. Это уже Ave, Maria gratia plena – «Радуйся, Мария, полная благодати, Благодатная Мария». И дальше: Vergine, in cui o tutta mia speranza, напоминающее молитву, известную по-славянски, но известную и по латыни: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия». Речь идет дальше и о том, что она – Владычица, которая di questo tempestoso mare stella, то есть «этого бурного моря звезда», – и тогда вспоминается другой латинский гимн: Ave, Maris Stella – «Радуйся, звезда морская…» и т. д. А заканчивается это песнопение Петрарки, никогда не имевшее никакого музыкального сопровождения, в отличие от любого другого средневекового молитвенного текста, опять-таки цитатой из молитвы Ave, Maria gratia plena: Ch’accolga ’l mio spirto ultimo in pace – «прими последнее мое дыханье с миром» (или «в мире»). Ясно, что имеются в виду заключительные слова молитвы Ave, Maria: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae – «Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, сейчас и в час нашей смерти».
Таким образом, с одной стороны, этот текст как бы весь пропитан латинской средневековой молитвенной лирикой, а с другой стороны, он бесконечно личен, он написан прекрасным языком Петрарки, но с постоянным уклоном в латынь. Это текст нового Петрарки. Ничего подобного на итальянском языке он никогда не создавал. И этот текст показывает: возможности средневековой латинской лирики исчерпаны, но она начинает по-новому звучать уже в новой итальянской поэзии. С латинским средневековым текстом здесь происходит примерно то же, что происходило с древними текстами, скажем, в молитвах Амвросия Медиоланского, который цитировал Вергилия, Горация, Овидия. Если внимательно заниматься текстами латинских гимнов IV, V, VI веков, вплоть до Петра Дамиани (на самом деле, до Высокого Средневековья), то можно увидеть, что все эти тексты полны цитатами из античных авторов, которые в этих гимнах тоже звучат, создавая и фон, и образы – создавая ту музыку, которая так никогда и не была написана.
Здесь, пропуская разного рода рассуждения о латинской средневековой лирике, которые когда-нибудь придется изложить в письменном виде, мне хочется вспомнить о том, чтó Шатобриан говорил о музыке в «Гении христианства»: «Прибавим, что христианская религия по сути своей мелодична, но только по той причине, что она любит одиночество. Нет, это не значит, что она враждебна миру. Наоборот, она является миру весьма открытой. Но эта небесная Филомела предпочитает скрываться в затворе и в неизвестных лесах. Она любит леса, и нет песнопений более одухотворенных, чем те, что поются вместе с ветрами, с дубами, с тростником в пустынных местах». И дальше, через несколько строк: «Музыкант, который хочет следовать за религией, должен научиться подражать гармониям одиночества. Следует научиться слушать шум ветра у стен монастыря, его шелест под сводами готических храмов и в траве на кладбище».
Так суммирует Шатобриан – незаслуженно нами не читаемый писатель. Удивительно точно он замечает, что такое поэтика одиночества – та поэтика, которая так хорошо представлена в трактате «О подражании Христу» или у Петрарки в замечательном трактате «De vita solitaria». Та поэтика одиночества, которая потом, в последний, быть может, раз в европейской культуре так ясно прозвучит в поэзии Джованни Пасколи уже в конце XIX века в Италии. Это своего рода итальянский Верлен – только, честно говоря, мне кажется, что Пасколи гораздо талантливее, гораздо ярче и гораздо оригинальнее Верлена.
И, наконец, эта же тема поэтики одиночества, «La solidad sonora», будет звучать в поэзии Хименеса.
Я попытаюсь пересказать одно стихотворение из этого сборника, где Хименес говорит о том, как его герой находит на траве в лесу кем-то забытую флейту. Он берет ее в руки и смущается, словно за ним откуда-то наблюдает женщина; он берет в руки флейту и чувствует, что на ее поверхности осталась память о каком-то благоуханном сне. Он играет, как Пан у Платона, играет, как влюбленный у Полициано и говорит: «Странно, этот звук вдруг дарит мне весеннюю зарю, и каких-то девушек, и покрытый розами луг, и нежность, и печаль, и грусть, и радость, и смех, и стоны…» И всё это как будто в полусне, а эта женщина, которая так и не появляется, – откуда, поэт не знает, – наблюдает за ним.
Вот, почти через двадцать пять веков после Платона абсолютно точно повторенный платоновский образ. Тексты эти звучат, как музыка, хотя они не несут в себе никакой конкретной мелодии. И звучат так же, как тексты у Данте и Петрарки, как «Отче наш» из 11-й песни «Чистилища» и последний гимн из «Canzoniere», звучат вне конкретного храмового пространства, того пространства, в котором тысячу лет – с IV по XIV век – жила средневековая гимнография. Они звучат в том пространстве, которое называется словом solitudo – одиночество. Всё-таки я не могу подобрать русского аналога к этому слову – solidad, solitudo: одиночество – это что-то другое по-русски. Это затвор кельи – затвор, который может быть везде, как говорит Шатобриан, – в лесу, в горах и т. д. Но за всеми этими текстами стоит многовековой опыт чтения и многовековой опыт переживания тех оригиналов молитв в честь Богородицы или молитвы «Отче наш», которые звучали в двух местах – в храме и в келье. Когда молитва звучит в келье, в ней как бы слышатся отзвуки ее храмового исполнения, отзвуки органной музыки – от нее невозможно оторваться, от той музыки, с которой связано пение «Отче наш» во время торжественной Мессы. Но когда молитва звучит в храме, тогда в ней тоже есть отзвук ее употребления в одиночестве, в келейной тишине. И вот одно, сливаясь с другим, дает возможность вспомнить о келье в храме и вспомнить о храме в келье. Это слово – причем это слово может быть в тексте религиозного содержания, это слово может быть в тексте медитативно-лирическом, как у Платона, Полициано или Хименеса, – но это слово порождает музыку внутри человеческого «Я».
И завершая, я хочу сказать, что темой моего сегодняшнего размышления и было слово, когда оно вне какой бы то ни было мелодии, вне какой бы то ни было структуры, школы, традиции порождает музыку внутри человеческой души и заставляет ее звучать где-то в глубинах нашего «Я». Разумеется, первые читатели Платона, когда они обращались к этой эпиграмме, слышали одну музыку, а мы слышим другую; разумеется, современники Полициано слышали за этими стихами, за гранью этих стихов не ту музыку, которую слышим мы. И, наверное, испанец, который получил первое издание книги Хименеса, тоже слышал в этом удивительном стихотворении не то, что услышали бы мы с вами сегодня и что услышит каждый из вас, когда возьмет книжечку Хименеса и прочитает. Но тем не менее эта музыка всё равно звучит и всё равно она рождается из этого слова. Происходит то, о чем поэт говорил как о возвращении слова в музыку: «И слово в музыку вернись!» – вне зависимости от того, кто читает и в рамках какой культуры. Я повторяю, что это музыка, которую нельзя изобразить при помощи нот, но эта музыка, вместе с тем, есть то порождение действующего и животворящего Слова, земным отражением которой будет любая другая музыка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.