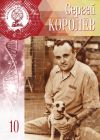Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
16. Судьба детей
У Лили были две причины, заставившие ее снова, во второй раз приехать в лепрозорий. Первая – привести и порядок родительские могилки; вторая – повидать Катю и порадовать вестями о Феденьке.
До этого она никогда не встречала и не знала Катю. Семен Андреевич в общих словах рассказал Лиле, как пришлось выручать Феденьку, и поэтому некоторое представление она имела. Впрочем, о Кате у нее сложилось впечатление как о полусумасшедшей женщине. Ей даже немного страшноватой казалась встреча; тем не менее Лиля твердо решила все же увидеться с нею, поговорить.
Когда она пришла к Кате, та сидела и что-то шила.
Одета она была в длинное темное платье, делавшее ее высокой, стройной.
Взглянув на молодую, слегка смутившуюся женщину, Катя поднялась, с любопытством уставилась на нее.
– Где-то я видела вас, и вот – не упомню, забыла, – смотрела она на Лилю, не спуская глаз. – Вы, кажется, со здорового двора? – и едва заметно нахмурилась, продолжая стоять, строгая, вытянувшаяся.
– Нет, я не со здорового двора, я приехала из города, поговорить с вами…
– Из города? – удивилась Катя и вдруг забеспокоилась. – Ну, расскажите, расскажите… Ведь вы о Феденьке приехали рассказать? Вы что-нибудь о нем знаете? – страшно заторопилась она и, бросившись к Лиле, схватила ее за руку. – Тот изверг больше не показывается. Боится. Отнял ребеночка – и поминай как звали. Разбойник! – загорелась Катя и умолкла, отведя лицо в сторону. Но потом продолжала: – А я все никак не могу забыть моего родненького, звездочку мою дорогую… Как посмотрю на кроватку, так и руки на себя наложить хочется. – Она взглянула на кроватку, почему-то стоящую посреди комнаты, и заплакала. – Но вы не обращайте на меня внимания… Когда я плачу, мне все кажется, будто я его вижу и разговариваю с ним, – все легче. Так вы из города? Вот дура-то! – снова спохватилась она. – Может быть, вы вовсе не о Феденьке, о нем-то вы, может быть, ничего и не знаете, а я привязалась. Мне все кажется, будто вот-вот кто-то должен прийти и принести моего Феденьку… Как только заслышу шаги, так и жду – ко мне, мол, идут, от Феденьки. Нет, – опустила она голову, – забыли меня… Его отняли, а меня забыли. Кому я нужна такая? Разве могиле? Знаю – никто не придет от него, никто ничего не расскажет… Пропал мой Феденька! – и она прижала платок к глазам.
– Полно, – подошла к ней Лиля, – вашему Феденьке теперь очень хорошо, у него есть няня, за ним ухаживают… Он поправился на целых три кило, розовый такой, веселый мальчик и уже что-то лепечет, – с подъемом проговорила Лиля, волнуясь.
– Лепечет? – улыбнулась Катя. – Это он про меня… меня вспоминает, со мной разговаривает, это он ко мне хочет.
Лиля потупила глаза, промолчала.
– Он вас будет благодарить, когда вырастет, – наконец сказала она. – Славный ребенок, и там, где он сейчас, его все любят, все о нем хлопочут, заботятся.
– Ишь ты, – криво усмехнулась Катя, – а разве он котенок или щенок, чтобы не любить его? – она вызывающе уставилась на Лилю и, словно вспомнив о чем-то, уже тихо спросила:
– А вы правду говорите? Вы взаправду видели его или пришли успокоить?.. Феденьки-то, голубчика моего, давно, поди, уже и в живых нет. Разве я знаю? – И снова посмотрела на кроватку, и снова слезы, как ручьи, потекли из глаз.
– Ну к чему вы это? – глядя на нее и тоже чуть не плача, проговорила Лиля. – Я вам правду говорю: он жив, здоров, он поправился и такой веселый мальчик – прямо прелесть!
– Феденька мой – прелесть, – тихо отозвалась Катя, внезапно успокаиваясь. – Он у меня золото… весь в папу.
– А где ваш муж? – как бы нечаянно спросила Лиля.
– Муж? – уставилась та на нее, будто не понимая. – Это вы про Феденькиного папу? Его нет. Он еще полтора года назад умер, так и не увидел сыночка…
– Где же он умер?
– Вот и не понимаете… Ах, да что это я!.. И впрямь я точно сумасшедшая. Ведь и на самом деле вы не можете знать, – откуда вы можете знать!.. – вздохнула она и долго смотрела на нее. – Все говорю, говорю, – оживилась она снова, – а догадки нет спросить вас – кто вы такая и почему вы говорите о Феденьке?
Лиля потупила глаза. Ей мучительно тяжело было признаться. Но, преодолев неприятное чувство, она твердо сказала:
– Я новая мать вашего сына.
– Новая мать? – опять как бы не поняла Катя, оставаясь сидеть покойно и, по-видимому, стараясь осознать новость, принесенную Лилей. – Как это новая мать? Разве у ребенка бывает несколько матерей?..
И вдруг метнулась к ней.
– Так вот как! Вы его взяли! – вырвалось у нее. – Это для вас его отняли у меня? – и во взгляде ее вспыхнул странный огонек – не то любопытства, не то какой-то затаенной враждебности.
Она отошла, продолжая рассматривать Лилю.
– Вишь ты, какая у моего Феденьки новая мама! – как бы оценивая Лилины достоинства, произнесла она, то ли с завистью, то ли с иронией. – Довелось увидеть… А я очень мечтала увидеть, да не надеялась… Вы мне всяко представлялись, но не такой… Хорошая мама… Ну что ж, – с раздумьем проговорила она, – если вы довольны моим Феденькой, то я отдаю его. Пусть. Вижу, вы хорошая женщина и будете любить его… Только вы должны любить непременно, обязательно – слышите? Так вы говорите – он лепечет?
– Да.
– Ишь ты, – осветилось ее лицо светлой улыбкой, – и ручонками работает?
– И ручонками.
– А смеется?
– Часто. Лежит, лежит, да как примется улыбаться ни с того ни с сего – всем весело станет.
– А мне-то каково, мне? – снова помрачнела Катя. – Вам весело, а мне…
– И вам должно быть весело оттого, что ребенку хорошо.
– Это так, – задумалась она, снова принимаясь ходить взад и вперед. – Это верно: только бы ему хорошо было, моему Феденьке. Но смотрите, – загорелись ее глаза, – смотрите, если он у вас умрет, я приду тогда к вам, я найду вас и спрошу – где мой Феденька? Спрошу, спрошу…
Она хотела сказать еще что-то, но раздумала и быстро подошла к Лиле, взяла за руки, принялась поглаживать, скорбно заглядывая в глаза.
– Вы не сердитесь на меня… не надо, – дрогнувшим голосом и страшно торопясь, начала Катя. – Мне все это лишь кажется… Вот и вы заплакали, – и принялась утешать Лилю, у которой действительно потекли слезы. – Ну, не надо, ну, не плачьте. Господи, зачем же! Ведь я только пошутила, право. Я сразу, когда увидела, поняла: ведь вы хорошая, вы милая, славная. Я знаю: Феденьке моему хорошо будет с вами. Вы для него – настоящая мама. Ну а теперь ступайте, спасибо за весточку. Какая вы хорошая – не погнушались. Обождите, – заторопилась она вдруг и, бросившись к комоду, выдвинула ящик, достала оттуда детскую беленькую рубашечку и какой-то маленький сверточек, завернула все это в кусочек ситца, сунула в руки Лиле. – Пусть и меня он помнит…
Пусть знает, когда вырастет, как любила его настоящая мама. Ну, а теперь ступайте. Приезжайте хоть разик в год, – крикнула она вслед Лиле.
Сейчас же от Кати Лиля отправилась к Уткиным и Афеногеновым выполнить поручение Семена Андреевича – рассказать о том, как устроились Любочка и Аришенька. И было чем порадовать: обе девочки были устроены в хороший детский дом. Правда, первую неделю они плакали, вспоминали родителей, рвались «домой», но привыкли, подружились с другими детьми. За ними установлен прекрасный уход, Семен Андреевич и она, Лиля, навещают девочек каждый день, носят им подарки, а с будущей осени Любочка поступит в школу…
Авдотья и Фрося приняли весть о детях с большой радостью и растрогались заботами о них. Просили передать Семену Андреевичу благодарность, привет.
Затем Лиля сходила на кладбище, отыскала родительские могилки, привела их в порядок: удалила бурьян, траву, посадила цветы, специально привезенные из города.
С кладбища Лиля вернулась на здоровый двор и прошла прямо к Туркееву.
Сергей Павлович усадил ее, предложил чай, но Лиля отказалась, она была печальна, едва сдерживала слезы.
– Пустое, ни к чему, – заметил он, – вы лучше расскажите мне, батенька, вот о чем: зачем нашему уважаемому шефу, а вашему муженьку Семену Андреевичу понадобилось усыновлять Катиного сына? Признаться, я прямо руками развел, когда узнал.
– А что ж тут удивительного? – вспыхнула она.
– Удивительного нет ничего. Но все-таки удивительно… – покрутил он головой и усмехнулся.
– Я люблю детей, – тихо ответила Лиля. – Ну… ну… и мне захотелось иметь ребенка.
– Так и имели бы своего. Зачем же вам чужой? Лиля сняла платок, повесила его на спинку кресла.
– Я так и хотела – своего. Но не хочет он.
– Почему же? – удивился Туркеев.
– Он-то хочет… Он тоже любит детей, как я, и тоже своего хотел иметь, а не чужого… Да не хочет…
– Вот тебе н-на, – развел руками Туркеев, сбитый с толку, – хочет и не хочет. Вероятно, опять придумал что-нибудь сверхъестественное? Что ж это взбрело ему опять в голову?
– Взбрело, – отмахнулась Лиля. – Он все время боится, как бы я не заболела… Ну, скажите мне, Сергей Павлович, – с жаром проговорила она, – правда это или неправда?
– Что?
– Да вот могу ли я заболеть, если рожу? Он так мне и сказал: рожающие женщины больше всего могут заболеть… Вычитал где-то…
– Фу, какой чудак ваш муж, – совершенно искренне возмутился Туркеев. – Это относится не к здоровым, а к прокаженным! Прочесть-то прочел, да кверху ногами. Правда, что у прокаженных женщин, которые родят, иногда чрезвычайно бурно обостряются процессы. Им это вредно. Но для здоровых женщин рожать полезно, запомните это навсегда: полезно!
Лиля улыбнулась:
– Я так и знала, что он напутал. Я говорила – ведь этого не может быть, а он на своем. Вот и решили взять ребенка. Да я не жалею теперь, я довольна Феденькой… А правда, Сергей Павлович, что инкубационный период может длиться сорок лет? – уже серьезно спросила она.
– Вы лучше расскажите, батенька, о том, зачем Семену Андреевичу понадобилось пугать моих сотрудников? Речь-то какую загнул!.. За детей благодарю, а за речь сердит.
Лиля потупилась и снова улыбнулась.
– На него нельзя сердиться, – сказала она мягко.
17. Медицинская ошибка
Весь лепрозорий с нетерпением поджидал приезда известного столичного лепролога, которого пригласил доктор Туркеев для консультации.
За последние годы в практике лечения больных накопилось много вопросов, требовавших личного присутствия научного авторитета, способного разобраться в неясностях, вытекающих из этих вопросов.
Лепрозорий имел ряд больных, ставивших и Сергея Павловича, и весь медицинский персонал в тупик странностями течения их болезни.
На больном дворе проживало несколько прокаженных, решительно не поддававшихся никакому лечению, а некоторые из них реагировали на чольмогровое масло и ряд других препаратов внезапными обострениями. Все это требовало тщательной и авторитетной консультации. Кроме того, Сергею Павловичу хотелось на практике увидеть применение некоторых новых способов лечения, а он знал, что Алексей Алексеевич Зернов, которого он пригласил, – один из виднейших в стране клиницистов-лепрологов, прекрасно осведомленный о самых последних новинках техники лечения.
Зернова ждали с нетерпением.
На здоровом дворе надеялись увидеть светило науки, интересного, необычайного гостя, на больном – чуть ли не чародея, который разом должен принести всем какие-то невиданные облегчения.
И он наконец приехал.
Это был еще сравнительно молодой человек, лет тридцати восьми, с черной бородкой, высокий, замечательно вежливый и даже застенчивый. Во всех его манерах, начиная от умения внимательно слушать собеседника и кончая скромностью, которая приятно бросалась в глаза, когда он говорил не только с Туркеевым, но и с мелкими служащими лепрозория, чувствовалась большая культура. Он в совершенстве владел четырьмя европейскими языками, но за все время не обронил ни одного иностранного словечка, стараясь подыскивать понятные, русские слова даже там, где, казалось бы, невозможно обойтись без иностранных терминов.
Лепрозорий был очарован гостем в первый же день. Туркеев ожидал почему-то встретить важную, столичную персону, а оказался – скромный, приятный человек.
Больной двор только и говорил, что о приезде «профессора», хотя Зернов не был профессором, а только доктором. Почти все население было радостно взволновано, ожидая от Алексея Алексеевича каких-то особенных приемов лечения. Большинство больных принарядилось. Амбулатория никогда не видела такого наплыва, как в те дни.
Разумеется, сразу невозможно было принять и осмотреть всех. В первый день прием длился с девяти часов утра до пяти вечера беспрерывно. Две трети больных пришлось назначить на завтра и послезавтра.
Поразительно: многие, кого принял Зернов, уже вечером утверждали совершенно искренне, будто им «полегчало», будто они сразу почувствовали себя людьми – так необычайна была сила надежды и жажда здоровья!
Впрочем, надо отдать справедливость: Алексей Алексеевич ничего нового не предписывал, порекомендовал лишь для некоторых из больных применять новейшие комбинации лечения.
Весь лепрозорий буквально чувствовал себя, как во время большого и радостного праздника.
Но больше всего беспокоился Василий Петрович Протасов.
Первый день он почти безотлучно дежурил у амбулатории, не решаясь, однако, войти в нее.
Надев новый костюм, которому насчитывалось не менее как лет двадцать пять, сшитый еще во времена его здоровья и послуживший ему не более двух-трех раз за целую жизнь, Василий Петрович трепетно ждал встречи со «знаменитым ученым».
Явиться на прием в амбулаторию он почему-то не решался. Ему хотелось встретиться с Зерновым вне деловой обстановки, «на свободе».
Но странно: едва только он замечал фигуру гостя, как тотчас же стушевывался.
Раза три Василий Петрович пытался войти – и недоставало духу. Так и ушел на больной двор, ужасно смущенный, взволнованный.
Пришлось обратиться к содействию Веры Максимовны.
– Вы уж помогите мне, родненькая, – поймал он ее на больном дворе. – Ведь сами видели, как старался в лаборатории. Неужто должно пропасть? Не хочется, чтоб пропало. Ведь не для себя же! Хочу поделиться с ученым миром. Может быть, это глупо, но, может быть, и дельно – темная вода, кто знает?
– Ну и пошли бы к нему на прием, – сочувственно сказала Вера Максимовна, – он простой, приветливый…
– Знаю, да не могу. Как только возьмусь за ручку двери, так и подкашиваются ноги… Не могу, Максимовна. Помогите вы, сделайте милость, предупредите его…
– Смешной вы, Василий Петрович.
– Согласен, а с характером не могу совладать. В то же время – хочется. Он ведь как раз такой человек. Он книги, говорят, пишет… Может быть, и моя мыслишка пригодится. Мы-то умрем, а человечество останется. Так вот: для человечества!
В тот же вечер Вера Максимовна свела Протасова в кабинет Туркеева и представила его Зернову.
Тот внимательно выслушал и, видимо, заинтересовался мыслями Василия Петровича. Прощаясь, сказал:
– Послезавтра я буду делать доклад работникам лепрозория. Приходите и вы… Не предполагал, что могу встретить здесь больных, которые интересуются болезнью именно с этой стороны. Очень хорошо. Буду рад видеть вас в числе моих слушателей.
Протасов покинул Зернова необычайно взволнованный, довольный: наконец-то его выслушают!
И все эти два дня, что предшествовали докладу, он не появлялся нигде. Он работал, готовясь к разговору, который представлялся Василию Петровичу исключительно важным.
На четвертый день пребывания Зернова Туркеев повел его осматривать больной двор.
Сергей Павлович продемонстрировал гостю целый ряд любопытных больных и хотел уже повернуть на здоровый двор, как вдруг остановился.
– Постойте, батенька, ведь чуть не забыл, – и остановился вблизи одного из домиков.
Зернов в недоумении взглянул на Сергея Павловича.
– Пойдемте, я познакомлю вас с одним замечательным случаем, – нахмурился неожиданно он. – Это пример того, как огромное большинство наших врачей ничего не знает о проказе. Ничего, – с досадой повторил он. – Может быть, напишете когда-нибудь, Алексей Алексеевич. Вы увидите тут, как один заслуженный, уважаемый старый врач, искренне желая помочь больному… Впрочем, он вам сам расскажет, пойдемте! – и направился к одному из бараков, стоящему особняком ото всех остальных.
Они пересекли улицу и, подойдя к бараку, остановились.
– Знаете, Алексей Алексеевич, до сего времени я как-то не придавал значения одному обычаю, с давних пор укоренившемуся в нашей врачебной среде: если один врач лечит, другой стой в стороне; если один врач совершает явную ошибку, а ты видишь эту ошибку, – не вмешивайся, держи нейтралитет – «не мое, дескать, дело, мы, дескать, оба врачи…». А в результате человек… Впрочем, результат вы увидите сейчас сами.
Сергей Павлович нажал на ручку двери и, открыв ее, переступил порог.
В светлой и довольно просторной комнате, в которой стояли железная кровать, стол, несколько табуретов, они увидели человека, сидевшего у окна и вбивавшего шпильки в ботинок, насаженный на колодку.
– Здравствуй, Кубарев!
Человек повернул голову, и Зернов увидел обезображенное лицо, без носа, без одного глаза, без бровей, с темными отвисшими мочками. Он, взглянув на вошедших слезящимся глазом, неловко поднялся, держа молоток в руке, поклонился.
– Здравствуйте, Сергей Павлович, – сказал он почтительно, пристально поглядывая на Зернова. Голос его был хриплый.
– Как твои дела?
– А как наши дела, доктор? Вам лучше всех известно, – и какое-то подобие улыбки появилось на его страшном лице.
– Работаешь?
– Помаленьку.
– Вот видишь, а все жалуешься, что работать нельзя.
– Какая же это работа, доктор, – положил он молоток на подоконник, – в поле хочется, да руки… – он посмотрел на свои руки, и Зернов увидел, что на одной из них, фиолетово-темной, отсутствовали три пальца, на другой недоставало двух. Остальные показались ему скрюченными, неподвижными.
– Вроде как одна рука осталась, – продолжал Кубарев, – а другой вроде как нет. Пять пальцев за место десяти – вот как.
– Ты сел бы…
– Да и вы сели бы, – несмело посмотрел он на них и засуетился с табуретками.
– Давно вы больны? – присаживаясь, спросил Зернов и, взяв его фиолетовую руку, стал пристально рассматривать.
– Давненько – лет тринадцать.
– От кого – не помните?
– Не знаю, доктор. Теперь только припоминаю, будто еще на фронте видел на ноге пятно, да внимания не обращал.
– Так, – задумался Зернов, пощупывая руку, – значит, не тринадцать, а еще больше.
– Должно быть, так.
– Хорошо чувствуете сейчас?
– Куды там! – оживился Кубарев. – Лучше, поди, чем в деревне.
– Лечились?
– Так точно, лечились, доктор.
– Откуда вы родом?
– Пензенской губернии.
– И семья есть?
– Так точно – жена и двое детей.
– Где ж вы лечились?
– А в тамошней больнице, – дрогнул голос Кубарева.
– Сколько вы лет лечились?
– А лет двенадцать.
– И что же?
– А вам виднее, доктор, – робко посмотрел на него Кубарев и умолк. Затем поднялся, привел в порядок сапожный инструмент, лежавший у окна, и снова опустился на табурет, стоявший перед Зерновым. – Я-то ведь год назад всего узнал про проказу, – сказал он, принявшись вытирать рукавом глаз, – а до того не знал, и в ум даже не шло. Люди говорили, будто сифилис это. Ну и я тоже: ежели говорят, – значит, верно.
– Что ж врачи-то говорили?
– То же, что и люди.
Зернов чуть-чуть поморщился. Кубарев испытующе взглянул на него, продолжал:
– Тут, доктор, как бы это сказать вам… В нашем уезде никто никогда не слыхал про такую болезнь – проказа… Даже слова такого не понимал никто… Ну и вот… Вернулся с фронта – под Ригой мы стояли… Демобилизовали. А дело наше известно какое – крестьянское. Взялся за лошадь да за соху, хозяйство у меня маленькое – избенка, лошаденька, двое детей да жена. Ну, думаю, кончилась война – теперь заживем, помаялись, дескать, хватит…
– Ты про болезнь расскажи, – перебил его Туркеев, стоявший у окна и рассматривавший сапожные инструменты Кубарева.
– А тут, значит, и болезнь, – оживился Кубарев, – начала как раз обозначаться. Сперва – на ноги, не видать было никому, а дальше – больше: кинулась на лицо. Ну работаю в поле, ничего. Пройдет, думаю. Мало ли каких болячек не бывает? Ежели из-за каждой к доктору бегать, так и докторов на белом свете не хватит. Жена тоже покойна; думает так же, как я: поболит, поболит и пройдет. Один раз пришел мой мальчонка, плачет. Ты чего? Ничего, говорит. Как так ничего? Кто тебя обидел? Мужики, говорит, к колодцу не допускают, а колодец у нас один на всю деревню – обчественный. За что же, говорю, мужики тебя к колодцу не допускают? А за то, говорит, что отец твой заразу носит. Это мужики – про меня, значит. Где хочешь, говорят, бери воду, только не из обчественного колодца. У твоего, говорят, отца дурная болезнь, а ты этим ведром воду черпаешь, а из этого ведра, может, твой отец воду пьет… Туда-сюда – головушка ты моя горькая! Пошел в сельсовет. За что ж вы, дескать, так наказываете меня – без воды оставить стараетесь. А председатель, Митька Кривоносов, и говорит: мы не стараемся оставить тебя без воды, а стараемся от тебя не заболеть – вот. А сам-то ты, Кубарев, подальше, говорит, от всех держись и в сельсовет даже не заходи, а если надо – остановись на улице и крикни… А насчет воды – позволить никак не можем. Где хочешь бери.
Да как же, говорю, это так? Ежели, скажем, у меня такая болезнь, то почему ж моя жена не заболела и дети? Ведь вон сколько лет прошло, как болячка объявилась, а жена не заболела и дети тоже? Как же это, говорю. Какая ж, говорю, тут зараза? А Митька отвечает: это, говорит, до нас даже не касается – что с твоей женой. Бывает, говорит, такая зараза, которой не видать. А ты, говорит, лучше в город поезжай к доктору. Пусть посмотрит и скажет – можно или нельзя тебе из обчественного колодца воду черпать?
Кубарев умолк и провел рукой по залатанной, блестящей коленке. Зернов чуть заметно покачал головой и мельком взглянул на Туркеева. Тот, нахмурившись, смотрел в окно.
– Ну, запряг я, значит, лошадь. Приехал в город, в больницу. Так и так, говорю, доктор, посмотрите на милость – что это такое привязалось ко мне? А доктор этот был человек уже пожилой, лет двадцать больницей заведовал. Весь уезд знал – хороший доктор; говорят, будто не было такого человека, которого он не вылечил бы. Тихон Федорович звали. Раздел он меня, послушал со всех сторон, выстукал, покачал головой. У тебя, говорит, дорогой мужичок, та самая болезнь, про которую мужики говорят: сифилис. Теперь, говорит, мы выгоняем ее сразу; через полтора года и следов не останется. Только аккуратно лечись. А насчет колодца не беспокойся. Твои деревенские власти, говорит, незаконно поступают. И написал бумажку, – мол, допустить к колодцу, потому что хоть у него и действительно такая болезнь, но ни для кого не опасная. Сделали мне вливание, дали пузырек с лекарствой, чтобы пить дома, бумажку насчет колодца дали и отпустили домой…
– И стало хуже, – тихо сказал Зернов.
– Очень даже, – взглянул на него Кубарев. – Очень скоро стало так худо, что лег. И целый месяц так: все хуже. Тут уж жена забеспокоилась. Видит, что язвы разгораются, ноги стали гнить, боль кругом. Давай-ка, говорит, повезу тебя опять в город. И повезла. И опять – к тому же Тихону Федорычу. Ну как? – говорит. А так, говорю, доктор, худо. До того раза, говорю, доктор, еще терпел, работал, а как только от вас приехал да принял лекарству, так и плохо сделалось. Ты что-то, говорит, путаешь, милый мужичок, – вроде как обиделся. Я, мол, тысячи людей вылечивал, а ты один такой выискался. Это ничего, говорит, это пройдет; так, говорит, и быть должно: сначала плохо, а потом лучше станет. Только аккуратно лечись… И опять дал пузырек с той же лекарствой. Пью, а поправки никакой. Ничего, думаю, пройдет – так, видно, и быть должно: когда-нибудь подействует, надо только потерпеть. И жена то же говорит – потерпеть надо, без терпенья ничего не бывает. Выпил эту лекарству и думаю: ехать аль нет? Велел ведь аккуратным быть. Думаю, подожду лучше.
Прошло еще несколько месяцев – вижу, лучше стало, будто полегчало. Это, думаю, так и есть, как говорил доктор, – спервоначалу плохо, а потом полегчает. Вишь, и легчает…
– А давно до этого кончил лекарство? – так же тихо спросил Зернов.
– Месяца, поди, за два.
Зернов ничего не сказал и снова чуть-чуть поморщился.
– Обрадовался я тут, – продолжал Кубарев. – А мужики тем временем, хоть и поняли, что доктор приказал пустить к колодцу, а сами себе на уме; пускать пускают, а меня и детишек обходят, косо посматривают и наши ведра не велят опускать в колодец, привесили свое и наказали, чтоб мои детишки сами не трогали ни журавль, ни веревку, а вызывали б кого-нибудь из чистых, когда надо воды набрать. Поехал опять я к доктору – ведь один только он и заступник. Так и так, говорю, доктор, мужики ведро привесили и сторонятся…
Это, говорит, по невежеству, по неграмотности. Пусть, говорит, ладно, лишь бы воду давали, а на остальное, говорит, не обращай внимания. А насчет болезни, говорю, доктор, как сказали, так и есть: легчать начало. Посмотрел он на меня, подумал. А давно, говорит, лекарству пить перестал? Месяцев, поди, пять, говорю. Ладно, давай еще сделаем вливание. Сделали, и опять пузырек с тою же лекарствою дали. Приехал домой. Пью лекарству. Вот, думаю, теперь уж начну поправляться как следует.
– И после этого стало хуже? – слегка подался вперед Зернов.
– Ох, доктор, света прямо невзвидел, – махнул рукой Кубарев.
Доктор Туркеев сверкнул куда-то в потолок очками и сделал несколько шагов по комнате, заложив руки в карманы. Но, стараясь сдерживаться, он молчал.
– Ну, ну, – вырвалось у Зернова.
– Мне хуже, а лекарству пью, – продолжал Кубарев, пристально всматриваясь в Алексея Алексеевича. – Поможет, думаю. Не может быть, чтоб от лекарствы было худо. Видимо, так надо: потом поможет. А жена (хорошая она у меня, дай бог здоровья) и говорит один раз: бросил бы ты пить лекарству эту окаянную. А я на нее: чего ты, мол, понимаешь, если сам доктор… Пью и смотрю я, батюшки мои: стало сразу легче, на убыль точно пошла болезнь, вот как полегчало! Прямо пионером будто стал. С кровати поднялся, по хозяйству кое-что принялся. Туда – сюда!.. Дура, говорю, ты! Видишь? А ты говорила: не пей. А она отвернет глаза и сурьезно так говорит: что ж, ежели помогает – пей, и молчок… Выпил эту бутылочку. Надо, думаю, за другой ехать. Теперь уж сам запряг лошадь, поехал. Приехал опять в больницу. Вот, говорю, доктор, правду вы сказали: помогает ваша лекарства… Видишь, говорит, а ты не верил, – так даже просиял от радости. Давайте, говорю, еще две бутылочки, получайте, сколько хотите, только дайте. А он нахмурился и говорит: у нас, дескать, бесплатно лечат и никаких получек. А лекарству возьми. И дал целых две бутылочки. Сделали опять вливание. Ну-с, приехал домой. Показываю жене бутылочки. Вот, мол, теперь пойдет скорее.
– И что ж, помогло? – прищурился на него Зернов, едва заметно улыбаясь.
– Помогло, доктор.
– Это сколько ж лет прошло с того момента, как вы лечиться начали?
– А лет, поди, шесть… Как раз нос отвалился. Помогло-то, доктор, помогло, – точно задумался он. – Да не от того, от чего вы думаете.
– А я и не думаю, – снова улыбнулся Зернов. Кубарев на мгновение умолк, как бы смутившись, и продолжал:
– Жена-то, как увидела эти бутылочки, так и сделалась сама не своя.
Смотрю на нее и не верю: лицо такое, будто ей очень хочется взять эти бутылочки да об земь. Ты, говорит, еще не пил из этих бутылок? Нет, говорю.
И не надо, не пей покамест. Дай их, говорит, сюда, пойду отогрею, а то холодная лекарства с морозу… как бы не застудиться. И взяла, а к ночи принесла и поставила рядышком: теперь, говорит, пей… Ну, пью… Ничего.
Хоть не помогает, но и не вредит будто… В те-то разы хуже было, в те разы как начнешь пить, бывало, так сразу хоть гроб. А тут – нет. Хоть и не видно поправки, зато и без вреда будто. А ведь хорошее, говорю, лекарство.
Хорошее, соглашается жена, а сама чуть не плачет, бедная, глядючи на меня. А ты вот, говорю, болтала… Значит, отвечает она, ошиблась. Пей, говорит, на доброе здоровье… Скоро, говорю, поправлюсь я, Гашенька? Скоро, говорит, голубчик, а сама стоит надо мной – и слезы как из решета. Не езди, говорит, Никишенька, туда, не надо… Лучше как-нибудь так – дома! Как так не езди? – говорю. Сама ж видишь – лучше становится. Лучше, говорит, а все-таки не езди.
Э-э, говорю, все вы бабы глупые. Сами не знаете, что болтаете. Вот кончу бутылочки и опять поеду. Доктор-то ведь аккуратным быть наказывал.
– Ну и что ж, поехали опять? – искоса посмотрел на него Зернов.
– Поехал. Года два аль три подряд ездил.
– А болезнь?
– Болезнь так же ни вперед, ни назад. Только пальцы начали гнить – отрезали.
– А жена что говорила?
– Что ж она могла говорить? Одно твердила – не езди. Да куда там! – ежели хотелось здоровья. Здоровья захочешь – в ад полезешь. Приехал я один раз в больницу. Сижу в приемной. И другие мужики сидят из разных деревень. А четверо, вижу, из нашей. Поодаль. Сторонятся меня, побаиваются, даже не разговаривают, промеж себя шепчутся. Жду, значит, доктора. И вот дверь открылась. Смотрю, оттуда выбегает в белом молодой доктор какой-то. Шустрый такой – не ходит, а бегает, и лицом по сторонам крутит да глазами по людям прыгает. А лицо серьезное и даже гордое. Уже пробежал мимо меня, да остановился, начал в меня всматриваться. Видно, спешил куда-то, да заинтересовался. Подошел ко мне, посмотрел… Смотрит, молчит. Потом присел.
А ну-ка, говорит, протяни руку, молодой человек, – это мне, значит, я, дескать, молодой человек, – улыбнулся Кубарев. – Протянул я руку. Взял он, начал щупать руку, лицо. Щупал, щупал, потом отпустил, подумал. Давно ль, говорит, ты болен, молодой человек, этой болезнью? Давно, говорю, лет десять, доктор. А ты знаешь, говорит, какая у тебя болезнь? Знаю. Какая? – спрашивает. Сифилис, говорю. Засмеялся, помолчал и говорит: у тебя не такая болезнь, молодой человек, а совсем другая. Тут, доктор, будто вынули меня из проруби, в которой я сидел все это время, и будто на теплую печку посадили – вот как обрадовался, даже будто пальцы отрезанные на руках выросли. Так это верно вы говорите, доктор, не такая у меня болезнь? – спрашиваю. Верно, отвечает. А лицо серьезное, и глаза едва смотрят на меня. Гляжу в сторону наших, деревенских. Вижу, слушают разговор наш, интересно, значит. Ага, думаю, вот послушайте, дураки. А мне главное, чтоб детишек к колодцу подпускали. А какая, говорю, доктор, болезнь-то у меня, ежели не эта самая?
А он смотрит и молчит. Другая, говорит, и ушел… Тут я здорово повеселел!
Да и мужики, смотрю, не так уж посматривают на меня. Один так даже закурить позвал. Почему ж, думаю, он не сказал – какая болезнь? Дождусь, думаю, его обязательно и спрошу. Так час иль больше прошло. Смотрю, опять идет. Я к нему. Остановился. Опять смотрит на меня. Какая ж, спрашиваю, такая болезнь у меня, доктор? Скажите, сделайте милость. А он обвел глазами всю приемную – люди сидели, видимо, хотел сказать что-то, да не сказал и опять ушел в кабинет. Что за оказия такая? Почему он говорить не хочет? Ну, думаю, уж так не уеду в деревню, добьюсь. А тут и приему конец. Дверь наружу открыта.