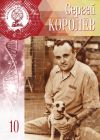Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Постой, – не в состоянии сдержать улыбки, добродушно заметил Превосходов. – Чего ты вскипел? И потом: как это «в городских амбулаториях»? Разрешить им вход в амбулаторию, где лечат всех остальных? Так, что ли?
– Да, почти так! – с азартом воскликнул Туркеев.
– И разрешить им сидеть рядом с маляриком, рядом со здоровым человеком?
– Хотя бы так.
– Нет, ты с ума сошел! – громко рассмеялся Превосходов.
– Это вы с ума сходите, – внезапно успокаиваясь, буркнул Сергей Павлович.
– Так-таки прямо в городской амбулатории? Это, брат, новость для меня… Новость! Я принял, скажем, прокаженную, а через минуту в то же самое кресло сядет больная с воспалением яичников? Так?
– Не так, но вроде того, – усмехнулся Туркеев, вспомнив Веру Максимовну.
– А как же? – уставился на него Превосходов, необычайно удивленный ходом мыслей старого приятеля.
– Я думаю, – решительно взглянул на него Туркеев, – что прокаженные могут сделать так называемому здоровому обществу некоторые уступки. Они согласятся иметь свою собственную амбулаторию в городе, изолированную от других.
– Это прямо очаровательно! – затрясся от хохота Превосходов. – Это даже трогательно! Прокаженный поднимается утром со своей постели, он оделся, позавтракал в столовой, он пошел гулять. По дороге вспомнил про амбулаторию. Сел в трамвай, приехал, с ним проделали процедуры. А вечером он идет к знакомым поиграть в преферанс или двинет в театр… Он живет полной жизнью, он здоровается со всеми за ручку – одним словом, проказа «миф и сон печальный», фантазия, идиотство дикарей! Так, что ли? – снова засмеялся Превосходов.
– А знаешь, – сказал тихо Туркеев, – мне часто именно в такой обстановке и хочется видеть прокаженных. Именно так, чтобы и в театр, и в карты…
– Одно дело – хотеть, другое – иметь на это право… Но ты или на самом деле болен, – уже серьезно посмотрел на него Превосходов, – или святой. Нет, ты святой!.. Вишь ты… По-твоему, выходит, значит, что бактерии Ганзена – выдумка или что-нибудь в этом роде? Уж не антиконтагионист ли ты, Сергей Павлович?
– Нет, я не антиконтагионист, – отмахнулся Туркеев. – Я убежден, что проказа заразна. Двух мнений быть не может. А что касается ганзеновской палочки… – он замолчал, словно что-то обдумывая.
– То? – спросил Превосходов.
– То тут есть много странного, непонятного, много неизученного…
– Чего ж в ней неизученного? – перебил его Превосходов. – Бактерия остается бактерией. Понимаю: ты хочешь сказать, что она «Федот, да не тот» и, может быть, вовсе не Федот… Я слышал… Но это абсурд… Не согласен с тобой, если ты думаешь так…
– Порой мне сдается, – задумчиво смотря на графин, тихо продолжал Туркеев, – что ганзеновская палочка – именно не Федот, как ты сказал, а что-то другое, более загадочное, чем все другие бактерии… Мы ничего ведь не знаем даже о ее вирулентности… Может быть, она даже и не бактерия… Может быть, эта палочка невинна, как детская слеза, и является лишь жертвой всеобщего ошибочного мнения.
– Постой… Постой, – широко открыл глаза Превосходов, – может быть, тебе воды надо? Впрочем, лучше давай выпьем еще по одной рюмке, авось голова твоя просветлеет, – и он подошел к столу и снова наполнил рюмки. – Не в наше время тебе жить, Сергей Павлович, а лет этак тысячи две назад… Ты малость запоздал. Выпьем, – поднял он рюмку, – за твою невинную, «как слеза», проказницу!
Доктор Туркеев молчал, внимательно рассматривая рюмку и думая о том, что сейчас он захмелел и несет, вероятно, чепуху, а завтра ему станет стыдно от всего того, что болтает он сейчас. Тем не менее он чувствовал большую убежденность в правоте того, о чем он говорит, и досадовал на то, что Превосходов смеется. «Это оттого, – подумал Сергей Павлович, – что он не понимает, а поймет – поверит». И ему захотелось доказать старому приятелю, что ничего удивительного и опасного не будет, если прокаженных начнут лечить в городах, в амбулаториях, как лечат тысячи других больных, что езда в поездах более опасна, чем возможность заразиться проказой в условиях, когда здоровое общество будет видеть опасность.
– Вчера я познакомился с одной милой молоденькой женщиной, – тихо сказал Сергей Павлович.
– Ага! – оживился Превосходов. – И у тебя на старости лет появились милые молоденькие женщины…
– Ты не так понял, – угрюмо посмотрел Сергей Павлович. – Милую в смысле ясности и простоты понимания того, чего не можешь понять ты.
– Еще бы! – засмеялся Превосходов. – Нынешние молодые женщины молодцы… Они нашему брату сто очков протрут… У них есть чему поучиться…
– Это жена глубоко уважаемого мной человека, – косо посмотрел на него Туркеев.
– Извини, не знал. Итак, чем же удивила тебя эта милая, глубоко уважаемая молоденькая женщина?
– Она удивила меня тем, – поднялся Туркеев, – что она здраво смотрит на проказу и поле зрения ее не засорено мусором, через который вам мерещатся всякие ужасы, – вот чем!
– Это она рассказала про амбулатории?
– Нет, не она. Но она сказала, например: почему всем вам, даже культурным и умным, мерещится неизбежность заразы, если вы встретитесь или поговорите с прокаженным, или увидите его, или прикоснетесь к нему? Если тысячу с лишним лет назад Магомет советовал бояться прокаженного «как дикого зверя», то теперь, когда создаются высшие формы культурной человеческой жизни, эта заповедь просто глупа…
– Главное вот что, – прервал его Превосходов, – главное, не надо агитации, я ведь не младенец, – ты мне факты дай, докажи мне, а не призывай на помощь «создание высших форм»… Все-таки что же говорила твоя милая женщина?
– Она сказала одну простую вещь, – продолжал Сергей Павлович, повернувшись к окну, – она сказала, что существует большая опасность заразиться проказой от мяса, молока, овощей и вообще от чего угодно, нежели от человека, которого мы знаем как прокаженного. Вот что!
– Ишь ты, а она понимающая, – добродушно заметил Превосходов. – Но в таком случае для меня непонятно: почему возникает эпидемия проказы? Ты уверен, вижу, уверен, что в лепре я невежда, я ни черта не понимаю в этой области и питаюсь «азиатчиной»… Ты знаешь лучше меня, что новые очаги всегда возникают от появления какого-нибудь одного прокаженного. Приедет незаметно, скроет болезнь, поселится и живет как ни в чем не бывало.
Общается со здоровыми, купается в общей бане, ходит в гости, принимает гостей, пользуется общей одеждой, общими орудиями труда… Впрочем, чего это я принялся обучать тебя! – махнул он рукой. – Как будто ты не знаешь, что в течение двадцати лет один прокаженный способен передать – и передает – болезнь сотням людей…
– Продолжай, продолжай, – попросил Туркеев, заметив, что Превосходов не хочет говорить дальше.
– Если хочешь, изволь. Так вот, возьмем вашего знаменитого Кеаню, над которым трудился подряд два года бедный Арнинг, чтобы заразить его проказой… Вы, лепрологи, всегда козыряете этим Кеаню. «Вот, дескать, два года подряд в него вводили миллиарды бактерий проказы, два года заражали человека – и ничего, человек остался здоров». Не так ли? А в конце концов он заразился! А если вы вынуждены признать его заражение, то опять-таки, дескать, не оттого, что его искусственно заразили, а оттого, что у Кеаню, как выяснилось, родственники были прокаженные – они и заразили его еще до Арнинга…
– Я могу развить эту мысль, – перебил его Туркеев. – Наука знает более потрясающие случаи, когда проказа передавалась через третьих лиц, когда человек заражался ею, побывав только один раз в жилище, где проживал прокаженный, люди заражались от одежды, купленной у прокаженного. Да ты только попробуй поговорить с моими больными – половина их скажет, что они совершенно не знают, где им пришлось заразиться. Но ведь люди умирают, поев мороженого, отравляются рыбой, колбасой, угаром, черт знает чем! Значит ли это, что не надо есть мороженое, рыбу, колбасу, не надо топить печей? Ты хотел сразить меня доводом об одном прокаженном, способном в течение двадцати лет заразить сотню людей. Правильно! Согласен! Но только ты сразил себя, да, да, себя, батенька, сразил! Это очень хорошо, – продолжал Туркеев, страшно торопясь, точно слова его не успевали за мыслями. – Вот в том-то весь и фокус: один прокаженный может заразить сотню… Впрочем… – понизил он голос, – такой случай редок. Против твоих доводов о Кеаню и новых очагах могу привести тысячу фактов, например, Даниэльсена, который без всякого результата неоднократно прививал себе и всему своему персоналу болезнь. Я укажу тебе на здоровых жен, живущих десятки лет с прокаженными мужьями и остающихся тем не менее здоровыми. На здоровых детей, рождающихся от прокаженных родителей. Да что там говорить! Возьми хотя бы нас, врачей-лепрологов. Ведь мы на протяжении многих лет каждый день встречаемся с прокаженными, на нас такие же халаты, как у вас, гинекологов, и работаем мы без всяких там масок, как это практикуют врачи японских лепрозориев, – однако, как видишь, ничего. Наше государство не помнит ни одного случая заболевания в лепрозории кого-нибудь из обслуживающего персонала.
– Так-таки ни одного? – переспросил Превосходов. Сергей Павлович нахмурился и помолчал. Ему опять вспомнилась Вера Максимовна.
– А если исходить из того мнения, – продолжал он, не отвечая на вопрос Превосходова, – что все ужасы идут от нее, от палочки, то меня эта палочка должна была сожрать еще семь лет назад. Ведь я ежедневно втягиваю в себя миллионы этих палочек! Шеффер утверждает, что при пятиминутном разговоре прокаженный выбрасывает их сто восемьдесят тысяч… А я работаю семь лет и, как видишь, здоровее тебя, и выгляжу бодрее, и на старость не жалуюсь… Что это такое, я тебя спрашиваю?
– Ты не у меня, а у себя спроси, – буркнул Превосходов, внимательно слушая Туркеева. – И все-таки люди заболевали, встретившись только один раз с прокаженным.
Сергей Павлович высоко поднял голову и сердито сверкнул глазами.
– Вот ты, – взволнованно заговорил он, – ты культурный человек, начитанный, образованный… Тебя ведь не надо учить тому, что такое туберкулез, например, или сифилис, или, скажем, тиф… Ты ведь знаешь отлично, как просто и легко подцепить все это и чем может все это кончиться, и тем не менее от сифилитика ты не побежишь, если тебе придется сидеть с ним рядом где-нибудь в театре или в общественной какой-нибудь столовой…
Возможно, тебе станет неприятно, тебя охватит брезгливость, но ты предпочтешь воспользоваться общественными удобствами и сидеть рядом с сифилитиком, чем лишиться этих удобств и уйти от него. А с туберкулезником так ты, пожалуй, облобызаешься, если придется, и откушаешь с ним за одним столом и даже не поморщишься… А ведь от туберкулезника не только можно легко заразиться туберкулезом, от него можно заболеть волчанкой, кажется, чего уж страшней – болезнь ведь уж совсем трудно излечимая… А от прокаженного все вы бросаетесь врассыпную… Почему? – Сергей Павлович развел руками. – Ведь проказа уносит в могилу только два процента. При ней ты можешь прожить восемьдесят лет и умереть от… воспаления легких. Черт его знает, не понимаю я вас, так называемых здоровых! Не понимаю: откуда этот ужас перед нею!
Туркеев внезапно утих и уже спокойно, точно беседуя с самим собой, продолжал:
– Разумеется, этот идиотский страх людям привили издревле. Она была неизлечима, ну, человечество и шарахалось! Притом – эпидемии… Впрочем, и это не то… Здесь, пожалуй, все дело в обезображении лица… Инстинкт сохранения «чистой внешности»… Внешний вид – вот где зарыта собака! Туберкулез не безобразит, и сифилис – не всегда и не так, а она искажает лицо… вот в чем секрет: лицо пугает, безобразность, стыдно показаться с таким лицом! Тут – основа. Недаром же ее и называют «проказа», то есть: казиться, искажаться… Лицо – вот почему шарахаются люди при виде прокаженного.
– А знаешь, Сергей Павлович, – весело прищурился на него Превосходов, – ты положительно очарователен! Не проказница, а сплошное благоухание цветов! Прямо хоть сию минуту туда и скорее, скорее превратиться в обитателя твоего обетованного больного двора! – захохотал он.
– Ты опять смеешься, – опустился Туркеев на стул. – А мне, батенька, совсем не весело… Да, не весело… – И ему вдруг вспомнилась Антонина Михайловна, разговор с нею. – Мне, батенька, совсем не легко, – грустно повторил он, опустив голову, и вдруг засмеялся мелким нервным смехом. – Боже мой, только представить себе, сколько паники, сколько смятения вызвал бы у людей перенос лепрозория, предположим, в город и размещение стационарных прокаженных в кожном отделении городской лечебницы… Сколько было бы истерик, жалоб, сцен, семейных трагедий… Уверен: наша городская лечебница в тот же день опустела бы, и врачам нечего было бы делать…
– Однако, брат, и ты не без дара иронии, – откликнулся стоящий у печки Превосходов. – Но ты все-таки не сказал – почему же надо прокаженных перетаскивать непременно в город? Что за надобность? Почему бы и мне продолжать наслаждаться жизнью там, где они устраивались до сего времени?
– В целях радикальной борьбы с этой болезнью, вот почему, – отчеканил Туркеев. – Чтобы прокаженный не являлся ходячим очагом проказы. Чтобы легче была борьба с нею. Ослабить ее как государственную опасность – вот почему!
– Не понимаю, – развел руками Превосходов. – Говори яснее.
– Ты хорошо сказал: один человек способен передать болезнь сотням. Совершенно верно. На остров Маврикия в конце восемнадцатого столетия приехал один прокаженный. До него проказы там не знали. Через десять лет оказалось их десятка два – все заразились от него. А сейчас почти все население острова поражено ею, и не только Маврикия, но и все соседние острова. В тысяча восемьсот сорок седьмом году в испанском местечке Перценте поселился один прокаженный, скрывший свою болезнь. Через несколько лет проказой заболели двое его товарищей. А в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году там их было уже шестьдесят. Вот что может сделать один прокаженный!
– А ты хочешь пересадить в город на правах свободных граждан сотню этаких цветочков.
– Да, да, хочу! – прокричал Туркеев. – Именно потому и хочу, чтобы ни один больной не мог заразить ни одного человека, чтобы ни одному прокаженному не пришло в голову скрыть болезнь, чтобы он немедленно, едва только обнаружил первые признаки, мчался к врачу и лечился бы! Чтобы его можно было изолировать сию же минуту от здоровых, но изолировать так, чтобы он чувствовал себя человеком, как и все, а не отверженным. Вот чего я хочу. Возьмем хоть тебя. Представь, что каким-нибудь странным образом и ты стал прокаженным…
– Благодарю покорно, – поклонился Превосходов, – избавь.
– Ну предположим, – продолжал Сергей Павлович, – ты получил ее, скажем, от мяса, купленного на рынке, от монеты, от какого-нибудь меха… Разве тебе захочется ехать туда, жить на больном дворе? Нет, не захочется. Ты непременно примешься ее скрывать, убеждать близких людей, что это вовсе не проказа, а какой-нибудь пустяк… Теперь, дескать, уж не вывернешься… Теперь конец… Но мне хочется еще жить… А там черт сними, с близкими…
Лишь бы еще пожить на «воле» хоть пять, хоть десять лет… Вот что ты подумаешь и, может быть, даже со здоровой женщиной жить станешь, не открывая ей секрета. А представь, если тебе разрешат жить дома или в лепрозории, расположенном в городской черте, разрешат гулять, встречаться с людьми, разумеется – с соответствующими предосторожностями, – разве ты не помчишься тотчас же в лепрозорий, как только обнаружишь признаки, зная, что проказа теперь излечивается в большинстве случаев при первичных формах, разве тебе не захочется при встрече со здоровым человеком предупредить его, – ты, дескать, болен, а потому и вынужден держаться с ним должным образом? Если на наши лепрозории будут смотреть как на обычное советское лечебное учреждение или как на санаторий, – разве кто-нибудь посмеет скрываться и станет сознательно запускать болезнь, рискуя остаться действительно неизлечимым?
Наоборот, ему захочется скорее избавиться, снова стать здоровым, снова вернуться домой, к жене, к детям. Вот почему мне хочется пересадить мои «цветки», как ты изволил сказать, в город…
– И все-таки… все-таки это фантазия, – вздохнул Превосходов, внимательно слушавший Сергея Павловича. – Ты плаваешь в облаках и смотришь своими пречистыми глазами на грешную землю… А столкнись с практической стороной дела, тебе покажут твои же больные, как надо жить и вести себя среди здорового общества!
– Глупости, – поморщился Туркеев, – в тысяча восемьсот семьдесят втором году комиссия Дюка де Аргиля, созданная для обследования проказы в Индии, указала, что из трехсот восьмидесяти пар мужей и жен, когда один кто-нибудь из них был прокаженный, а другой здоровый, болезнь была передана лишь в двадцати пяти случаях… Шесть с половиной процентов! Та же комиссия приводит список здоровых лиц, которые жили в приюте для прокаженных, ели, пили с прокаженными, курили из одной с ними трубки и остались здоровыми.
Комиссия констатировала, что из ста четырех лиц, живущих при крайне благоприятных для заражения условиях, заболел всего только один или, самое многое, два процента. Вот почему я так «беспокоюсь» о приближении лепрозориев к городам, – возбужденно заключил Туркеев и, помолчав, уже тихо добавил:
– Впрочем, пока это мечта… Но я убежден, что так должно быть, и уверен – так когда-нибудь будет.
– Дай боже! – почесал Превосходов спину об угол печки. – Только пусть это будет после меня.
– Раньше и не жди, – угрюмо сказал Туркеев. Он взял вилку, принялся постукивать ею о тарелку.
– Знаешь, я начинаю подумывать – не взять ли к себе на воспитание этак с полдюжины твоих питомцев? – заметил Превосходов.
– Я вовсе этого не говорил, – возразил Сергей Павлович. – Я хочу только, чтобы с ними не делали того, чего они не заслуживают… А с ними незаслуженно поступают во всем мире. В Японии, например, какая-то добрая душа добилась, чтобы лепрозории назывались «санаториями». В Токио лепрозорий так и называется: «Санаторий „Полная жизнь“». Но в то же время эта «полная жизнь» обнесена забором и при входе в нее стоит полисмен. Больной двор отделен от здорового тоже забором или длинным коридором и опять с полисменом… Хороша полная жизнь, если туда здоровому человеку надо входить в марлевой повязке!.. Я не возражаю против японских законов о прокаженных, которым запрещается покидать дома, где они живут, появляться в общественных банях, ресторанах, театрах, пассажирских пароходах, продавать продукты питания и прочее, – это, конечно, надо. Но зачем эти марлевые повязки, полисмены и заборы – не понимаю. Мне кажется, что такие вот повязки и создали сто тысяч прокаженных, которых насчитывает сейчас Япония…
– Что ж, в таком случае, – язвительно предложил Превосходов, – давай пошлем петицию нашему правительству… Попросим – пусть оно немедленно отменит уголовный кодекс как причину возникновения преступлений.
– Я вовсе не собираюсь отрицать, что объективные явления вызывают необходимость в государственных законах, а не наоборот. Нет прокаженных – нет и законов, и чем больше их, тем закон строже – это понятно, хотя… Но пойми, что речь идет об ошибочном общественном мнении – вот о чем… Э-э, да что там толковать! – махнул Туркеев рукой и поднялся. – В тебе ведь течет кровь тысяч поколений и говорит тот неизвестный, который много тысяч лет назад в первый раз ужаснулся при виде проказы и с кровью своей передал этот ужас тебе…
Превосходов подошел к столу.
– Не понимаю, – сказал он, – чего ты беспокоишься? Экая, подумаешь, проблема какая!
Он хотел еще что-то сказать, но Туркеев поднял голову и внезапно рассердился.
– Да, батенька мой, проблема, – прокричал он. – Шесть миллионов прокаженных на земном шаре – это что такое? Шесть миллионов… Это только те, кого мы видим. А фактически сколько?
– Чего там, – усмехаясь, заметил Превосходов, – хватай уж целый миллиард, – солиднее будет.
– Да, – Туркеев наклонил голову, – вы все считаете проказу за музейную редкость… А ты знаешь, ведь в одном только Бельгийском Конго их двести тысяч; и шестьсот тысяч прокаженных в Африке… Нигерия… Ты слышал когда-нибудь про такую страну? Нет? Там их сто тысяч. А про Анголу что-нибудь знаешь? Я тоже не знаю про Анголу. Я знаю только одно, что в этой неизвестной мне Анголе – двадцать пять тысяч прокаженных. В Латинской Америке их шестьдесят тысяч… Доктор Аббот несколько лет назад предпринял путешествие по Европе с целью выявления очагов проказы. Вероятно, он ехал преисполненный уверенностью, что таких очагов не встретит. Но он встретил их в Англии, Югославии, Италии, Швеции. Доктор Аббот, к сожалению, не ездил в Персию, в Турцию, в Японию.
– Пугай, пугай, все равно не испугаюсь, – засмеялся Превосходов.
– Пугать тебя не собираюсь, – тихо отозвался Туркеев, – я хочу только, чтобы ты понял значение того, над чем смеешься и от чего отмахиваешься по незнанию. В тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году Япония насчитывала прокаженных тридцать тысяч. Сейчас сто две… За шестьдесят с лишним лет увеличение в четыре раза!.. А есть уголки на земле, где на каждые десять тысяч здоровых людей приходится пятьдесят прокаженных и более.
– Я бы, знаешь, что сделал? – вдруг подошел к нему Превосходов. – Я бы, – прошептал он значительно, – я бы… Э-э, да ну их к черту! – и, махнув рукой, засмеялся.
– Впрочем, я, кажется, засиделся, – сделал Сергей Павлович вид, будто он не понял намека Превосходова, и посмотрел на часы. – Мне пора… Да и тебе тоже надо отдохнуть, освежить голову, а то она у тебя того… – Он усмехнулся и принялся одеваться. – А о моем предложении ты все-таки подумай… Рад буду поработать с тобой… Приезжай, – сказал он, уже одетый.
Заложив руки в карманы, Превосходов смотрел на Туркеева.
– Одним словом, старик, в проказнице твоей все непонятно, а насчет твоего предложения соображу, может быть, решусь… Только ты не думай, будто я боюсь или что-нибудь в этом роде… Просто не хочется… Лень, ей-богу… Вот когда ты перетащишь своих птенцов в город – тогда с полным удовольствием.
Туркеев пожал руку Превосходову и, ничего не ответив, вышел на улицу. «Врешь, – подумал он, останавливаясь, – ты отказываешься ехать не от лени, а боишься… Хотел высказать сокровенную мысль, да спохватился в самую последнюю минуту… Стыдно стало… Знаем мы вас…»
И, застегнув пальто на все пуговицы, Туркеев пошел домой.
– Доктор! – услышал Сергей Павлович, когда он шел по бульвару. – Обождите минуточку.
Туркеев поднял глаза, остановился. Через улицу к нему шагал Маринов в теплом рыжем полушубке, в высоких сапогах. Он весь сиял.
– Доктор, а я только что взял заказ, да какой заказ! – взмахнул он торжествующе рукой.
– Заказ?
– Да. Вы как-то говорили: хорошо бы, дескать, найти Перепелицыну интересную работу. Вот и нашел. Будет доволен.
– Какая же это работа?
– В дизеле маслобойного завода лопнул вал. Завод стоит. Ну, они там и горюют. Один, говорят, выход из положения – посылать в Ленинград, отливать новый. Не меньше чем месяца на три с половиной такая операция. Можно было бы, говорят, попытаться отремонтировать на месте, да в нашем городе ни одного приличного токаря, никто не берется. Жил тут один хороший слесарь, да в прошлом году уехал на Урал. Ну, говорю, если у вас никто не берется, то возьмутся у нас. Есть, говорю, у нас в лепрозории один такой слесарь-механик, – сделает. Везите, говорю, вал. А в какой срок, говорят, сделаете? Дал слово сделать скорее. Завтра привезут… А в нем пудов пятьдесят.
– А вы уверены, что Перепелицын возьмется?
– Не только уверен, но и знаю. Он мне рассказывал, как приходилось ему раза два делать такой ремонт… Рассказывает, а сам в тоске… Эх, такую бы, говорит работку… Возьмется и даже обрадуется! – уверенно сказал Маринов.
– Вы когда уезжаете? Завтра?
– Сегодня вечером.
– Ну и я с вами… Делать в городе больше нечего. Я зайду к вам.
И, широко шагая, Маринов отправился по своим делам.