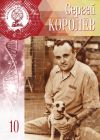Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Так и должно быть, – отозвался Зернов, начиная, видимо, уставать, – это понятно. Ибо они были мертвы, как и всякие другие бактерии, с которыми производятся манипуляции окраски.
– Я так и знал, что вы именно это скажете, простите меня за откровенность, – и Протасов улыбнулся, – да иначе и ответить нельзя!.. Дескать, я недостаточно хорошо знаю технику обращения с микроскопом… Но я все-таки сделал глупой своей головой вывод, Алексей Алексеевич…
– Какой же?
– Палочка Ганзена не бактерия, а что-то другое… И болезнь идет не от нее…
– А от чего же, по-вашему?
– Или от наследственности, или от повреждений организма, например от простуды… Ведь поговорите со всеми нашими больными – половина их скажет, что заболели они от простуды, остальные – не знают, как и от кого. Крепко держится в народе нашем поверье: проказой можно заболеть скорее всего от простуды…
– Верно! – уже совершенно серьезно отозвался Зернов. – Народный опыт, как правило, всегда безошибочен, и его надо уважать. Я с вами согласен. Верно: люди заболевают очень часто от простуды. Но характерно, что заболевают проказой далеко не все простудившиеся, а только какой-то весьма ничтожный процент. Это значит: организм ослаб и дал возможность бактерии, уже сидевшей в нем и поджидавшей лишь удобного случая, начать разрушение…
– Нет, видно, я глуп, – тупо уставился Протасов на Зернова, – видно, не спросясь позволения, поперся в калашный ряд, – и он развел руками, точно обидевшись.
Но Зернов не обратил внимания на эти слова и смотрел на Протасова так, будто спрашивал – скоро ли ты кончишь?
– А вот в кислотоупорности так и не убедили меня, – продолжал Василий Петрович. – Не убедили. И в том, как происходит заражение, – тоже не убедили… Все неизвестно!.. Все темно и мутно.
Он хотел сказать еще что-то, по-видимому волнующее его, но в этот момент раздался звонок на ужин, и собравшиеся стали подниматься со своих мест. Уже на дворе Протасов слегка притронулся к рукаву Зернова.
– А ведь выходит, – посмотрел он на него пытливыми глазами, – будто все человечество прокаженное. А? – и тихо засмеялся. – Как вы думаете? По-вашему, ведь получается, что и все – не лучше меня… Одна лишь разница: мне случай подвернулся, а вы его ждете… Э-э, да что там толковать! – махнул он вдруг рукой. – Ведь наука только вид делает, дескать, много знаем, а ведь на поверку – не знает ничего…
Зернов не отвечал. Он шел задумавшись и, возможно, даже не слышал слов Протасова.
– Ведь вот какая музыка, – продолжал тот, стараясь идти в ногу с Зерновым, – проказой переболело все человечество, десятки тысяч лет она стоит за его спиной, и тысячи ученых ломают над ней голову, и еще больше умных книг написано о ней, и пройдет еще десять тысяч лет, и через десять тысяч лет будут говорить о ней так же, как мы сегодня: чем больше узнаем о ней, тем меньше знаем и понимаем ее… Впрочем, что ж это я? – остановился он и принялся засовывать в карман записную книжечку, которую все время держал в руках. – Вам туда, а мне надо к себе… Спасибо, Алексей Алексеевич, – вздохнул он, – никогда не забуду нашей встречи… До свиданья…
– До свиданья, – отозвался Зернов и крепко пожал слегка влажные пальцы человека, болеющего за судьбы человечества.
Когда Зернов нагнал остальных, Сергей Павлович засмеялся и сказал:
– Вот чудак этот Протасов… А ведь он хороший человек. Но я совсем не ожидал, что он способен на такие суждения! Нет, обратите внимание – каков! А?
– А знаете, Сергей Павлович, – вполголоса ответил Зернов, – вашему Протасову страшно хотелось бы видеть прокаженным если не все человечество, то хотя бы половину его. Ему не то тягостно, что он болеет, а то, что проказой не охвачены многие другие… Тогда б он чувствовал себя не таким безнадежно одиноким. Ведь страдание вдесятеро облегчается, когда человек чувствует, как страдает не он один, а все или многие… Так устроен человек. Да, странно, – задумался он, слегка опустив голову и устало смотря перед собой.
19. Полноправные
Это был последний осмотр.
Как всегда, надев халат, доктор Туркеев запер дверь кабинета на ключ, остановился у стола и, держа в руке стетоскоп, задумался. Вера Максимовна, потупив глаза, принялась медленно раздеваться. Сейчас почему-то ей было стыдно. Этого прежде она не чувствовала.
– Может быть, можно не раздеваться, Сергей Павлович? – несмело подняла она глаза.
– Нет уж, извольте… – сказал он строго и даже сердито.
Она подчинилась и, спустив лямки сорочки, обнажила грудь. Тотчас же по плечам и спине побежали мурашки, Вера Максимовна поежилась. Туркеев взял кусочек бумаги.
– Закройте глаза и не открывайте их, пока не скажу, – приказал он и провел по плечу уголком бумажки.
– Чувствуете?
– Да.
– Где?
– На плече.
– Так, – улыбнулся он, – не смейте смотреть, – и снова провел уголком бумажки по груди.
– Чувствуете?
– Да. На груди.
– Очень хорошо, – и опять провел по спине. – А сейчас где?
– На спине, – улыбнулась она, крепко сжимая веки. Сергей Павлович опустил руку с бумажкой.
– А сейчас где? – строго спросил он, всматриваясь в ее зарумянившееся, смущенное лицо. Она не отвечала. – Где же я трогаю вас? – с той же строгостью спросил он. – Говорите же! – и, отвернувшись в сторону, улыбнулся.
– Я ничего не чувствую сейчас, – чуть-чуть нахмурилась она, и в голосе послышалась тревога.
– Да не волнуйтесь! – уже громко засмеялся он. – Вы и не могли чувствовать.
Так исследовал он чувствительность всех участков кожи, начиная с шеи и кончая ступнями. Остался очень доволен. Чувствительность в превосходном состоянии.
Осмотр длился минут сорок.
– А теперь можете одеваться, – сказал он и отошел к окну.
Когда она оделась, Туркеев вернулся к столу. Лицо его было ясно, добродушно, но взгляд строг.
Последние мазки, взятые из носовой слизи, гортани, полости рта и желез, подтвердили в пятый раз, что бактерии отсутствуют. Язвы давно исчезли: на их месте остались теперь лишь слабые следы, заметные только при тщательном рассматривании. За последний месяц вес Веры Максимовны прибавился на три килограмма. Изжоги и болевые явления не возвращались три месяца. Туркеев протер очки, сказал, не глядя на нее:
– Я так и знал – рано или поздно, а от магарыча вам не отделаться.
Она стояла у стола и крутила медную крышечку от чернильницы.
– Скажите, Сергей Павлович, только правду…
– А когда я говорил вам неправду? – и надел очки.
– Я знаю, долг иногда вынуждает говорить людям неправду.
Он мельком взглянул на нее.
– По отношению к вам, батенька, у меня решительно не было оснований говорить неправду. Да. Ну, чего вы еще надумали?
– Это окончательно, Сергей Павлович?
– Вот тебе и н-на! – развел он руками. – Этого не скажет никто в мире. Но если хотите правду – извольте, – засмеялся он. – Василий Петрович Протасов убежден, что все человечество – прокаженное, а значит, в том числе и я. Но отсюда не следует, что все человечество должно заболеть. Что касается вас, то, если хотите, я могу рекомендовать вам отпуск месяца на три – разумеется, за счет лепрозория… Теперь как раз – фрукты, арбузы, дыни, а в Крыму виноград созреет скоро, и купаются там… Поезжайте: вы честно заслужили трехмесячный отпуск на казенный счет. Покупайтесь в Гурзуфе, в Ялте… Ну, как? – поднялся он, вопросительно посматривая на нее. – А может быть, хотите домой, к маме? – тихо сказал он, и в голосе дрогнула какая-то грустная нотка. – Может быть, хотите совсем отсюда? А? Что ж, грустно это, но согласиться придется. Каждый человек имеет право менять службу и профессию.
Она опустила голову, рассматривая что-то на носке своей туфли. Нижняя губа ее как-то по-детски слегка вздрагивала.
– Нет, Сергей Павлович, об этом я даже не думаю… Разве я могу теперь покинуть… – Она хотела сказать «вас», но вместо этого произнесла «нашу работу» – А за отпуск – спасибо, – радостно вырвалось у нее. – Только не сейчас, поближе к осени… Хорошо?
– Сделайте одолжение, батенька! – засмеялся Туркеев. – Это уж ваше дело: теперь или осенью… А сейчас, – уже начальнически строго произнес он, – покажите мне, пожалуйста, результат Филиппова и Голубкова.
На следующий день был созван консилиум врачей, на котором окончательно должна была решиться судьба пятерых обитателей больного двора.
В состав консилиума входили Туркеев, Лещенко, Сабуров, помогали им старшая сестра Катерина Александровна и Вера Максимовна.
Михаил Миронович Перепелицын вошел торопясь, неуверенно. Повязка на левой руке исчезла уже давно.
Он остановился у порога, поправил синюю спецовку, моргая, уставился на врачей.
Туркеев поднялся, подошел к нему, положил на плечо руку.
– Ну, вот и дождался, батенька, – сказал он бодро, уверенно, оглядывая с головы до ног Перепелицына, – жаль только, что вот пальцы…
– Ничего, – ответил Перепелицын, – хватит и этих. – И, сжав на левой руке три оставшихся пальца, засмеялся.
Осмотр длился недолго, – сомнений не оставалось никаких.
– А теперь марш, – весело крикнул Сергей Павлович, – чтоб твоей ноги тут больше не было. На заводе-то ведь ждут не дождутся… А ведь знаешь, вал твой, говорили мне, работает замечательно. Позови-ка сюда Калашникова, ну, ну, – подтолкнул он в спину Перепелицына. – Ступай, потом поговорим.
Петя вошел, озираясь по сторонам. За три года пребывания в лепрозории он вырос, возмужал. На верхней губе появился пушок. Выздоровление его началось еще года полтора назад, но шло медленно, делая скачки то вверх, то вниз. У него начинался, по-видимому, туберкулез. И только в последние шесть-семь месяцев узлы пошли на убыль, а месяц назад микроскопическое исследование не обнаружило бактерий.
Он стоял перед врачами весело, жизнерадостно, слегка краснея оттого, что его заставляют раздеваться в присутствии женщин.
– Ну, что? – закончив осмотр, сказал Сергей Павлович. – Домой хочешь?
Петя пожал плечами.
– Ладно, – нахмурил брови Туркеев, замечая его нерешительность, – мы подержим тебя еще месяца два, а потом – как тебе будет угодно.
– Хорошо, – согласился Петя. Он оделся и вышел.
Дело в том, что Сергею Павловичу, хотя и уверенному в выздоровлении Пети, все же не понравилось что-то в анализе. Кроме того, вызвала сомнение чувствительность одного пальца на левой ноге. Взвесив все это, он решил задержать Петю еще на два месяца. К тому же и самого Петю не особенно, кажется, тянуло в город.
– Рыбакова, – позвал Сергей Павлович. – Где же это ты, матушка, изволила пропадать? Вчера мы комиссию из-за тебя отложили… Что это такое? Как это понять? – поджал он губы, сердито посматривая на маленькую, вертлявую женщину с подвижным лицом и бегающими глазами.
Женщина виновато улыбнулась, показав несколько золотых зубов.
– Признайся, где ты была? – допытывался Туркеев.
– В город ездила, Сергей Павлович, – забегали ее глаза. – Хлопоты…
– Хлопоты… – передразнил он ее. – Эти хлопоты вот где сидят, в печенке. Раздевайся, – и он постукал стетоскопом по своей коленке.
– Вот видишь, – уселся Сергей Павлович на табуретку. – Сколько ты прожила у нас?
– Четыре с половиной года.
– Ай-яй-яй! – покачал он головой, точно и на самом деле не знал, сколько прожила Рыбакова в лепрозории. – Четыре с половиной года! Вот видишь, а если бы не бегала, то и в два уложилась бы. А все ветреность, легкомыслие…
Она пожала плечами.
– Как решила: уезжать?
– Уезжать, – вырвалось у нее. – Ведь четыре с половиной года!.. Хоть последние годики пожить, а там старость наступит – не поживешь, – и в тоне ее прозвучало что-то истерическое.
– Ну, поезжай, поживи, – улыбнулся Туркеев. – А Влас как?
– Как же Влас, – вздохнула она. – Власу некуда деваться. Буду приезжать, навещать буду… Только позвольте, доктор, завтра же ехать.
– А по мне – хоть сегодня…
Болезнь Сони Рыбаковой имела интересную историю.
В тот год, когда Сергей Павлович принял дела лепрозория, она приехала навестить прокаженного мужа. Повертелась на обоих дворах, а перед отъездом явилась к Туркееву показать, как она говорила, «родимое пятно», которое темнело у нее на бедре. Может быть, Соня и не обратила бы на пятно внимания, если бы оно не побаливало.
Туркеев сразу же поставил диагноз. Головная боль, изредка повышающаяся температура, жалобы на желудочные боли, сонливость… Конечно, если бы речь шла о человеке, который не имел соприкосновения с прокаженными, то эти признаки при постановке диагноза не имели бы никакого значения. Но Рыбакова жила несколько лет с прокаженным мужем.
– У вас, батенька, того… проказа, – сказал он вяло.
Она как будто не поняла, пожала плечами, точно не усматривала в этом ничего худого.
– Какая ж, доктор, это проказа, ежели одно только пятнышко, да и то, поди, родимое, – пыталась она опровергнуть его диагноз.
– Это проказа, – повторил он твердо.
– Вот вам и раз, – обиделась она, – как будто я сама не знаю, что это родимое пятнышко, как будто я такая уж дурная и в своей жизни не видела прокаженных… Я-то ведь хорошо знаю, какие они бывают… Поди, жила пять лет с мужем, насмотрелась…
– Давайте лучше сделаем так, – решительно сказал Туркеев, – оставайтесь, полечим мы вас тут годика два – и я надеюсь…
– Нет уж, доктор! – чрезвычайно заволновалась она. – И даже не надейтесь, не будет этого… зачем мне тут оставаться… Не хочу!
– Но, батенька, для вас же лучше…
– Не хочу! – глухо отозвалась она, начиная, по-видимому, уяснять, какое у нее «родимое пятнышко». – Я хочу, доктор, побыть еще на воле…
И, выскочив из кабинета с такой поспешностью, будто ее преследовали, она кинулась за ворота, не попрощавшись с мужем и даже забыв у него свою сумочку. С тех пор ее не видели года полтора.
Будучи в городе, Сергей Павлович случайно встретил Рыбакову на улице.
Она пыталась улизнуть, но Туркеев уже заметил ее.
– Что вы делаете, батенька? – рассердился он. – Ведь пропадете же! Ведь упускаете благоприятный момент…
– Не пропаду, доктор, – смутилась она. – У меня ведь… не проказа.
– А что? – возмутился Туркеев.
– У меня эритема, – вызывающе посмотрела она на него, – все доктора говорят: не проказа, а эритема…
– Батенька, а я вам говорю, что у вас не эритема, а самая настоящая проказа, – побагровел он от досады, – немедленно поезжайте в лепрозорий, и будем лечиться… Лечиться, будем, матушка!.. Не морочьте голову, а завтра же приходите ко мне, и я вас подвезу…
Она пообещала, но не пришла.
Через несколько месяцев Туркеев снова вспомнил о ней в связи с лечением мужа. Он спросил Власа Рыбакова о жене, но тот замялся, сказал, что ему неизвестно даже, где она проживает. Сергей Павлович понял: Рыбаков говорит неправду.
Чувствуя не только ответственность перед законом, но и моральную обязанность врача, Туркеев рассердился и послал запрос в адресный стол. Но оттуда ответили: Рыбакова в городе не проживает.
Получив эту бумажку, Туркеев сердито вертел ее в руках. Он догадался: виноват не адресный стол – «штучки» исходят из самой Рыбаковой: она сознательно скрывает свой адрес, страшно боясь, как бы ее принудительным образом не отослали в лепрозорий. И понял он, кроме того, уже не как врач и исполнитель закона, а по-человечески, что Рыбакову пугает перспектива стать признанной, ей жутко переступить страшный порог больного двора. Она ведь хочет «пожить на воле», без клейма, хоть еще немного пожить…
Туркеев махнул на нее рукой.
– Разве сумасшедших можно убедить, – сказал он как-то Рыбакову, зная, однако, что все поведение его жены происходит далеко не от сумасшествия.
И ровно через два с половиной года после того, как она пришла показать Сергею Павловичу «родимое пятно», Соня явилась в лепрозорий. Пришла она добровольно, выглядела изнуренной, затравленной. Все тело было осыпано язвами, узлами. Туркеев не сказал ни одного слова упрека. «Эритема», которую находили у нее «все врачи», стоила и ему, и ей почти четырехлетнего напряженного труда…
– Смотри, – сказал Туркеев, прощаясь с Рыбаковой, – чтоб таких родимых пятен больше не появлялось, а если будут – не смущайся, приходи тотчас же.
Это все, чем упрекнул ее Сергей Павлович.
После нее вошел Голубков – сорокапятилетний человек весьма цветущего вида. Он вошел несмело, как бы стесняясь, как бы стыдясь чего-то. И Туркеев, и все остальные принялись осматривать его почему-то особенно тщательно.
Только через час Голубкову позволено было одеться. Ни у кого из комиссии не оставалось никаких сомнений в выздоровлении этого человека, в свое время так поразившего весь лепрозорий загадочностью истории своей болезни.
История эта такова.
Голубков явился в лепрозорий года три назад. В препроводительной бумажке, которую он подал Туркееву, сказано было, что он страдает лепрой.
Во время приема он вошел в амбулаторию с каким-то ожесточением. Сергей Павлович приказал ему раздеться.
– Раздеться? – насмешливо удивился Голубков и махнул рукой. – Оно и без того все ясно. Прикажите только с Гребенщиковым поселиться. А насчет ее даже не беспокойтесь – натуральная. Вся станица знает. Прогнали, – усмехнулся он криво. – Проказа, говорят, у тебя, уходи, да подальше куда-нибудь с глаз. Вот и ушел. А отсюда, поди, уж не прогонят? – прищурился он язвительно. – Теперь-то уж, надо полагать, я на своем месте?
Долго Сергей Павлович вертел Голубкова во все стороны и вдруг побагровел. Накричал почему-то на санитарку, напугал даже самого больного.
Микроскопическое исследование материалов, взятых из язв Голубкова, подтвердило подозрение Сергея Павловича, возникшее при осмотре: никакой проказы у больного не оказалось. Язвы, покрывавшие его тело, происходили от какой-то другой болезни. Имел ли тут место туберкулез кожи или нечто другое, но о проказе речи быть не могло.
Равнодушно и безучастно выслушал Голубков заключение Туркеева.
Неверящими глазами скользнул по его халату и вдруг засмеялся:
– Вы шутите, доктор, – сказал он, глядя на него с подозрением.
– Мне, батенька, не до шуток, – накинулся Сергей Павлович на него, – это другой кто-то шутит с тобой, а у нас и своей работы много. До свиданья.
– Вот тебе раз, – пожал плечами Голубков, как бы обидевшись. – Как же так «до свиданья»? Уж прикажите, доктор насчет Гребенщикова… Мне отдельной комнаты не требуется, а ежели что, то могу и впятером жить – в одной, и даже – в сарае, если прикажете. Только уж не откажите… Жить-то ведь негде мне, доктор.
Но Туркеев больше уже не слушал его и приказал Степану, отправляющемуся в город, подвезти Голубкова.
Уже впоследствии передавали больные, что, перед тем как явиться на осмотр, он успел побывать на больном дворе и рассказать там историю о том, как гнали его отовсюду, и все видели в нем прокаженного – «и нигде-то, – как говорил он, – не выстроили для меня крыши». Передавали также, будто Голубкову понравился больной двор, главное же – мастерские и возможность работать в поле.
Так и ушел, по-видимому, совершенно убежденный, что Туркеев ошибся или не захотел почему-то принять его, хотя у него самая доподлинная и «натуральная» проказа. Ведь все ему говорили: ты прокаженный… Где ж ошибка? Кто ошибается?
О Голубкове скоро забыли. Но ровно через год он явился опять. Пришел прямо в кабинет Туркеева, озадачив Веру Максимовну, зашедшую как раз по делам к Сергею Павловичу. Ей бросилось в глаза странное выражение лица Голубкова. Оно сияло.
– А-а, старый знакомый, – увидел его Туркеев. – Ну, как твоя проказница? Рад, рад видеть тебя таким молодцом…
– Спасибо, – многозначительно сказал Голубков и полез в мешок, который он снял со спины, достал оттуда два чрезвычайно красивых деревянных графинчика палехской работы, деловито поставил на стол, сказал:
– Это вам.
– Постой… Что это такое? – удивился Туркеев.
– Это вам в подарок. От меня. Извольте принять.
– За что же? – широко раскрыл глаза Сергей Павлович, уставясь на него с величайшим удивлением.
– А вот сейчас и расскажу, – весь сияя, сказал он, завязывая мешок.
– Странно, – пробормотал Туркеев, ничего не понимая.
– И даже очень, – отозвался Голубков, вытирая платком вспотевший лоб. – Ведь вот, доктор, как сказали вы, так и вышло, чума его побери! Все в один голос твердили, будто я прокаженный. И сколько по врачам бегал – все одно и одно: прокаженный, и кончено! А вы сказали – так и вышло: нет ее! Вот штука какая! Да и откуда она могла взяться, ежели в жизни своей я краем глаза даже не видел ни одного такого человека? Зря болтали и сам зря поверил, слушая всех. С перепугу сам поверил – вот как бывает! А вы не побоялись и пошли один на всех, за меня.
– Да никуда я не ходил! – махнул рукой Туркеев, рассматривая графинчики.
– Как же не ходили! Пошли, – уставился он на него. – Ведь по-вашему вышло. Горько стало, когда вы прогнали меня, – продолжал он. – Потому что уж больно тот двор ваш понравился мне. Куда ж, думаю, теперь подаваться?..
Ошибается, думаю, доктор, – виновато улыбнулся он Туркееву, – как есть, думаю, ошибается! И задумал я тогда обратиться к одному профессору – приезжал такой профессор в город. Как скажет он, думаю, так тому и быть. Трое суток поджидал. Пришел к нему, добился. Маленький такой, в потертом пиджачке, сивенький, сухонькое лицо – даже на профессора не похож. Смотрел, смотрел он на меня, вот так же, как вы тогда, вертел со всех концов, взял из язв что полагается. А на другой день, точь-в-точь как вы, и объявил: забудь, говорит, даже и думать про проказу. У тебя другая болезнь. Наверное, говорит, от простуды – это бывает. Она не заразная и пройдет. Попробуй хорошенько попариться да пропотеть. Ну, думаю, ладно! В баню так в баню! – вроде как зло разобрало на всех: пойду, дескать, в баню, в самую обчественную. А перед тем еще у трех докторей побывал – дескать, как они врать станут? И они в один голос: нет ее у тебя… Так и говорят. Если профессор сказал, – значит, успокойся. А какой тут покой! Сердце так и горит от досады. Врете, думаю, теперь я должен сам поверить, а ежели вы говорите, то потому, что стыдно профессору перечить… Никому не поверил бы, даже вам, доктор, если бы не баня. Вода в той бане такая или профессор правду сказал – не знаю, только принялись язвы мои присыхать одна за другой. Смотрите, ничего не осталось! Целый год. Теперь-то я знаю: не она была, а простуда, как есть, – заключил он торжественно. – Новая жизнь началась, доктор! Больше не прокаженный я! Ведь теперь-то никто и ниоткуда не прогонит, чума его забери! Ух, доктор, и спасибо же вам! Как из могилы подняли. Нате, – с необыкновенным восторгом принялся он снимать рубашку. – Посмотрите! Целый год собирался к вам в гости, поблагодарить. Пойду, думаю непременно пойду к тому доктору… Ведь он душу спас… И вот, пришел… Вы уж извините, посмотрите…
Доктор Туркеев слушал его, как слушают лепет ребенка. А тот, обнажив тело до пояса, стоял к Сергею Павловичу спиной, то и дело покручивая головой – дескать, «вот теперь я какой».
– А насчет игрушечек, доктор, вышла такая история, – продолжал Голубков. – Видел я у того профессора такие же вот точно – и запали они мне в голову. Один раз иду по базару, смотрю – продает мужик их. Ну, взял. Понравятся, думаю, моему доктору. Он, поди, не хуже профессора.
Но доктор Туркеев уже не слушал Голубкова. Наклонясь к его спине, он шарил по ней очками, что-то ощупывая рукой. Но вот очки остановились на Вере Максимовне. Улыбка, с которой Сергей Павлович все время слушал этого воскресшего человека, внезапно исчезла. Он помрачнел, снял очки, протер их и медленно приблизил глаза к спине Голубкова. Потом опять отвернулся и опять посмотрел на Веру Максимовну: «Прошу убедиться», – говорили его глаза.
Скользнув глазами по чистой и гладкой спине Голубкова, Вера Максимовна заметила на плече его темное, едва заметное пятно. Ошибки быть не могло…
– Послушай, Голубков, – тихо сказал Туркеев, – скажи-ка нам, пожалуйста, – давно ли у тебя вон то, что на правом плече?
– А что на плече? – смущенно провел он рукой по плечу. – На плече ничего, – и голос его дрогнул. – А-а, это вы про пятнышко, – повеселел он сразу. – Это у меня нынешним летом. Бревно нес. Натер. Вот и болит с тех пор. Пройдет, – успокоил он Туркеева.
На следующее утро микроскоп показал со всею беспристрастностью – какое это было пятнышко…
И вот Голубков стоит перед консилиумом врачей. Он смущен слишком тщательным, долгим осмотром. Напуганный предшествующей историей болезни, он ждет уже, что Туркеев снова, в третий раз, огорошит его какой-нибудь неожиданностью.
Но нет, лица врачей добродушно-покойны. Туркеев даже беззаботно улыбается.
– Одевайся, – роняет Сергей Павлович, замечая тревожный взгляд Голубкова. – Куда же ты теперь думаешь отправляться?
– Ежели вы позволите, – неуверенно смотрит на него Голубков, – то я поеду к себе на Дон.
– Поезжай, батенька… Имеешь теперь полное право. Теперь ты вольный казак, братец… Только через три-четыре месяца не забывай все-таки врачей, показывайся…
Выражение лица и тон Туркеева окончательно успокаивают Голубкова. Он пытается сказать что-то, но в ту минуту на пороге появляется Филиппов, и Голубков молча уходит, громко стуча сапогами.
Филиппов окидывает присутствующих любопытными глазами, плутовато задерживает их на Вере Максимовне и, не дожидаясь приглашения, быстро начинает раздеваться.
Все знают, что Филиппову, еще молодому парню, не хочется покидать лепрозорий. Он обжился, привык, пьет, развратничает.
С Филипповым у Веры Максимовны связаны некоторые воспоминания.
Когда она впервые въезжала в ворота лепрозория, понятие о жизни прокаженных у нее было такое, как у школьника, знающего о жизни обитателей Новой Гвинеи по картинкам учебника. Она с горечью жаловалась впоследствии Туркееву на то, что студентам-медикам ничего не говорили о проказе и о прокаженных, и они знали о ней по окончании медицинского института столько, сколько могут дать двадцать строчек из лекции профессора, говорившего о кожных болезнях. Ехала она сюда и подумывала: «А вдруг заражусь?» А вдруг тут не так, как привыкла она представлять прокаженных? Она не знала даже о существовании двух дворов – больного и здорового.
У самых ворот ее встретил человек в белой рубахе, подпоясанный шелковым пояском, в шляпе, цветущий, веселый. Он играл с Султаном. Вера Максимовна попросила его помочь снять с линейки чемодан. Тот засмеялся и по-мальчишески охотно принялся хлопотать с чемоданом, будто обрадовался неожиданному развлечению. «Наверное, санитар какой-нибудь или дворник», – мелькнуло тогда у Веры Максимовны.
– А где тут помещаются больные? – спросила она.
– Там, – и человек махнул неопределенно рукой, лукаво посматривая на нее. Взял чемодан, понес.
– Давно вы тут работаете?
– Давненько… Года два, поди, работаем.
– И не боитесь?
– Чего ж бояться? – посерьезнел он. – Живут, поди, не волки, а люди.
– Ну, а заразиться не боитесь?
– А ежели даже и заразиться, то что ж тут такого? Пустяки.
– Неужто так-таки и не боитесь? – удивилась она. А он вдруг остановился, посмотрел как-то насмешливо.
– Вы видели когда-нибудь, барышня, прокаженных?
– Видела.
– А какие они?
– Полно. У вас-то их, вероятно, много.
– Да, их у нас хватает, – весело согласился он.
– А как вы с ними общаетесь? Ведь все-таки… Говорят, будто правила предписывают разговаривать с ними на расстоянии пяти шагов, не меньше…
– Куды там! – воскликнул он. – Не пяти, а тридцати, и то, поди, заражаются.
– Заражаются? – изумилась она.
– Заражаются, – авторитетно подтвердил он, – не много, не часто, а бывает – по одному, по два в месяц. Вчера был здоровым и на здоровом дворе жил, а нынче, смотришь, уж несет пожитки туда. Значит, и ему – крышка.
Это открытие поразило ее необычайно. Никогда не приходилось слышать о столь частых заболеваниях обслуживающего персонала.
– Но как же врачи и… все остальные, – дрогнул ее голос.
– А так: когда им приходится по делу идти, туда, они надевают костюмы, есть такие костюмы из резины, и на лицо маску – тоже резиновую; и на руки перчатки – тоже резиновые… А иначе нельзя, – степенно продолжал он. – Ежели вы не в таком костюме, избави бог видеть прокаженного… Такой уж климат тут: как встретит здоровый прокаженного, да, упаси бог, без резинового костюма, так, смотришь, и тащит потом пожитки на больной двор. Ужасть какая!
Однако мы пришли, – остановился он. – Вам вот в эту калитку и в ту дверь, во вторую, направо. А я пойду, – и он опустил чемодан.
– Ну, спасибо, – сказала она, чувствуя, как падает ее голос.
– За что спасибо? Завсегда рады, – усмехнулся он, пристально смотря на нее. – А за сим – до свиданья, – и протянул ей руку.
Она подала руку.
– Ежели надо в чем помочь, – продолжал он, смотря на нее пристально и все еще почему-то усмехаясь, – принести, скажем, вещь какую или мебель починить, завсегда готов-с. Пошлите только на больной двор, туда, к прокаженным, и спросите прокаженного Кирилла Филиппова – явлюсь немедля. Всегда готов-с. До свиданья.
И, не сказав больше ни слова, пошел на больной двор.
Только в ту минуту ей стало ясно, что он смеялся над ней, шутил – и про заражение, и про резиновые костюмы, и про «климат». Все эти небылицы он разрисовал перед Верой Максимовной потому, что заметил ее страх. Долгое время потом она не могла смотреть на Филиппова без стыда. И если впоследствии доктор Туркеев обвинял ее в слишком легкомысленном обращении с больными и неосторожности, то решительную роль сыграла в том первая встреча с Филипповым. В душе-то, может быть, она и опасалась немножечко, но с той минуты ей уже ради «принципа» хотелось доказать всем, что она не боится проказы. Ей почему-то ужасно важно было не показать Филиппову, будто она боится. Наоборот, ей хотелось всюду и перед всеми подчеркнуть свое презрение к опасности.
Спустя три дня после приезда они снова встретились. Филиппов вежливо поклонился, улыбнулся:
– Почему же вы не в резиновом костюме да без маски?
За все время болезни Филиппов убежденно думал, что он совершенно здоров, и чувствовал себя нисколько не хуже, чем любой обитатель здорового двора, если бы не вынужденное житье его на больном дворе, в обществе «настоящих» прокаженных – таких или вроде таких, как Макарьевна, Феклушка, Протасов, и «ненастоящих» – как он.
Он брезговал теми, морщился при виде их, остерегался жить с ними под одной крышей, встречаясь, избегал разговаривать с ними, прикасаться к ним.
Он постоянно вертелся на здоровом дворе, как бы имея на это полное законное право.
Раздевшись донага, Филиппов выпятил вперед круглую грудь и, играя мускулами, стоял перед консилиумом, демонстрируя врачам силу и здоровье.
Осмотр длился недолго. Филиппов был здоров.
– Можешь идти, – сухо сказал Туркеев, когда тот оделся.
Но Филиппов медлил и, достав папиросы, фамильярно закурил.
– Здесь курить нельзя, – строго заметила ему Вера Максимовна.