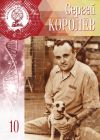Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Проплакав почти двое суток подряд и не взяв ничего в рот, Катя сильно похудела, осунулась. Когда Вера Максимовна зашла к ней, она быстро вытерла лицо, попыталась улыбнуться.
– Стоит ли так убиваться? – жалостно взглянула на нее Вера Максимовна. – Ведь лучше сейчас помучиться самой, чем отдать ребенка на вечное мучение, надо же, Катя, понять…
– А вы думаете, я не понимаю? – тяжело вздохнула Катя. – Я все понимаю, я и тогда, когда вы сюда явились, понимала все больше, чем все вы, только… совладать с собой никак не могу…
Она отошла к окну, остановилась, прислонилась щекой к стеклу.
– Все сдается мне, – прошептала она, – будто Феденька спит, а как проснется – мы с ним разговаривать будем… Увезли моего Феденьку, не увижу я его больше, – голос ее дрогнул.
– Он в хорошие руки попал, не беспокойтесь… Сами потом благодарить будете…
– Может, и буду, – тихо отозвалась она и остановилась перед Верой Максимовной. – А ведь ребеночка-то, – вдруг усмехнулась она, не спуская с Веры Максимовны глаз, – отобрали вы, милая. Это ведь вы выхватили моего Феденьку из кроватки…
Вере Максимовне показалось, будто в глазах Кати сверкнул непримиримо враждебный огонек.
– Вам надо успокоиться, Катя, – нахмурилась она, – а если сердитесь на меня, то поверьте: больше всего мне хочется вам одного – добра.
– Ах, знаю, знаю, – и Катя махнула рукой. – Но все-таки…
Несмотря на тяжелое душевное состояние Кати, Вера Максимовна ушла от нее с облегченным сердцем. Она ожидала встретить более враждебный прием, услышать более горькие слова и, может быть, даже обвинения. Но Вера Максимовна совсем не ожидала того, что неприятно удивило ее, когда она посетила другие семьи, так сказать, нейтральные.
Войдя в барак Рощиных, добродушных милых людей, всегда относившихся к ней с уважением и предупредительностью, девушка заметила в их поведении нечто новое. Взгляд настороженный, чужой, на слова – скупы.
Внешне Рощина старалась казаться добродушной: предложила сесть, пыталась заговорить о том о сем, но чувствовалось, что это было не то, не прежнее.
Поведению Рощиных Вера Максимовна не придала значения. Но, войдя к Лобовым, она не могла не обратить внимания на ту же странность: и они как будто уклоняются от разговора с нею, о чем-то думают, почему-то морщатся. А у Семеновых ей просто не ответили на приветствие.
Все это показалось Вере Максимовне удивительным.
Встретив Протасова, она спросила его, чем объяснить столь резко обозначившуюся перемену в настроениях больного двора.
– Они недовольны, – уронил он, не глядя на нее.
– Кем?
– Вами.
– За что же? – вспыхнула Вера Максимовна, точно ей ни с того ни с сего залепили пощечину или непристойно обругали.
– Не знаю, – пожал плечами Протасов и отвернулся.
– Но все же?
– За ребеночка они недовольны, – нехотя ответил он. – За Федю.
– Не понимаю, – пораженная, она уставилась на Василия Петровича. – Они недовольны, а сама Катя начинает как будто понимать…
– Катя-то понимает, да они без понятия. Непонятливый народ! Они говорят, будто поступили, дескать, по-разбойничьи… Разбойники, говорят, не сделали бы так, как вы… Выхватили, мол, ребеночка прямо из кроватки, Катю, говорят, связали, ну и разное другое… По глупости болтают, – и он поморщился, махнул рукой.
– Это уж совсем неправда, – не удержалась Вера Максимовна, – никто Катю не связывал… А что ребеночка силой взяли, так иначе она не отдала бы… А сегодня она уже будто бы согласна…
– Совершенно верно, – задумался Протасов, – и вы напрасно, Максимовна, волнуетесь. Мало ль какие глупости не полезут в головы? – и он перевел разговор на другую тему.
А перед вечером к Лещенко явился санитар Голубев и доложил: у липовой аллейки собрались прокаженные – человек двадцать и «волнуются промеж себя», требуя немедленного созыва общего собрания.
– Для чего им общее собрание? – удивился Лещенко.
– Не могу знать.
– А что они говорят?
– Да разве их поймешь? Кричат, размахивают руками, поди, говорят, скажи доктору, пусть в клуб разрешит и сам явится…
– Кто ж там кричит?
– Известно кто: Рогачев с шайкой.
– Ну, тогда понятно, – засмеялся Лещенко и, одевшись, пошел к липовой аллейке.
Действительно, там волновались, собственно, не «все», а только три-четыре человека: Гришка Колдунов – парень лет двадцати пяти, круглый, облысевший, Никита Косой – высокий, худой человек без одного глаза, и Тишка Сизов – сорокалетний мужчина с седеющей бородой.
Они о чем-то спорили. Один из них убеждал в чем-то Катю. В ее темной фигуре чувствовалось нечто беспокойное. Поодаль стояла группа женщин, равнодушно наблюдавших за спорщиками. Отделившись от толпы и плечом прислонившись к липе, стоял Рогачев Он молчал, сосредоточенно посматривал то на Катю, то на спорщиков, но не делал никакой попытки вмешиваться. Около него вертелся озабоченный Ефим Земсков, пытавшийся обратить на себя внимание Рогачева, но безуспешно – тот его не замечал.
С ними уже успел побеседовать Маринов. По поводу претензий склочников неоднократно заседал местком и каждый раз отвергал эти претензии.
Неоднократно все члены месткома – и энергичнее всех Маринов – пытались уговорить больных, – не помогало. Вот и сейчас, потратив часа полтора на разговоры с ними, Маринов, не добившись ничего, плюнул, ушел. Он понимал: все идет от Рогачева.
При появлении Лещенко спорщики умолкли. Рогачев поднял голову, подошел близко, решительно. Земсков спрятался позади всех. Катя стояла неподвижно.
– Для чего вам понадобилось общее собрание? – строго спросил Лещенко.
– Нам надо серьезно поговорить, доктор, – сказал Рогачев, остановившись перед ним и принимаясь искать по карманам платок.
– О чем же вы хотите поговорить «серьезно»?
– Весь больной двор… – начал Рогачев.
– Я не вижу «всего» больного двора, – оборвал его Лещенко.
– Это все равно. Если захочу – все до одного придут, но хватит и этих… Одним словом, больной двор желает, – нарочито громко продолжал он, чтобы слышали все, – желает смещения Земсковой с должности в пекарне…
– Вот это верно! – послышался неуверенный голос Земскова.
– Даже муж, и тот требует, – повысил голос Рогачев, – а если вы ее не переведете, мы отказываемся от хлеба, – делайте как хотите, а есть его не будем. Правильно я говорю? – повернулся он к толпе.
– Правильно! – раздалось два-три голоса.
– Мы требуем это потому, что она нисколько не чище всех нас, – пояснил Рогачев, снова повернувшись к Лещенко.
– Что ты глупости болтаешь! – вдруг обозлился Лещенко. – Как ты, Рогачев, осмеливаешься говорить об этом!
– И осмеливаюсь – заносчиво прокричал он. – А вот как у вас осмеливаются, – и его глаза блеснули, – поступать по-разбойничьи с беззащитными женщинами! Пришли, связали человека, отняли у материнской груди ребенка, украли из кроватки голенького и так вынесли на двор, в стужу… Да ведь за это под суд отдавать надо!
– Он правду говорит, – выступил Никита Косой, – что правда, то правда. Вон посмотрите, – махнул он в сторону Кати рукой, – посмотрите на нее – сама не в себе!
– Хватит, братцы! Айда в клуб! Там и поговорим как надо, – заговорил Гришка Колдунов.
– В клуб! – послышался еще один голос.
– Если вы собираетесь обсуждать такие вопросы, то никакого собрания я не допущу, – начиная уже нервничать и задыхаться от волнения, воскликнул Лещенко. – Я вам советую сию же минуту разойтись по домам и успокоиться.
– А мы не желаем, – едва слышно заявил Земсков, все еще стоявший позади всех.
– И что это за правила такие! – крикнул Тимошка Сизов. – Ежели мы прокаженные, то нам, значит, нельзя и детей родить, значит, мы без закона?
– Я еще раз требую разойтись, – уже не слушая никого, сказал Лещенко.
– А мы требуем общего собрания, – вызывающе посмотрел на него Рогачев.
Лещенко ничего не ответил, повернулся и пошел к здоровому двору.
Тотчас же толпа утихла, но потом снова заволновалась.
– Ага, боятся… Виноваты – и боятся! – крикнул Рогачев угрожающе.
– Ясно, боятся, – поддержал его чей-то голос. – Ежели были бы правы – не убегали бы. Они думают, будто на них и управы нет, будто с нами можно как со зверьем! Шалишь! И для нас законы есть, – неслось ему вслед.
И вот Лещенко неожиданно увидел, как шагах в пяти впереди него упал булыжник, брошенный кем-то из толпы, кем – так и не удалось установить ни тогда, ни позднее.
Лещенко остановился, обернулся. Толпа по-прежнему кричала, волновалась.
Рогачев размахивал руками, доказывая что-то ожесточенно и крикливо. Лещенко махнул рукой и пошел дальше.
15. Новости из Москвы
Несколько дней подряд на больном дворе, едва только начиналось утро, Рогачев собирал компанию в составе Косого, Сизова, Колдунова и принимался митинговать. Около них вертелся с сочувственным лицом и Земсков. Он тоже беспокоился, тоже чего-то хотел добиться, спеша изо всех сил за Рогачевым.
Они собирались под навесом барака, где жила Катя, и весь день высказывали свои неодобрения административному персоналу, спорили, волновались, пытались даже приходить на здоровый двор, а один раз собрали нечто вроде общего собрания в клубе. Женщины почти не участвовали в склоке. Мужчины же в огромном большинстве смотрели на рогачевское беспокойство как на потеху скуки ради, остальные оставались совершенно равнодушными ко всему – не до того было.
Выдержав характер и отказавшись уволить Ольгу, которая по-прежнему пекла хлеб, административный персонал пытался все же успокоить больных.
Чего они добивались – толком нельзя было понять, да и сами буяны едва ли имели представление о целях склоки. Лишь один Рогачев знал, чего хотел.
Сквозь его возвышенное высказывание о «несправедливости» (он все время напирал на «расправу» с Феденькой) сквозило одно: во что бы то ни стало «согнать» со здорового двора и вернуть на больной Земскову. В этом ему усердно помогал Ефим, правда, недостаточно внятно, но довольно хлопотливо и искренне.
Происшествие на больном дворе нервировало здоровое население. Лещенко не знал, что делать, и с нетерпением ожидал приезда Сергея Павловича.
Каждый новый день Рогачев проявлял себя по-новому. То он провозглашал, что больные нужны врачам лишь «для опытов», а не для подлинного лечения, поэтому, дескать, и выстроены все лепрозории. То он разносил слухи, будто врачи сознательно не хотят излечивать прокаженных, дабы не лишиться хорошего заработка. «Закрой лепрозорий, они от голода подохнут!» Говорил он еще, что проказа вовсе не заразна и врачи отлично это знают, а придумали заразность опять-таки ради весьма понятных побуждений – «набить себе цену». Некоторые его поддерживали, но большинство больных держало себя спокойно и посещало амбулаторию по-прежнему. Четыре последних дня Вера Максимовна оставалась безвыходно на здоровом дворе. К тому же у нее были заботы – кролики, собственная болезнь.
Оставаясь наедине с собой, она подходила к зеркалу, долго рассматривала лицо – нет ли каких подозрительных признаков? Но лицо оставалось чистым.
Вскрывшиеся было три пятна – на плече, груди и бедре – стали засыхать, кожа приобрела нормальный цвет.
Накануне отъезда Сергей Павлович рекомендовал есть растительную пищу, побольше гулять, заниматься физическими упражнениями.
Все его предписания она выполняла в точности. За две недели отсутствия Сергея Павловича она констатировала значительное улучшение: температура исчезла, головные боли прекратились, появился аппетит.
Поздними вечерами она приходила в гости к кроликам, кормила, беседовала, искала лепромы на их телах, увы – лепром не было. Смотря на зверьков, вспоминала Сергея Павловича, и отчего-то становилось ей грустно, точно не хватало чего-то.
Стоял конец марта. Над степью по ночам висела луна, и степь казалась темным, недвижимым морем. В небе все чаще, почему-то всегда по ночам, звенели журавлиные голоса, плывшие на север. Кричали дикие гуси – победными, властными криками, и казалось, будто это не гуси кричат, а какие-то гордые победители, завоевавшие степь.
Как-то раз, покормив кроликов, Вера Максимовна вышла во двор. Пахло рыхлой землей, весной.
Огород, прилегавший к окну лаборатории, был взрыт, третьего дня Иван Илларионович посадил уже морковь, огурцы, горох, редиску, лук.
Она вышла в поле, пошла по распаханной тракторами земле. Последние события немного нарушили план вспашки – вместо предполагавшихся двадцати трех гектаров сегодня вспахано восемнадцать.
Вера Максимовна вернулась во двор и, проходя мимо клуба, вдруг услышала тихие, но раздраженные голоса. Стала за угол, прислушалась.
– Не твое это, хамлет, дело! – услышала она певучий голос Оли.
– И оставь ты ее в покое, натурально говорю, – послышался мужской голос, и Вера Максимовна опознала тракториста со здорового двора – Шубрикова.
– А я вот возьму, да и закричу на весь двор, – послышался новый голос, который несомненно принадлежал Рогачеву. – Вот и будет срам обоим.
– Ну и кричи! – огрызнулась Оля. – Плевать.
Вера Максимовна выглянула из-за угла. Впереди шла вразвалку Оля, рядом – Шубриков, в стороне – Рогачев, а позади, покашливая, семенил Земсков.
«Переменила на нового, – усмехнулась Вера Максимовна. – А эти по-прежнему следят… Хоть бы скорее ехал Сергей Павлович…»
Туркеев приехал под вечер, когда его не ждали. Довольный, еще ничего не знающий о происшествиях, обнял Султана. С трудом освободился от него, обвел глазами двор.
– Вот я и дома!
Редко видели его в таком превосходном настроении.
Когда Вере Максимовне сказали о приезде Туркеева, она помчалась с больного двора к директорскому особняку. Вбежав в кабинет, остановилась на пороге, почувствовала, как краска заливает лицо, как сильно бьется сердце.
Только в эту минуту поняла, до чего соскучилась она по милому, привычному лицу, – до того дорог стал ей этот человек.
– Сергей Павлович!
– Ах вы, стрекоза-дереза! – расплылся он в улыбке. – Ну, здравствуйте, батенька! Садитесь, новостей целый мешок. Ну, садитесь, садитесь…
Она присела.
– Как мои лодыри?
– Ничего, молодцы.
– Не заболели? – засмеялся он.
– Что-то незаметно, – махнула Вера Максимовна рукой.
– Какие мерзавцы! Ну, ладно. А ведь знаете, в Москве-то что! – воскликнул он восторженно. – Теперь только работать и работать! – и он взмахнул рукой.
– Значит, довольны поездкой.
– Еще бы!
И, нажав коленом на чемодан, Туркеев принялся отстегивать ремни.
– А ведь знаете! – весело воскликнул он. – А ведь жена-то со мной разошлась. Замуж вышла! Честное слово! Что? Не верите? Да, батенька, разошлась! – с каким-то горьким восторгом воскликнул он.
– Как это? – раскрыла глаза Вера Максимовна.
– А так. Это, батенька, делается просто, быстро… Р-раз – и готово! Помогите-ка разобрать чемодан. Осторожнее, там вам духи, не разлейте… Ух! – опустился он в изнеможении на диван. – А съездил я, батенька, все-таки хорошо, честное слово. Но приехал – и рад: наконец-то дома. И никуда больше не хочется. Да, совсем забыл, как ваши дела?
– По-моему, неплохо, – отозвалась Вера Максимовна, бережно выкладывая из чемодана пакеты.
– Я так и знал, – улыбнулся он ей и задумался.
– Откуда вы это знали?
– Знал, батенька. Чутье меня очень редко обманывает, – он наблюдал за ее движениями. – Вот еще месяца три последим за вашей историей, а там, может быть, и кончим совсем.
Вера Максимовна ничего не ответила, вынула маленький сверток, догадалась, что это и есть духи, о которых говорил Сергей Павлович.
Подбиваемая нетерпением, развернула сверток; в нем лежала изящная коробочка.
Открыла и чуть не вскрикнула от радости, необычайно взволнованная вниманием Туркеева.
– Сколько, Сергей Павлович, прикажете уплатить?
– За что?
– За духи.
Он махнул рукой.
– Оставьте. Это вам от меня. Может быть, когда-нибудь вспомните старика, – и какая-то грустная нотка прорвалась сквозь его добродушно-веселый тон.
– Сергей Павлович, вам не жалко?
– Чего? – удивился он, посматривая на духи.
– Ну, как вам сказать… Вот того, что произошло в вашей семье?
Он уставился на нее, точно не понимая, затем поднялся, заложил руки в карманы, принялся шагать по кабинету. Остановился. Опустил голову, подумал.
– Позавчера я услышал в вагоне одну смешную сказочку, – вдруг засмеялся он. – Даже записал. Подождите минуточку, – полез в карман, достал книжечку, отыскал запись, принялся читать: – Жили-были три японца: Як, Як-Циндрак, Як-Циндрак-Циндрони…
– Жили были три японки: Ципка, Ципка-Дрипка, Ципка-Дрипка-Лямпомпони, – продолжила сказочку Вера Максимовна и тоже засмеялась.
– Ишь ты, тоже знаете. А я думал – открыл Америку… – И стал серьезным:
– Нет, – сказал он, отвечая на вопрос, – только вот с дочуркой… – и опустил голову.
Вера Максимовна почему-то обратила в эту минуту внимание на плечи Сергея Павловича. Они были непривычно опущены, точно лежала на них какая-то тяжесть.
– Вот тебе и Ципка-Дрипка, – сказал он и, взглянув на нее, смутился, видимо, заметил грустное выражение ее глаз.
Потом опустился на диван, но не утерпел и тотчас же поднялся, напуская на себя веселое добродушие. Пощипывая бородку, принялся шагать.
– Нет, я нисколько не жалею, что прокатился в Москву, – проговорил он так, будто его упрекали за эту поездку. – Я считаю, что это самый выдающийся съезд, самый интересный. Главное, все горели единодушием, ибо заглянули правде в глаза, ибо вещи назвали их именами и установили истинную цену такой глупости, как страх перед собственной тенью. А до сего времени только и делали, что сомневались: а можно ли, а целесообразно ли, а стоит ли, а не опасно ли, а где гарантии, а не получится ли чего? То да се… И ни у кого не было храбрости до сего времени сказать ясно и просто: да или нет… А тут сказали единодушно: да.
Он сделал несколько шагов, протер очки.
– Теперь нам уже не придется краснеть ни перед какими Европами – мы имеем все основания сказать, что советская лепрология идет впереди них, ибо она первая заглянула в самую суть… Пусть все увидят, что мы не трусы и не рабы догматов. Да! Если бы вы только видели, с каким воодушевлением принято было предложение о свободном проживании прокаженных, формы болезни которых не представляют опасности для окружающих. Ведь глупо же, на самом деле! – продолжал он, горячась. – Не каждый из тех, кто имеет внешние признаки – скажем, пятна, или язвы, или опухоль, – способен нести заразу. И тем не менее всех стригли под одну гребенку, всех в одну кучу… Сложилось мнение: дескать, каждый прокаженный опасен, ни одного нельзя оставлять там, где все!
А съезд сказал: можно. Если бактериологическое исследование не обнаружит бактерий – можно! Из этого вытекает, батенька, то, что стена между прокаженными и обществом зашаталась, и зашаталась основательно. К черту тысячелетнее варварство! И завтра если не всех, то половину мы будем лечить в городских амбулаториях. Это значит: таким местам, как наши дворы, приходит конец! Хорошо сказано, твердо сказано, как должны говорить большевики, ясно, откровенно, без всяких вуалей, – продолжал говорить он, все еще расхаживая. Потом сел, задумался.
– Вы, вероятно, устали с дороги, Сергей Павлович?
– Я-то устал? – и махнул рукой. – Наоборот, славно прогулялся! Но вы не хотите меня дослушать.
– Очень хочу.
– Так вот, о чем я? Ага, – вспомнил он, – представьте, какая прелесть!
Съезд постановил перевести строительство гиганта на Кубань. Да, на Кубань, черт возьми, в семи верстах от железной дороги, близ станции Холмской – есть такая станция на Кубани. Единогласно решили, Наркомздрав согласился. Теперь понимаете, какой мы сделали шаг? А вы спрашиваете – устал ли я?
Вера Максимовна знала о том, что еще несколько лет назад Наркомздрав принял решение построить лепрозорий-гигант. В связи с выбором места среди лепрологов шли горячие споры о том, где строить. Сначала было выбрано место в обширных заволжских степях, вдали от железных дорог, культурных центров, от населенных мест. Это обстоятельство вызвало среди лепрологов, в том числе и у Туркеева, удивление, беспокойство. Никто из них не мог примириться с мыслью о какой-то вновь воздвигаемой «стене».
Одни держались того мнения, что лепрозории надо ближе двигать к культурным центрам, другие настаивали даже на необходимости организации санаториев для прокаженных в курортных центрах – в той же Ялте, Кисловодске, в том же Детском Селе или в Сочи – и приводили в пользу этих соображений весьма убедительные доводы. Третьи шли еще дальше и вообще отрицали надобность существования лепрозориев; они находили более полезным лечить прокаженных в городах. Но все единодушно сходились на том, что изгонять больных в глухую степь, хотя бы и при условии окружения их всяческими удобствами, дело безусловно ошибочное. В результате органы, ведающие строительством гиганта, изменили первоначальный план и решили строить лепрозорий в… Казахстане – в местности, еще более пустынной и отдаленной от культурных центров, чем заволжские степи. Лепрологи растерялись окончательно. Но затем решили оказать сопротивление. На съезде, с которого вернулся Туркеев, было вынесено постановление о постройке гиганта непременно вблизи культурных центров, в здоровой, живописной местности, богатой солнцем, водой, связанной с культурными центрами путями сообщения. Для этой цели выбрали южную Кубань, станицу Холмскую, находящуюся на участке между Краснодаром и Новороссийском.
– Лучшего невозможно представить, – говорил Сергей Павлович, продолжая расхаживать из угла в угол, довольный тем, что строительство начнется не в Казахстане, а на Кубани. – Хорошо было сказано! Социализму не к лицу прятаться от опасности, он должен смотреть ей прямо в глаза. Это – настоящее, твердое слово!.. Это будет на весь мир! Вот как будет! – говорил он восторженно, точно совсем забыв о присутствии Веры Максимовны.
Она следила за ним, и ей становилось весело.
– Значит, Сергей Павлович, существующие лепрозории будут все до одного ликвидированы?
– Нет, это не значит. Некоторые, вероятно, закроются, некоторые – останутся, превратятся в чисто научные учреждения.
И он принялся подробно объяснять, как будут выглядеть, по его мнению, старые лепрозории после окончания строительства гиганта.
После вечернего чая в кабинете состоялось совещание, на котором Сергей Павлович поделился своими впечатлениями от съезда.
Доклад был оживленный и вызвал многочисленные вопросы. Затем Сергей Павлович принял доклад Лещенко по врачебной и Пыхачева – по хозяйственной части.
По докладу Пыхачева он внес несколько деловых замечаний и потребовал немедленно представить отчет об окороках. Пыхачев покраснел, замялся, пробормотал что-то об «излишках» и «порченности», но Сергей Павлович резко перебил его и тут же сделал завхозу строгий выговор. Выговор получил и Лещенко за то, что не принял мер в отношении Рогачева, как только тот принялся будоражить больных, подрывать дисциплину.
По поводу увоза Семеном Андреевичем детей Сергей Павлович не сказал ничего, только покусал губы, улыбнулся – очевидно, остался доволен таким вмешательством «шефа» во внутренние дела лепрозория.
Утром он потребовал в амбулаторию Рогачева и сказал ему спокойно, но твердо:
– Куда хочешь, батенька, уходи – на все четыре стороны, но у себя такого безобразия я не потерплю, нет! Вон, вон, и даже не проси… Чтоб и духу твоего тут не было… Ступай, братец, ступай – разговор кончен.
Вызвав санитара Чайкина, он тут же приказал ему произвести выселение Рогачева с тем, чтобы еще сегодня освободить лепрозорий от этого «безобразного человека».
Но Чайкину не пришлось принимать мер. К вечеру Рогачев сам собрал пожитки и «смылся», как рассказывала потом Ольга. Ему не дали никакой бумажки. Больной двор остался совершенно равнодушным к удалению этого беспокойного человека. Даже Косой и Колдунов примолкли и куда-то исчезли, отвернувшись от Рогачева в самую последнюю минуту. Только один Земсков остался верен ему до конца. Он проводил его верст за пять от лепрозория и вернулся удрученный.
Веру Максимовну ужасно удивило распоряжение Туркеева относительно Рогачева: как это так, взять да и выгнать прокаженного на все четыре стороны? Ведь Сергей Павлович поступил вопреки здравому смыслу. Ведь это, наконец, нарушение правил. Это означает – живи где хочешь, то есть иди к здоровым. Странно.
Как-то раз, набравшись храбрости, она спросила об этом Туркеева.
– Ну, конечно! – воскликнул он добродушно. – Выдумаете, что старик с ума спятил – прокаженного выгнал, да не как-нибудь, а «на все четыре стороны».
Вместо того, дескать, чтобы на страже стоять, он выбрасывает проказу к здоровым. К чему, дескать, тогда изоляция? Так?
Она заметно смутилась:
– Так.
Сергей Павлович вдруг задумался, промолчал:
– Да, – тихо уронил он, – такая изоляция ни к чему. Потому-то, батенька, я и прогнал его, ибо убежден в нелепости такой меры…
Девушка с изумлением взглянула на него, молчала, стараясь понять мысль старого врача. Туркеев, задумавшись, глядел на нее:
– И потом… Не стану же я для одного такого прохвоста строить тюрьму? Благодарю покорно…
– Но ведь и так поступать нельзя?
– Почему нельзя? – уставился он на нее.
Она растерянно пожала плечами:
– Выходит, что и остальных нет смысла держать в лепрозориях?
– Выходит, – твердо сказал он. – И не я один выгоняю, во всех лепрозориях проштрафившихся исключают на все четыре стороны, хотя и вопреки правилам…
– Но почему же? – удивилась Вера Максимовна.
– Потому, что сама жизнь опровергает, батенька, существующие правила, вот почему.
Однако как ни старалась Вера Максимовна разобраться в мысли директора, она не могла ее понять. А он, остановившись у окна и протирая очки, продолжал:
– С первого взгляда все это покажется, конечно, нелепостью, чушью. Вот выгнал я Рогачева, а он явится в город, наймет где-нибудь комнату, пойдет работать или побираться, станет жить среди здоровых – слава, дескать, богу, отныне имею на это полное право, не сам, а врачи позволили, узаконили… Куда ж идти теперь, как не к здоровым? Не погибать же? Вот вам и очаг проказы! Не так ли?
– Иначе я как-то и не представляю себе, – все еще недоумевая, отозвалась она.
– Ну, конечно же! – опять воскликнул он весело, смотря на нее поверх очков. – А я представляю не так, совсем, совсем иначе, батенька! Во-первых, надо иметь в виду, – начал он убежденно, – что проказа трудно заразная болезнь. Чтобы получить ее, надо прожить с больным в самых тесных отношениях не менее двух лет, да и то далеко не всякий заболеет, может быть, какой-нибудь один на сотню таких тесно живущих с прокаженными…
– Да, это я знаю, – согласилась она.
– Затем, – продолжал он, принявшись ходить по кабинету, – такие, как Рогачев, то есть те, которые побывали в лепрозориях и знают, как в них живется, никогда не согласятся жить долго среди здоровых, их непременно потянет обратно, у них терпения не хватит прожить среди здоровых год или два. Да что там – год – он и двух месяцев не протянет. Ему станет невыносимо прежде всего отношение здоровых, их осторожность с ним. Кроме того, его погонит нуждишка – ведь работать-то он неспособен, а жить надо, а где деньги! Да и лечиться захочется в конце концов, – гнить-то заживо неприятно, а тут все-таки есть шансы поправиться, выздороветь. Не дурак же он, в самом деле, и не сумасшедший, чтобы променять жизнь в лепрозории, где его одевают, кормят, лечат, где заботятся о нем, на какое-то призрачное существование среди здоровых! Кто станет относиться к нему так, как здесь? А тут он – полноправный гражданин, временно выбывший из строя, тут его никто не боится, а там при одном виде – от него как от тигра. Ведь все это он не может не учитывать. Да нет же! Прожив в лепрозории хоть один месяц, он ни за что не согласится жить среди здоровых, его вечно будет угнетать не только отношение людей, но и перспектива, что его схватят, куда-то поволокут. Такая уж психология, впрочем вполне естественная. Не спорю, – продолжал Сергей Павлович, усаживаясь в кресло, – может быть, Рогачев денек-другой попьянствует в городе, на рынок сходит прихватить чего-нибудь в дорогу, а на третий день тихонько явится на станцию – именно тихонько, чтобы никто не приметил и не отправил сюда, где он проштрафился. Сядет в поезд, забьется в темный уголок и всю дорогу будет сидеть смирно, чтобы как можно скорее добраться до следующего лепрозория, где он еще не проштрафился. Знаю я этих прохвостов! – воскликнул он и улыбнулся, причем слово «прохвостов» прозвучало у него так, точно доктор Туркеев выражал этим словом всяческое сочувствие «прохвостам». – А насчет опасности – чепуха. В одну-две недели он никого не заразит, нет, даже если будет общаться самым тесным образом. Чепуха! Уверен, – закончил он, – что не далее как через три недели Рогачев непременно объявится в каком-нибудь другом лепрозории, – это как дважды два. Хоть и ругает он врачей, хоть и не верит медицине и строит из себя этакую оппозицию, тем не менее в глубине души ему страсть как хочется получить от медицины помощь. Таких, как он, сильнее всех тянет в лепрозории, ибо в глубине души все верят в могущество науки, а если ругают ее, то потому лишь, что не могут примириться с мыслью: почему наука не может оживлять людей или в одну неделю вылечивать прокаженных? Наука должна знать все. А сам-то, поди, и не верит тому, о чем говорит, а если говорит, то от одного только озорства. А вот прижмет его болезнь к стенке, тут-то и очухается – и лечиться будет, и примется каждый день надоедать врачам… Знаем мы этих прохвостов!
Действительно, спустя два месяца от Рогачева было получено на больном дворе письмо, в котором он всячески ругал Ольгу, называл ее «грязной», «прокаженной», но ни одним словом не обмолвился ни о Туркееве, ни о ком другом из обитателей лепрозория. Писал он то ли из Узбекистанского, то ли из Туркменистанского лепрозория, где, по его словам, «живется не то что в вашем логове» и где «по-настоящему знают, как лечить».
Выходило, что Рогачев начал лечиться…