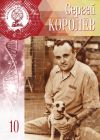Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Неизвестно. Тайна. А думаешь о них радостно. Тут же приложил руку дьявол: вот тебе, на эту тайну, думай над ней всю жизнь и до самой смерти трепещи, до самого гроба не находи себе места, и там, может быть, даже не успокоишься… Вот я умру, скажем, зароют меня, сгнию, землей стану, и на этой земле посадят, скажем, огурцы, капусту. И вырастет капуста… Капуста как капуста, но кто сказать может, что она чистая, а может быть, она прокаженная? Может, я-то пропал, сгнил, в прах обернулся, а палочка Ганзена не сгнила, а живет, и ее вместе с соками капуста всосала… А потом человек удивляется, как же это, дескать? Где ж это я заразился? Кто заразил меня? Вот что получиться может. – И он умолк, опустив голову.
– Глупости, – засмеялась Вера Максимовна.
– А вы докажите, что тут глупость, – прищурился он. – И не докажете. И ни одна наука не докажет, что это именно – не так.
– Почему же не доказать? Очень просто: разрыть самую старую могилу на нашем кладбище и посадить там капусту или огурцы, а потом их – под микроскоп. Вот и все доказательство.
– Хе-хе, – иронически засмеялся Протасов. – Это верно-с. Это верно-с. Это очень просто и легко-с. И заранее даже сказать вам могу, что палочек вы в таком огурце не найдете. Нет-с. Огурец чист будет-с. Но тут-то и начнется самое главное-с. Именно главное, Максимовна. Палочки нет, а вместо нее там сидит, может быть, другое что-нибудь – такое, чего наука еще не видит-с, не умеет находить – какой-нибудь, скажем, микроб-с. В миллион раз поменьше палочки Ганзена, который не дается никакой окраске, для которого, может быть, и краски на земле не придумали и стекла увеличительного не нашли-с…
– Постойте, а при чем тут новый микроб? – уже серьезно спросила Вера Максимовна.
– А при том-с, дорогая Максимовна, что палочка пролежала в земле, может быть, тридцать лет, и за эти тридцать лет претерпела всякую там процессию, боролась за жизнь, приспособлялась и получила другой какой-нибудь вид, для которого на земле еще нет ни стекла увеличительного, ни краски. А войдя в тело человеческое, вид этот «вспомнит», чем был он тридцать лет назад, и станет опять превращаться в палочку…
– Что-то уж слишком сложно, – задумалась Вера Максимовна и взялась за пальто.
– Тут-то и тайна, – тихо уронил Протасов. – Тут и вся ее механика. От дьявола эта тайна. Не иначе как прилетела к нам из самого ада.
– Зачем же вы ведете тогда наблюдения, если этот вид неуловим?
– А я не над ним хлопочу.
– Над чем же?
– Над палочкой.
– Что же вы все-таки обнаружили?
– Ничего. Именно это и подтверждает мою мысль.
– Какую?
– О мысли этой рано еще говорить, Максимовна, – ответил он, надевая пальто. – Я еще не закончил. А закончу – скажу… Непременно. Только вы не смейтесь тогда и Сергея Павловича попросите – пусть не смеется. Может, и впрямь это глупо, а отрешиться не могу…
– Ну, что ж, работайте. – Вера Максимовна открыла дверь и пропустила вперед странного искателя причин таинственного зла.
4. Одна из многих странностей
В этот день Сергей Павлович принял восемнадцать, Лещенко – четырнадцать пациентов.
Последней оказалась Клашенька Кудрявцева – одиннадцатилетняя девочка, болевшая уже шесть лет.
Ее умные, проницательные глаза радостно остановились на Вере Максимовне, которая зашла в амбулаторию на часок – помочь врачам. Девочке, очевидно, стало приятно, что пришла «докторша», которую так чтил весь больной двор, а дети – в особенности.
– Видишь, молодец какая, – похлопала Клашеньку Вера Максимовна. – Я так и знала: ты аккуратная девочка, – и погладила ее по волосам.
Клашенька покраснела, смущенно взглянула на Туркеева, прилаживавшего шприц.
– Да, она у нас терпеливее многих стариков, – похвалил Сергей Павлович, – самая приятная пациентка, – не капризничает, не плачет, даже не морщится. А за это, как только она подрастет, мы отправим ее к мамочке. Ты приедешь к маме большая, красивая – даже не узнать. Хочешь быть большой и красивой?
Девочка улыбнулась, опустила голову, наблюдая, как игла входит в кожу.
– А может быть, даже и раньше отправим – посмотрим, как ты поведешь себя, – продолжал Туркеев, работая иглой.
Клашенька проживала в лепрозории уже года полтора вместе с больным отцом и больной старшей сестрой – семнадцатилетней Дуняшей. У нее была пятнисто-анестетическая форма проказы, бросившаяся уже на лицо.
– Больно? – спросил Лещенко.
Девочка промолчала, еще ниже наклонила густоволосую черную головку.
Вера Максимовна почувствовала острую жалость к этому бедному ребенку.
Доктор Туркеев говорил про Клашеньку, что надежд на выздоровление чрезвычайно мало, почти никаких. Как правило, болезнь у детей протекает тяжело и поддается лечению значительно хуже, чем у взрослых. Задача лечения в данном случае состояла, по мнению Туркеева, в том, чтобы приостановить дальнейшее развитие болезни и, по возможности, локализовать внешние признаки. Он этого и добился: болезнь Клашеньки перестала прогрессировать, пятна, появившиеся на лице, побледнели, оставшись в виде темно-оранжевых ореолов. «Это уже большой шаг вперед», – говорил Сергей Павлович, но продолжал сомневаться в возможности излечения. Поэтому-то он и обещал ей «отправить к мамочке» не скоро, а «как только подрастет».
Судьбу девочки хорошо знал весь лепрозорий. Началось с самого Кудрявцева – Клашенькиного отца.
Лет пять назад он прибыл в лепрозорий с пораженными кистями рук.
Положение его считалось тяжелым. О том, что у него проказа, он узнал лишь на десятом году после появления первых признаков. До постановки правильного диагноза никто не подозревал у него проказы, – ни он, ни окружающие.
Это был чрезвычайно тихий, скромный человек, прибывший сюда откуда-то с побережья Каспийского моря. Болезнь угнетала его, но он крепился, молчал.
Его принялись лечить. На процедуры он смотрел как на лишнее, бесполезное дело, но принимал аккуратно, стойко, скорее – в порядке выполнения повинности, чем из понуждения вылечиться.
В первый же год болезнь пошла на убыль: язвы начали зарубцовываться, узлы рассасываться. Он повеселел и усиленно принялся за лечение. А года через три Туркеев неожиданно спросил его – не хочет ли он поехать месяца на два в отпуск?
Этот вопрос показался Кудрявцеву невероятным. Он смотрел на Сергея Павловича так, будто тот насмехался. Разве прокаженные имеют право ездить в отпуск. Разве их можно отпускать из лепрозория? Разве им дозволяется общаться со здоровыми людьми? А если можно, то, значит, он снова – человек! Но нет! Не может быть! Ведь все-таки, все-таки он прокаженный…
– В какой отпуск, Сергей Павлович?
– Ну, скажем, домой или куда там…
– Как же домой? Непонятно, доктор, – окончательно смутился Кудрявцев, все еще опасаясь, что над ним насмехаются.
– Очень просто: сядешь в поезд и месяца на два прокатишься к себе домой. Там ведь у тебя жена, дети…
– Да, жена, дети, – тихо согласился он.
– Вот и поезжай.
Эта неожиданная новость до того взволновала Кудрявцева и так подняла его настроение, что через три дня доктор Туркеев отметил у него резкое улучшение пораженных участков. Это странное обстоятельство он объяснил одним: внезапным «радостным» возбуждением организма. Такие случаи бывали.
Многие лепрологи утверждают, что самое действенное средство исцеления от проказы – хорошее настроение больного. И наоборот, удручающее душевное состояние влечет обострение. Вот почему умные, чуткие врачи всеми средствами стараются поддержать у больных если не радостное, то хотя бы бодрое состояние. Одним словом, Кудрявцев уехал в отпуск, а через полтора месяца, как ему было предписано, вернулся обратно. Он привез вместе с собой трех дочерей: пятнадцатилетнюю Дуняшу, двенадцатилетнюю Гашу и Клашеньку. Так же, как и отец, все они были больны проказой. Впоследствии он так рассказывал о своем отпуске.
– Даже не верилось, что вот я опять еду туда и будто здоровый, как все.
Еду, а сердце уже там, дома. Легко сказать – три года не виделись? Еду, а все думаю – каково-то им теперь без меня? А бедность у нас большая. У меня их шестеро – все девочки – и жена. Каково-то, думаю, жилось им эти три года?
Может, поумирали от голода? А у самого радость – вот какая! Сам-то я рыбак.
Сети, думаю, остались, и подчалок остался, баба, пожалуй, сама справилась.
Ну, купил на станции гостинцев – конфет, вязанку бубликов детям и поехал.
Приехал. А до поселения нашего еще лошадьми верст двадцать. Пошел пешком.
Подхожу к поселению. Еще издали узнал свою избенку. Ну, думаю, слава богу, все на месте. И баба, думаю, сейчас на взморье – погодка ведь тихая, светлая, самый раз для ловли. Иду и ног не чую: ах, скорей бы, и чего это так далеко, – хотя до избы рукой подать. Вижу Дуняшу с ведром. Дуняшенька, кричу, Дуняша! Остановилась, смотрит на меня и, вижу, будто не узнает аль не верит. Да это я, кричу ей, я! Бросила ведро и в избу, а потом все шестеро, как одна, навстречу. Облепили, точно пчелы, не отбиться. Подросли, большие стали. Даже в голове помутилось, на ногах чуть стою от радости. Не забыли, думаю, помнят отца, радуются. Тут же я им и гостинцев. Пришли в избу. Сел, смотрю. Все как есть на месте, будто не удалялся на три года. Чайник – как был при мне с отбитым носиком – и тот цел. На столе даже скатерть с красными каемками, как лежала в самый последний день, так и лежит… А жена действительно на взморье – в колхозе работает. Ну а потом пошел к берегу, на море взглянуть – тоже соскучился. Вышел на берег. Вдалеке паруса, да голубое небо, да зеленое море. Который парус моей жены – не пойму. К вечеру она вернулась с моря и по дороге узнала обо мне – упредили дочки. Поцеловались мы с ней, – она никогда не брезговала мной, даже когда известно стало, что у меня проказа. Расплакалась баба, а потом принялась за пироги, за угощенье разное, и так хорошо, так покойно на душе стало, будто никогда не было никакой немочи, будто еще сто лет проживу и еще сто лет работать буду.
Отдохнул денька два, потом сходил в море на подчалке, с женой. Вот сидим как-то вечером, чай пьем. А Клашенька забралась ко мне на колени, смеется да силится узнать – где и почему я пропадал три года, мать-то ничего не говорила о том, что я заболел и ушел от них, может быть, на всю жизнь. Все утешала, что вернусь скоро. Глазенки такие умненькие, любопытные, и личико черненькое, что у цыганенка. Смотрю я на нее и вижу – на личике будто какие-то круги темные. А ну-ка, говорю, поди-ка умойся, да хорошенько, с мылом. Умылась, а круги остались. Целую ночь после этого не спал. Лежу, все думаю: может, мне показалось так от лампы, и вот утром, на солнышке – ничего и не будет. А жену нарочно не спрашиваю про круги – сам, дескать, посмотрю завтра. Чуть свет поднялся, а они все еще спят. Ну, думаю, пускай спят, проснутся – тогда посмотрю. А тут они начали просыпаться. Первым делом – ко мне. Пойдем, говорят, папаня, покатай нас на подчалке, теперь ты опять с нами. Эх, ты, думаю, доченька моя, а у самого слеза чуть не льется. Повел Клашеньку во двор, поставил против солнышка и давай осматривать лицо. Ну и понял сразу… В лепрозории-то научился понимать – какие это круги. Сел на камень, держу ее за ручку, смотрю в лицо. «Эх ты, доченька моя!»
– Чего ты, – говорит, – папаня, смотришь на меня так?
– А вот чего я смотрю, доченька, – говорю ей, – поедешь ты со мной туда, куда я поеду?
– Поеду, – с радостью отвечает.
– А маму не жалко бросать?
– А я, – говорит, – приеду потом.
– Верно, – отвечаю, – приедешь. А у самого сердце – на части.
– А зачем ты хочешь, чтобы я поехала?
– Затем, – говорю, – что ты большая, тебе в школе учиться надо, а когда вырастешь, подрастешь – тогда и вернешься.
Так и порешили. Рассказал ей, что там, куда поедем, – большой город, и люди хорошие, и веселей будет.
Поверила и так обрадовалась, что хоть бери да вези в тот же день. И порешил я тут осмотреть остальных детишек. Оказалось, что такие же пятна и у Дуняши – на руках, и у Гаши – на ногах. Остальные трое – совсем здоровы, ни на что не жалуются. И жена тоже здоровая совсем, хотя и жил с нею после болезни десять лет. Вот я и говорю жене: девочки, дескать, большие, учиться надо; там, дескать, где я, школы есть, бесплатно учат, – это, чтобы ее не расстраивать. Давай-ка, говорю, повезу их с собой, – трое со мной будут, трое – с тобой, все легче жить. А про круги молчок. А она мне так прямо и говорит: конечно, отвези их лучше туда. Там хоть лечить добрые люди будут, может, и поправятся, а здесь какая ж им жизнь и кто их лечить возьмется?.. А я думал, что она ничего не знает… А вот знала и молчала. И ничего никому не говорила, даже от них таила… Так ничего и не сказали мы им. Увез я их сюда, будто для ученья. Теперь хоть весело будет. А ведь трое эти на меня лицом похожи, как одна, и, вишь, болезнью отцовской заболели. А те трое – лицом вылитая мать. Мать осталась целая, и дети, похожие на мать, тоже уцелели.
Когда Кудрявцеву говорили на больном дворе, что едва ли удержатся и те трое, он убежденно отвечал:
– Они все как одна – вылитая мать. А мать осталась целой. Уцелеют.
Неизвестно, какой смысл вкладывал он в эти слова, но уверенность в том, что те «уцелеют», оставалась у него непоколебимой, и все умолкали, стараясь больше не расстраивать Кудрявцева.
По прибытии в лепрозорий девочки тотчас же, разумеется, узнали, куда и почему привез их отец. А через два дня Кудрявцев явился с ними в амбулаторию. Сомнений не было никаких. Лечение началось.
Туркеев с трудом верил в возможность радикальной борьбы с болезнью у детей. Но тут произошло нечто странное: в первый же месяц Гаша пошла на поправку, пятна начали исчезать, и на пораженных участках кожи восстановилась полная чувствительность. На втором месяце стали зарубцовываться язвы, очищаться лицо, которое так же, как и у Клашеньки, имело некоторые, едва заметные пятна. А на седьмом месяце у девочки окончательно исчезли все признаки. Она не жаловалась больше на боль, на недомогание; настроение улучшилось, девочка стала проситься домой. А через год и четыре месяца доктор Туркеев, осмотрев ее в последний раз, нашел, что она не может представлять опасности для здоровых людей, и решил выписать.
Однако поставил условие: в случае появления новых признаков Гаша немедленно должна вернуться сюда. Об этом сообщили и Кудрявцеву, и тот согласился в точности выполнить все указания. Он сам отвез Гашу домой.
На проводы собрался весь больной двор. И было на что посмотреть: ведь из лепрозория уезжал человек, носивший тяжелую форму болезни и излечившийся в течение одного года!
Больше всех радовались, конечно, сам Кудрявцев и Дуняша. Ей было жалко расставаться с маленькой сестренкой, но сознание, что та выздоровела и снова увидит мать, брало верх над чувствами разлуки.
Дуняша, выполнявшая при младших сестрах как бы роль матери, укутала ее потеплее, напекла в дорогу пышек, пирожков, усадила в телегу. Глядя на сестренку, она улыбалась счастливой, светлой улыбкой и, напутствуя, говорила, чтобы Гаша береглась простуды, не выходила из вагона. Одна только Клашенька стояла горестная, заплаканная. Она не разделяла общей радости. Ей тоже хотелось быть здоровой, ехать с Гашей. Она даже сделала попытку сесть на телегу, но ее сняли. И когда лошади тронулись, Гаша вдруг спрыгнула с телеги и бросилась бежать назад. Подбежала к Клашеньке, обняла ее.
– Клашенька, прощай… Ты тоже скоро вернешься… Ты ведь скоро вернешься? – рыдала она.
– Скоро, – твердо ответила Клаша, внезапно успокоившись и принявшись утешать отъезжающую. – Ты меня жди. И маме скажи, чтоб ждала. Я обязательно приеду, приеду совсем здоровой, совсем… И не одна, мы все приедем – и папа, и Дуняша…
Наконец Гаша отпустила Клашеньку, побежала к телеге – укутанная в платок, неуклюжая, смешная, села в телегу лицом к лепрозорию и долго смотрела в сторону, где стояли Дуняша с Клашенькой…
Доктор Туркеев сделал наконец последний укол, погладил Клашеньку по волосам и сказал, что все идет превосходно. Когда девочка ушла, он молча посмотрел на дверь, а потом сказал:
– Вот замечательный ребенок! Сколько в этом худеньком, беспомощном теле воли к здоровью! Она не пропустила ни одной процедуры… Смотрю на нее, и сердце надрывается: во время уколов даже не поморщится, а вижу, понимаю – больно… Сейчас сотню уколов приняла… Бедный ребенок… Это – жажда выздороветь, увидеть мать, стать такою же, как Гаша… Ведь она пообещала ей выздороветь, и вот – извольте… Да, это подвиг, – задумался Туркеев, – и не всякий взрослый на него способен. Вот, батенька, – обращаясь неизвестно к кому, заключил он, – вот с кого пример брать надо, вот где надо черпать энергию и веру в будущее.
– А вы верите, Сергей Павлович? – спросила Вера Максимовна.
– Да, сердцем верю, – посмотрел он на нее. – Но рассудок того… Впрочем, мне особенно жаль ее… Уж больно глубокие, понимающие у нее глаза… Мне сдается иногда, что и она не верит… Ну, ладно, – поднялся он, – хватит. Будущее скажет лучше нас. Кто там еще? – крикнул он за дверь.
Но больше не оказалось никого, и Туркеев отправился в соседнее помещение мыть руки, снимать халат. На дворе звонили к обеду.
5. Семейный вопрос доктора Туркеева
Грязь на дороге лежала непролазная. Докторский плащ блестел под мелким октябрьским дождем. Но Туркеев не замечал отвратительной погоды. Ему было приятно смотреть, как, играя силой и сытостью, мчали экипаж кони, как они отбрасывали пружинной поступью могучих ног комья грязи, как сидел на облучке Степан, широкой спиной загородивший дорогу.
Туркееву было приятно оттого, что дела в лепрозории идут лучше, чем он ожидал. Москва увеличила бюджет, целиком утвердив представленную смету, не сократив ее ни на один рубль. В Москве отнеслись и к нему, и к нуждам лепрозория с чрезвычайной заботливостью: там не жалели средств на прокаженных, и каждое требование Туркеева было выполнено без задержки. Так, например, лепрозорий получил новый микроскоп – лучший микроскоп во всей области.
«В Москву бы поехать, людей повидать, познакомиться с новостями», – это была давнишняя мечта доктора Туркеева. «Хорошо бы, да некогда, – думал он, – в город едешь, и то сердце неспокойно, обязательно выйдет какая-нибудь ерунда: то с больными напутают, то зарежут дойную корову, когда растительных продуктов девать некуда, и притом эта девушка, – вспомнил он Веру Максимовну. – Нет, в Москву нельзя. Когда-нибудь потом…»
А кони дружно мчали экипаж, отбрасывая комья грязи, и было слышно, как у Серого звучно екала селезенка. Против него, подняв воротник и пряча лицо от дождя, сидел Маринов, ехавший в город за какими-то материалами для своих мастерских.
Туркеев не замечал мелкого дождя и капель, пробирающихся за воротник.
Он был в прекрасном настроении. В текущем году лепрозорий заканчивал свою работу с богатыми показателями: семь выздоровевших!
Такого успеха Туркеев сам не ожидал. Сейчас он посмеивался над нелепой, с его точки зрения, прошлогодней бумажкой, полученной от райздрава, в которой ему предлагалось дать определенный процент выздоравливающих. Он ожидал, что и Маринов посмеется по этому поводу. Но тот молчал, ибо держался другого мнения: процентные показатели, даже в практике лечения прокаженных, зависят от степени энергии людей.
Было уже темно, когда Туркеев, доставив Маринова к зданию городского Совета, подъехал к своей квартире. Отпустив лошадей, он открыл калитку и, пройдя во двор, толкнул дверь черного хода. Войдя в кухню, он неторопливо снял плащ, отряхнул шапку, отдал домработнице пальто.
Во время чая между ним и женой снова возник неприятный и угнетающий разговор, одинаково волнующий как Сергея Павловича, так и Антонину Михайловну. Этот вечный вопрос, в котором они не могли прийти ни к какому соглашению, возникал между супругами каждый раз, как только доктор Туркеев приезжал из лепрозория. В глубине души он надеялся сегодня, впрочем, как и во все предшествующие приезды, что Антонина Михайловна промолчит. Но она встретила его безразлично, не обрадовалась, была какая-то скучная, утомленная.
Разливая чай, сказала:
– Вчера видела Капитолину Семеновну, спрашивала о тебе, кланялась…
– Спасибо, – уронил Туркеев и почувствовал, что Антонина Михайловна неспроста упомянула имя жены одного популярного врача.
– Из Крыма вернулись, – продолжала Антонина Михайловна, – три месяца пробыли…
– Ну и пусть, – буркнул Сергей Павлович, – очень рад. Значит, есть деньги…
– Еще бы, – оживилась Антонина Михайловна, – у него ведь такая практика… Хвалилась, будто купили мягкую мебель, а как она одевается!..
– Ну, конечно! – усмехнулся Туркеев. – У венерологов всегда была хорошая практика.
– При чем тут венерологи! – как бы обидевшись, сказала она. – Не только у венерологов, возьми других, все живут и все ездят в Крым, и для этого вовсе нет нужды разлучаться с семьей, работать в каком-то лепрозории… Только ты один…
– Разумеется, – нахмурился Сергей Павлович, – я только и думаю о том, как бы отделаться от тебя, от Машеньки…
Она вдруг сжала губы, взглянула на него темным, беспокойным взглядом.
– Это не так смешно, как ты думаешь, – сказала Антонина Михайловна, – а мне уже надоела такая жизнь… Я не могу больше и хочу решить вопрос окончательно.
– Опять окончательно! – воскликнул Туркеев.
– Да, я хочу наконец услышать от тебя что-нибудь одно – да или нет… Мне надоело, я не могу больше… Ты обязан мне сказать: да или нет. Слышишь?
– Слышу, но ведь я тебе уже тысячу раз говорил и снова повторяю – нет.
Наступило долгое молчание.
– И как только ты не можешь понять, – наконец обиженно заговорила она, – ведь такая жизнь для меня невыносима! Я больше не могу. Тебе, может быть, это нравится, ты счастлив, а я жить так больше не в силах. Скоро весь город начнет меня опасаться. Уже сейчас обо мне говорят: «жена прокаженного врача». Ну, поди разубеди всех, что проказа – не проказа, а одно сплошное наслаждение… Докажи им, что прокаженные – самые прелестные, самые приятные люди в мире! Поди, поди, докажи им всем. – Она задумалась на минуту, тяжело вздохнула. – Я в дом не могу никого пригласить. Все опасаются, а если кто придет, так, увидя тебя, убегают, как от чумы. Так дальше я не могу! Ведь работают же другие врачи? Превосходов, Лихачев, Сабанин – все, только ты один!.. – воскликнула она и вдруг, закрыв лицо руками, глухо зарыдала.
«Так, так, – подумал Сергей Павлович. – Впрочем, ей ведь уже тридцать четыре года».
Ему стало жалко жену, потому что жизнь ее идет уже не «на гору», а «под гору» и что ей хочется жить не так, как сейчас. Но ведь все это так просто уладить! Ведь сколько раз он предлагал ей переехать туда, в лепрозорий, и всегда получал категорический отказ.
Опустив голову, он вспоминал тот душный, июльский вечер, когда Антонина Михайловна, стройная и восторженная, в белом подвенечном платье стояла рядом с ним в церкви.
«Вот и шестнадцать лет пролетели – и не увидели, как пролетели», – подумал он и подошел к ней.
– Ну, перестань, – сказал он мягко, – Надо же быть выше этого… слободского мещанства… Это смешно. Мало ли кто и чего боится? Бояться проказы – так же невежественно, как верить в домовых, леших… Как ты понять этого не можешь? Ведь есть же прекрасный выход… – И голос его окреп, прорвался какими-то задушевными нотками. – Ну, переедем в лепрозорий, там ведь целый дом пустует… А так, действительно, жить тяжело… Ну, прошу тебя, ну, переедем туда – и вот увидишь, как это будет хорошо… А, переедем?
– Уйди, не прикасайся! – вдруг закричала она, продолжая рыдать.
Туркеев опустил голову. Его мечта – видеть семью рядом с собой, в лепрозории – безнадежна. Сломить упорство жены невозможно.
Он смущенно отошел и посмотрел на нее поверх очков. Слезы жены когда-то трогали и волновали Сергея Павловича. Сейчас же ему было лишь досадно оттого, что она сама расстраивается и расстраивает его, в сущности, по такому ясному и не стоящему слез вопросу.
Но тут вошла Машенька и принялась возиться у стола с книжками, тетрадками, собираясь готовить уроки.
Антонина Михайловна вытерла глаза и снова принялась разливать чай.
Однако едва только девочка вышла, как она не утерпела:
– Я все-таки хочу знать: какое решение ты принял?
– Тебе оно известно.
– В таком случае изволь выслушать: или ты немедленно покинешь свой проклятый лепрозорий, или мы расстанемся.
– Ультиматум? – засмеялся он.
– Да, это мое твердое решение. Я обдумала.
И она принялась говорить что-то обидное, но он уже не слушал. В нем поднялось нескрываемое ожесточение, заговорило достоинство врача.
Он опять без нужды протер очки, надел их.
– Вот что, батенька, – угрюмо прервал он ее. – Этого не будет никогда, понимаешь: никогда!
– Ладно, счастью семейной жизни ты предпочитаешь этих своих… Хорошо, оставайся с ними, а я как-нибудь проживу с Машенькой, проживу! – прокричала она.
В этот момент в комнату вернулась Машенька. Она с милой детской деликатностью, стараясь не показать родителям, что слышала их ссору и что ей тяжело, молча уселась за стол и принялась что-то переписывать.
– Так, так, – вздохнул Сергей Павлович и, подойдя к Машеньке, положил ей руку на голову.
Тут девочка не выдержала и, прижавшись к нему, заплакала.
– Постой, что с тобой? Чего ты плачешь? Ну перестань. Хочешь поехать со мной? – неожиданно для самого себя спросил он.
– Машенька никуда не поедет, – отчеканила Антонина Михайловна, – еще этого недоставало!
Он отвел от Машеньки руку и долго стоял задумавшись. Затем быстро зашагал в кабинет, оделся и вышел на улицу.
Было темно. Кое-где в домах горел свет. Далеко, на другом конце улицы, слабо светился одинокий фонарь. Дождь перестал. Под ногами хлюпала грязь. Он шел, то и дело поскальзываясь и хватаясь за стены, чтобы не упасть. Все же на одном ухабе Туркеев споткнулся, упал. Жидкая грязь обдала пальто, забрызгала лицо. Он поднялся, побрел дальше.
Наконец вышел на главную улицу. Посредине – убогий бульварчик. Голые, мокрые акации блестели в красных лучах фонаря, освещавшего высокую деревянную колонну с красной звездой на вершине – памятник неизвестным погибшим борцам. В стороне – еще один фонарь, поярче. Это кино. У входа толпились подростки, кутаясь в старые отцовские пиджаки. Они курили, ругались между собой, целясь прошмыгнуть вовнутрь кино. Шла картина с Дугласом. «Фу, как паршиво», – подумал Туркеев и внезапно решил посмотреть Дугласа.
– Доктор! – услышал он радостный возглас. – Товарищ Туркеев!
Сергей Павлович удивленно оглянулся.
С чубом, выбившимся из-под кепки, в расстегнутом пальто, улыбающийся, обрадованный, перед ним стоял Семен Андреевич Орешников. Туркеев почувствовал внезапную теплоту от этого искреннего, веселого голоса.
– А я иду и думаю: вы или не вы? Очень рад, товарищ доктор, что мы встретились. И теперь уж я вас не отпущу. – И Орешников засмеялся. – Вы куда-нибудь по делу?
– Нет, не по делу… Просто так… Погулять вышел.
– В такую-то погоду? – удивился Семен Андреевич.
Туркеев промолчал и, вынув носовой платок, принялся вытирать вспотевший лоб. К чему объяснять, что у доктора произошел очередной неприятный разговор с женой?
От Орешникова не ускользнуло странное настроение доктора, но он сделал вид, будто не замечает расстройства Туркеева, и, еще больше оживляясь, сказал:
– А знаете что, товарищ доктор?
– Нет, не знаю.
– Пойдемте ко мне. Ведь вы у меня никогда не бывали. Долг платежом красен. Я вас с женой познакомлю, она уже давно хочет повидать вас.
Туркеева приятно тронул искренний тон Орешникова. «А ведь в самом деле, – подумал он, – на улице противно, дома – тоже нехорошо».
– А вы разве женаты? – уставился он на Семена Андреевича.
– Женат, – слегка смутился тот, и голос его дрогнул. – Вот уже скоро месяц как поженились… Она о вас знает и интересуется прокаженными… Я рассказывал ей многое о вас, о лепрозории. Пойдемте, товарищ доктор.
– Что ж, пойдемте, – засмеялся Сергей Павлович.
– А я пришел сюда купить консервов, да не нашел. Все закрыто, одну только горчицу и достал, – сказал Орешников, точно желая в чем-то оправдаться.
Они свернули с «проспекта» и пошли широкой, безлюдной улицей.
– Скучный наш город, – начал Семен Андреевич, шагая по тротуару и поддерживая Туркеева за локоть. – В прошлом году был я в Москве – вот это город! Это – да! Плохо работает наш горсовет… Экономия, говорят. Лампочек, говорят, нет… А тут люди ноги ломают…
– Да, фонарей следовало бы прибавить, – согласился Туркеев.
– Обождите, товарищ доктор, прибавим, не все сразу. Вот произведем перевыборы горсовета – по-новому начнем работать… Обождите, доктор, – уже с подъемом продолжал он, – вот поставим на ноги промышленность и колхозы, – и за дворцы культуры возьмемся… И город зальем светом…
Семен Андреевич задумался и, прыгнув через очередную лужу, сказал с огорчением:
– У нас в городе – несчастье… Вал лопнул.
– Какой вал? – остановился Туркеев.
– Вал дизеля. На маслобойном заводе. А там, – вздохнул он, – работает четыреста человек. Завод стоит. Беда…
И, помолчав, добавил:
– Отскочила шейка, один выход – отливать новый вал. Месяца четыре придется ждать.
– А вы разве на маслобойном заводе работаете?
– Нет, я на заводе не работаю. Но там много наших ребят. Беда, – опять повторил он и вздохнул.
– Однако далеко же занесло вас, батенька, – сказал Сергей Павлович, не видя конца пути.
– А я у мамы живу, на Резаной слободке, – отозвался Орешников, давая понять, что они идут на самую дальнюю окраину города. И бодро добавил: – Ничего, дойдем…