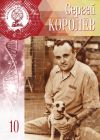Читать книгу "Прокаженные. История лепрозория"

Автор книги: Георгий Шилин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
13. Закон остался в силе
Комиссия явилась на больной двор уже в сумерках. Кое-где зажглись огни.
Больные только что попили чай. Никто не подозревал о готовящемся событии.
Если три часа назад Семен Андреевич ходил на больной двор в собственном пальто и шапке – как приехал из города, то сейчас, для большей убедительности, он вырядился в белый халат, надел белую шапочку и в таком виде явился со всеми остальными к Уткиным.
Любочка еще не спала и хлопотала в своем углу с куклами. Она не знала, какое горе готовится и ей, и родителям. Впрочем, ничего не подозревали и родители.
Федор по-прежнему сидел на своем месте и неподвижно смотрел в пол через синие очки, думая о чем-то важном, неразрешимом.
– Мама, а ты умеешь делать куклы? Сделай мне кита.
– Ложись спать. – И, взглянув на девочку, Авдотья вспомнила странное посещение Семена Андреевича. Неясная тревога охватила ее. – Довольно тебе играть! Тебя куклы скоро с ума сведут!..
– Не сведут. – И Любочка надулась.
Федор шевельнулся на скамье, посмотрел в сторону дочери и чему-то улыбнулся, как сквозь сон, – у него была привычка: сидит, сидит, и вдруг беззвучно засмеется, точно вспомнив о чем-то радостном или смешном.
– Да и тебе пора тоже, – накинулась жена на него. – Чего ты сидишь целыми днями? Сидит и сидит…
Но он ничего не ответил и задумался опять.
В этот момент послышались шаги.
Впереди всех шел Семен Андреевич. Лицо его было хмуро, губы поджаты, вся фигура дышала непреклонной решимостью. Очистив у порога сапоги, он вошел в комнату. За ним – все остальные.
Больные привыкли к таким обходам. Люди в белом нередко приходили к ним целыми группами по разным незначительным причинам. Но тут Авдотья побледнела. Больше всего поразил ее Семен Андреевич. Федор оторвался от своих грез, привстал, уставился на вошедших.
Семен Андреевич бросил взгляд в угол, где Любочка продолжала играть с куклами, затем посмотрел на Авдотью, на Федора.
– Вот что, Авдотья, – решительно шагнул он к ней, – мы пришли к тебе…
– Вижу, что пришли, – исподлобья уставилась она на него.
– Ах, да разве так можно? – засуетилась Серафима Терентьевна и ее сухонькое лицо внезапно порозовело от волнения. – Разве можно прямо так, сразу? – с укором посмотрела она на Семена Андреевича и, помолчав, приветливо улыбнулась.
– Мы пришли, Авдотьюшка, порадовать тебя, – ласково тронула она ее за руку, – и тебя, Федор, – повернулась она к Уткину, – и тебя, Любочка. Обрадовать пришли…
– Вишь ты, – радостно забеспокоился Уткин.
– Обрадовать? – недоверчиво с нарастающей тревогой переспросила Авдотья.
– Обрадовать, матушка, именно обрадовать… Не каждому дается такое счастье, а вот к тебе и пришло оно. – Серафима Терентьевна говорила так спокойно и так приветливо, что Семен Андреевич вынужден был замолчать и уступить переговоры Серафиме Терентьевне, поняв, что в таком сложном деле она более искусный дипломат, чем он.
– Спасибо, Серафима Терентьевна, за радость, – угрюмо произнесла Авдотья, – но можно узнать, какое это такое счастье привалило нам? – и она усмехнулась, скрестив на груди руки.
– А вот сейчас и узнаешь, милая, – так же мягко продолжала Серафима Терентьевна. – Мы пришли к тебе с тем, чтобы облегчить твою жизнь, сократить хлопоты… Ведь маешься ты, бедная, и Любочка – тоже.
– Если о Любочке речь, – заметила Авдотья тихо, – то какая ж с ней маята? И даже непонятно…
– Видишь ли, в чем дело, товарищ Уткина, – не утерпел Семен Андреевич, – тут такое дело, что Любочке надо учиться… А школы тут нет. Надо в город.
– Это верно, что учить надо, – вдруг сказал Федор глухо, и Семен Андреевич сразу понял, что в Федоре комиссия не встретит сопротивления, а, может быть, найдет даже союзника.
– Ей уже восьмой год, пора начинать учебу, – с еще большим жаром заметил Семен Андреевич, – а тут что она получит?
Авдотья опустила голову, тяжело вздохнула, обернулась к мужу.
– Чего ж ты молчишь? Скажи хоть ты слово…
Видимо, она начинала понимать – зачем пришли нежданные гости.
– Я уж сказал, – отозвался Федор. – Чего ж толковать? Надо – и все тут.
Авдотья поправила на столе скатерть, подошла к постели, переложила подушку без всякой надобности с места на место и вдруг, точно теперь лишь заметила Любочку, закричала:
– Опять ты с куклами! И когда ты только их бросишь! Видишь – за тобой пришли, а ты с куклами… В школу тебя забирают, – и вдруг, закрыв лицо руками, громко зарыдала.
Вера Максимовна принялась утешать.
– Чего же плакать? Любочку будут привозить сюда, вы будете видеться… Рано или поздно, а пришлось бы ведь все равно…
– Да, пришлось бы, – так же внезапно успокоилась Авдотья и умолкла.
Федор стоял, поправляя дрожащими руками очки. Любочка прекратила игру с куклами и, опустив голову, старалась не смотреть ни на кого.
– Ничего, оживился Семен Андреевич, – мы ее выучим, она будет у нас инженером, мы с ней социализм строить будем.
Авдотья, все время смотревшая на присмиревшую девочку, внезапно бросилась к ней, обняла, принялась целовать.
– Любочка, ведь они пришли за тобой… Они хотят нас разлучить, отнять тебя от меня… О господи, да что ж это такое? За что такое наказание?.. Да скажи хоть ты что-нибудь, Федор! Чего ты молчишь? Любочка, ведь больше я тебя не увижу… Это потому, что ты здоровенькая… Если бы ты не была здоровенькая, моя доченька…
Любочка тоже начинала всхлипывать, пугливо посматривая на людей.
– Тебе ведь не хочется уезжать? Скажи: не хочется? – рыдая, принялась допытываться Авдотья. – Ведь ты не боишься своей мамы за то, что она прокаженная? Ах, да что же это я! – вдруг отпустила она ребенка и задумалась, вытирая слезы.
– И чего ты, Авдотьюшка, так расстроилась? Будто в самом деле беда какая? – подошла к ней Серафима Терентьевна.
– Я так и знала, – отозвалась она, ни на кого не глядя, – так и знала, что это будет… Вот и получилось так… Еще нынче, когда они вошли, – кивнула Авдотья на Семена Андреевича, – то подумала: зачем это они явились ни с того ни с сего?.. Да что там говорить! – горестно махнула рукой Авдотья. – Ведь я давно уже думала, что так и получится. Вот и дождалась… – тяжко вздохнула она и, окончательно овладев собой, уже спокойно, почти безразлично сказала Любочке:
– Ну, вот и ты поедешь в город… Все спрашивала о городе – вот и поедешь… Чего ты уставилась?
Девочка стояла в своем углу, исподлобья рассматривала пришедших. Но было ясно, что она понимает значение разговора. И казалось удивительным, что Любочка спокойна.
– Когда ж ее увозите? Завтра или как? – недружелюбно посмотрела Авдотья на Семена Андреевича. При этом вопросе по неподвижному лицу Федора скользнула какая-то просветленная улыбка, точно вопрос жены доставил ему необыкновенное удовольствие.
– Ты рад, конечно! Рад, – повернулась она к нему, не дождавшись ответа Семена Андреевича, – дочку отбирают, а он радуется…
– Да и ты, поди, в душе тоже радуешься, – послышался его тихий голос, – а если говоришь, то от жалости одной и разлуки…
– Ладно, – метнула на него сердитый взгляд Авдотья и повернулась к Семену Андреевичу. – Когда ж вы хотите ее забрать?
– Сегодня, – четко сказал он.
– Как же сегодня? – не поняла она. – Собрать-то ведь надо?
– Насчет этого, товарищ Уткина, можете не беспокоиться, – все приготовлено и согласовано…
Провожая комиссию, Федор казался необычно оживленным.
– Это хорошо, – бормотал он, старательно открывая дверь и пропуская Лещенко, – пусть едет Любочка, пусть. Нечего ей делать тут с нами… Хоть она человеком будет…
– Видали?! – победоносно пробормотал Семен Андреевич, когда все вышли наружу. – А вы говорили, что родители не отдадут!..
И, выставив вперед узенькую грудь, он энергично зашагал дальше.
Но самое сложное, по мнению комиссии, предстояло впереди. Вся четверка твердо была убеждена, что особые трудности встретят у Афеногеновых – родителей Ариши.
Решили, что разговор с Фросей надо вести очень дипломатично и только после тщательной психологической подготовки объяснить ей цель прихода. В семье Афеногеновых комиссия ожидала встретить упорное сопротивление со стороны матери, может быть, вплоть до протестов действием. Комиссия считала, что задача в данном случае усложняется до последних пределов главным образом потому, что в распоряжении комиссии нет каких-либо «успокаивающих» аргументов, вроде необходимости, например, определения ребенка в школу. С Любочкой вышло легко, тут – школьный возраст, но какую «школу» придумаешь для трехлетней Ариши? Сколько ни размышляли члены комиссии, сколько ни подыскивали они доводов, которые могли бы успокоить материнское сердце, – безрезультатно! Так и пришли к Афеногеновым.
И против всякого ожидания, Фрося даже не удивилась, а сам Афеногенов так с первых же слов вмешался в разговор, решительно одобрив изоляцию. Он несколько обрадовался и даже признался, что об этом «давно мечтает».
Фрося, конечно, расстроилась, чуть-чуть всплакнула, но взяла себя в руки и принялась переодевать Аришеньку. Она только спросила – что надо приготовить девочке в дорогу, когда ее увезут, кто берет Аришеньку в городе?
Заметно было, что постоянная боязнь заражения девочки проказой чрезвычайно сильно беспокоила Афеногеновых, и они, может быть, давно уже подумывали определить ребенка в надежные, здоровые руки.
– Это вот дельно! Так и надо! – не удержался Семен Андреевич. – Этим вы только доказываете, товарищ, что судьба дочери для вас не безразлична, что вы по-настоящему любите Аришеньку и по-пролетарски желаете ребенку счастья…
Вопрос о Феденьке не представлял уже ничего сложного. Ребенок малый, грудной. Катя, по мнению Серафимы Терентьевны, «уступит» его не только без сопротивления, но и с благодарностью.
Подгоняемые столь легко давшимися успехами, члены комиссии уверенно вошли в комнату Рябининой и с первого же момента почувствовали, что именно с Феденькой-то и произойдет самая тягостная сцена.
Едва взглянув на комиссию, Катя подошла к кроватке ребенка и молча уставилась на нежданных гостей. Семен Андреевич хотел было приступить «прямо к делу, без всяких дипломатий», но, встретившись с ее глазами, блеснувшими какой-то непримиримой, животной враждебностью, отвел лицо в сторону и в одно мгновение был выбит из уверенного тона. Установилось тяжелое молчание. Никто не знал, с чего начинать. А Катя, загородив собою кроватку, ожидала «новостей».
Серафима Терентьевна сделала было попытку начать с «наводящих» слов, но Катя тотчас же осадила ее:
– Вы потише, ребеночка разбудите…
– Хорошо, пусть спит, – махнул рукой Семен Андреевич, – но нам надо поговорить с вами, Катя.
Она смерила его взглядом с головы до ног.
– Вижу, что пришли поговорить.
– Это хорошо, что понимаете, – пробормотал Семен Андреевич.
– Тут и понимать нечего, – вызывающе проговорила она. – Сразу видно, с какими разговорами пришли. Но этого не будет, – заволновалась Катя. – Я его не затем родила, чтоб отдать чужим…
– Придется, – с холодной непреклонностью сказал Семен Андреевич, решив, что какая-либо «подготовка» в данном случае бесполезна.
– Что ж, если решили, – берите… А я посмотрю, – и в голосе ее прорвалась звонкая нетерпеливая нотка, сразу разбудившая ребенка.
Феденька проснулся, закричал. Она быстро кинулась к нему, взяла на руки, прижала к груди.
– Нет, я тебя не отдам, ты не плачь… Мама не отдаст тебя, – и вдруг заплакала, принялась целовать его жарко, порывисто.
– Да ты понимаешь, – обратился к ней Лещенко, – что мы и тебе, и ему добра желаем.
– Должны же вы наконец понять, поддержал Лещенко и Семен Андреевич, – что так продолжаться не может. Ведь оставить его у вас, товарищ Катя, значит сделать ребенка прокаженным…
– Пускай. Ребенок мой, а не чей-нибудь, – сверкнула она глазами, принимаясь быстро ходить по комнате. – Сами рожайте – тогда и распоряжайтесь. А чужими детьми всякий умеет…
– Но надо же понять, – мягко вмешалась Катерина Александровна.
– А мы давно уже понимаем. Только вы одни не понимаете. – Катя еще крепче прижала к груди плачущего Феденьку.
– М-да… – задумался Семен Андреевич и почесал затылок.
– Ты прежде всего успокойся, Катя, – подошла к ней Вера Максимовна. – Никто не стал бы отбирать, если бы не закон…
– Это для вас закон, а для нас его нет… Не всякий прут по закону гнут. А Феденьку не отдам, хоть режьте! – и многозначительно отошла за кроватку.
Тут Семен Андреевич не выдержал. Он решительно шагнул к Кате и, уставившись на нее в упор, грозно проговорил:
– Если вы, гражданка, не хотите по-хорошему, придется отобрать Феденьку силой… Мы не можем этого позволить… Отдайте сейчас же ребенка.
– Милицию позовите, – усмехнулась она вызывающе. Она с ненавистью взглянула на Семена Андреевича и, положив Феденьку в кроватку, стала рядом с ним.
– Зачем сопротивляетесь, Катя? – тихо сказала Вера Максимовна. – Ведь его усыновляют хорошие, надежные люди, он будет счастлив. Лучше сейчас отдать… Вон и Уткины согласились, и Афеногеновы тоже. Одна вы…
– Вы это себе, а не мне расскажите! – накинулась она на Веру Максимовну. – Родите сами, а тогда и раздавайте… У вас, может, щенята будут, а мой Феденька – ребеночек! – зазвенела истерическая нотка.
В течение целого получаса все поочередно старались убедить Катю, но она не шла ни на какие уступки. Наоборот, с каждой минутой женщина становилась враждебней, раздражительней. Для всех наконец стало ясно – уговоры не помогут.
…Катя сопротивлялась отчаянно, она пыталась даже кусаться. С большим трудом удерживаемая двумя мужчинами, она отбивалась и кричала не своим голосом, видя, как уносили ребенка.
Едва только закрылась за Верой Максимовной дверь, Катя внезапно умолкла, перестала сопротивляться и тут же, обессиленная, упала в обморок.
Ее положили в постель. Серафима Терентьевна и Катерина Александровна остались отхаживать Катю, а мужчины отправились вслед за Верой Максимовной, чтобы сразу переправить детей на здоровый двор.
Аришу взяли сонную. Укутанная, она проснулась только на дворе, закричала, но мать быстро ее успокоила. Прощаясь с родителями, Любочка заплакала, но Авдотья прикрикнула на нее, и она покорно умолкла.
Через полчаса все дети были выкупаны в докторской ванне. На них надели все новое, привезенное из города: белье, новые платьица, укутали, угостили конфетами, печеньем, понесли к тарантасу, все еще дожидавшемуся за воротами.
В самый последний момент к тарантасу бросилась женщина. Это была Катя.
Она отыскала в темноте уже спавшего Феденьку, поцеловала горячо и порывисто; перекрестив его, сквозь слезы шептала:
– Сыночек, мой родной… Сыночек ты мой… Ну, ладно, ладно… Помни только мамочку, помни… – и опять залилась слезами.
Семен Андреевич умостился на тарантасе, взяв на колени Аришеньку.
Любочка сидела в середине, всхлипывала, Феденька – на руках у женщины, прибывшей из города.
– Ну, трогай, что ль! – устало сказал вознице Семен Андреевич. – До свиданья, товарищи.
Лошади тронулись и скоро исчезли в темноте наступившей ночи. А у ворот долго стояла группа людей, прислушивающихся к удаляющемуся стуку. Уехали…
Увезли детей!
14. Беспокойные люди
Однажды утром в амбулаторию явился Рогачев, озадачив своим появлением и Лещенко, и больных, дожидавшихся очереди.
В течение трех последних месяцев этот человек посетил амбулаторию всего один раз, и то по причинам, не связанным с лечением, хотя страдал он тяжелой формой проказы.
Несмотря на то, что Рогачев был сплошь усеян узлами, частью уже вскрывшимися и переходящими в язвы, а кисть левой руки напоминала головешку, он решительно отказался от правильного лечения и вмешательство врачей рассматривал как «пустую трату времени». Он игнорировал амбулаторию, советы медицинского персонала и во всеуслышание издевался над методами амбулаторного лечения, не веря ни в науку, ни в чольмогровое масло, ни в явные примеры возможности излечения, и смеялся над некоторыми выздоравливающими.
– Чушь, – говорил он, – это не врачи тебя сделали здоровым, а организм. Без них ты скорее бы стал здоровым.
С какою-то непримиримой враждебностью относился он ко всему медицинскому персоналу, вплоть до доктора Туркеева, и называл весь здоровый двор «паразитами, которых надо разогнать». «Тому не жить, кто к лекарям бежит», – любил повторять он. Впрочем, об этом он говорил с осторожностью, только в кругу самых близких, вовсе не желая, чтобы его мнение могло дойти до сведения здорового двора.
Рогачев не верил в возможность реальной помощи со стороны медицины. Он предпочитал лечить себя «собственными» средствами, демонстративно подчеркивая перед всеми, что эти средства если не лучше, то уж нисколько не хуже средств «паразитов». На правой его руке сохранились страшные красные шрамы – следы раскаленного железа, которое, как говорил он, «дало положительные результаты».
Это был человек лет тридцати пяти, небольшого роста, худой, жилистый, с богатой шевелюрой и беспокойно бегающими глазами. В прошлом – дамский парикмахер. Профессия, вероятно, оставила у него привычку – всегда быть при аккуратно повязанном галстуке, в чистом воротничке, начищенных сапогах, в наутюженных брюках.
Три месяца назад он явился в лепрозорий «самотеком», без документов, без какой-либо препроводительной бумажки и поселился на больном дворе с таким видом, будто жил здесь десятки лет. Рогачев прибыл, как оказалось, из какого-то северного лепрозория «по собственному желанию» – так объяснил он потом.
Рогачев принадлежал к той категории больных, которые не могут сидеть долгое время на одном месте и, одержимые каким-то нетерпением, всю жизнь только и делают, что по «собственному желанию» путешествуют из одного лепрозория в другой. Среди населения больного двора нередко можно встретить больных, за короткий промежуток времени успевших побывать в разных лепрозориях страны, начиная с Владивостокского и кончая Карачаевским; они знают всех лепрологов лучше, чем сами лепрологи, и информированы о делах каждого лепрозория подробнее, чем кто-либо из должностных лиц.
Часто случается так, что, неожиданно явившись в лепрозорий, прокаженный поживет месяц-два, ознакомится с бытом, со способами лечения (авось тут лечат лучше, чем там!), а потом внезапно исчезает. Спустя месяц от него приходит письмо. Он уже в другом лепрозории и сообщает своим друзьям тамошние «новости».
Получая письма от бесчисленных своих приятелей, рассеянных по лепрозориям, Рогачев был в курсе самых последних новостей жизни то Якутского, то Узбекистанского, то Краснодарского лепрозориев и удивлял здоровый двор столь богатой осведомленностью. Еще никто, например, не знал о предстоящем съезде лепрологов в Москве, доктор Туркеев не получил еще извещения, а он уже говорил: «Съезд назначен, но нам от этого не легче».
Итак, Рогачев, с презрением относившийся к методам научного лечения, рассматривая население здоровых дворов советских лепрозориев как «паразитов», неожиданно явился в амбулаторию.
– Опомнился? – спросил его Лещенко.
Рогачев уставился на него недружелюбным взглядом, слегка приподнял бритый подбородок. Спросил заносчиво:
– То есть как это «опомнился»?
– Решил лечиться?
– Лечиться? – снисходительно усмехнулся Рогачев. – Нет уж, избавьте, доктор, пускай лечатся вот те, – кивнул он на дверь, и его изуродованное буграми лицо как-то надулось – не то от усмешки, не то от досады.
– Здорово! И откуда у тебя такое упрямство? – посмотрел Лещенко на его темные, отвисшие мочки.
– А оттуда, доктор, что, сколько меня ни пичкали вот этим, – кивнул он презрительно на склянки, – ничего не помогло. И даже хуже стало. Зачем же мне играть такую музыку? Разве я себе враг?
– Вероятно, неаккуратно лечился, – строго посмотрел на него Лещенко и, помолчав, спросил: – Зачем же ты явился?
– Я пришел к вам как к директору лепрозория, – сказал Рогачев сердито и даже вызывающе. – А лечиться у вас я и не думаю.
– Ну?
Он потрогал забинтованную руку, сжал губы.
– Я пришел к вам от имени всех прокаженных…
– Вот оно что! Интересно…
– Очень интересно! – подтвердил он значительно.
Но Лещенко прервал его:
– По частным делам я принимаю после приема.
– Я хочу сейчас.
– Так срочно?
– Очень даже срочно.
– И когда ты только угомонишься… и до каких пор ты будешь голову людям морочить, – внезапно вмешалась Аннушка, прислуживавшая в это время Лещенко. – И все ему не этак… и все ему не так… Ты бы всех съел, кабы твоя воля.
– А тебя не спрашивают, – повернулся к ней Рогачев, – твое дело маленькое: подметай и молчи…
– Ах ты, змей! – вспылила Аннушка. – Ты бы высосал из всех кровь, да бог не попустит, милай… Не попустит.
– Ты пол вон вытри, а то грязь, – насмешливо заметил ей Рогачев.
– И вытру, и не твое дело… Вишь ты, с доктором-то говорит как! И как не совестно!
– Я вот зачем пришел, доктор, – серьезно проговорил Рогачев, не слушая Аннушку. – Все больные требуют, чтобы сегодня же вы уволили из пекарни Ольгу Земскову. Ей там не место…
– Вот врет, окаянный! – опять не утерпела Аннушка.
– Это в чем же мое вранье? – с достоинством взглянул на нее Рогачев.
– А в том.
– В чем же?
– А в том, что ты врешь. Это ты, ирод, захотел сжить со свету Олю, вот и пришел…
– Не я, а все.
– Неча на всех врать… Гришка Колдунов, Микитка Косой да Тишка Сизов – это не все, это твоя одна шайка… Да еще, может, Ефимка Земсков – тоже, дуралей, лезет туда же…
– Аннушка, перестаньте, – строго сказал Лещенко и повернулся к Рогачеву. – В чем дело? – спросил он уже официальным тоном.
– В том, что Земскову надо убрать. Больные не желают, чтобы она пекла для нас хлеб.
– Почему не желают?
– Она не чище всех нас…
– Ах ты, окаянный! – снова не выдержала Аннушка. – И как только язык повертывается!.. Видали, куда гнет, ирод!
– Замолчите же, – строго прервал ее Лещенко. – Рогачев, ты с ума сошел или пьян…
– И даже не думал, а постановили и требуем… Мы имеем право требовать.
– Требовать? – поднял брови Лещенко. – В таком случае я с тобой не могу разговаривать по этому поводу. Земскова хорошая работница, аккуратно выполняет свои обязанности. Впрочем, это вовсе не дело больных – вмешиваться в административные дела. До свидания, Рогачев. Советую начать лечение.
– Значит, не уволите Земскову?
– Я уже сказал – нет!
– Это последнее ваше слово?
– Окончательное.
– Примем к сведению, – усмехнулся Рогачев и, нахлобучив шапку, громко стуча сапогами, покинул амбулаторию.
После окончания приема больных Лещенко счел нужным вызвать к себе Ольгу Земскову.
Она явилась, как всегда краснощекая, со смеющимися плутоватыми глазами, остановилась у порога, перебирая пальцами каемку платка. Взглянув на нее, Лещенко понял, что Ольге уже известно, зачем позвали ее сюда, и она лишь делает вид, будто ничего не знает.
– Вы знаете, зачем я позвал вас, Земскова? – спросил он, не смотря на нее и чувствуя некоторую неловкость.
– А откуда мне знать, Евгений Александрович? – нараспев сказала она, продолжая перебирать каемку платка.
– Вы Рогачева знаете?
Она вспыхнула, отвела взгляд в сторону.
– Знаю.
– Объясните, пожалуйста, чем вы могли вызвать неудовольствие больного двора?
– А какое такое неудовольствие?
– На вас жалуются.
– Это кто ж такой жалуется? Уж не он ли?
– Рогачев.
– На меня?
Лещенко нахмурился.
– Я уже сказал, что на вас.
– На что ж он жалуется?
– Он требует, чтобы вы больше не пекли хлеб.
– Это как же? – быстро и в сердцах спросила она.
– Об этом-то я и хочу спросить вас, – и он скользнул по ней холодным начальническим взглядом.
– Ишь ты, – усмехнулась она язвительно, – на какое нахальство человек пошел.
– Он говорит, будто вы такая же, как все больные. Что это значит?
– А откуда, Евгений Александрович, я знаю, разве залезешь к нему в мысли? Сдурел, должно быть, не иначе. А ежели вы, доктор, сумлеваетесь, то могу хоть сейчас раздеться… Пожалуйста, осмотрите, поди намедни сами свидетельствовали, видели, какая я…
– В этом я не сомневаюсь, – пожал плечами Лещенко, – но я должен предупредить вас, товарищ Земскова, совершенно серьезно, что вам следует вести себя осторожно, особенно с больными… Вы должны сами понимать.
– А я разве как? Разве я не понимаю, – обиделась она, – а ежели этот хамлет зачинает меня порочить, то я найду на него, пса, управу, пусть не форсит умом да тем, что грамотный и его унять никто не может… Я ему, поди, не подвластная какая… Это он вымещает мне, окаянный… Вы-то, может, не знаете, а я знаю…
– Хорошо, – прервал ее Лещенко, – можете идти, только смотрите: будьте осторожней, – и погрозил ей пальцем. – Узнаю, Сергею Павловичу доложу… Можете идти.
Земскова вышла взволнованная.
– Вот идол навязался на мою голову, – слышался ее голос в коридоре. – И как это только слушают таких нахальных людей. – Она говорила нарочно громко – для Лещенко, – пусть начальство, мол, убедится, что она стала жертвой чьей-то интриги.
Но Лещенко отлично понимал, в чем тут дело.
После того как Рогачев покинул амбулаторию, Аннушка, обладавшая способностью узнавать всю подноготную каждого происшествия как на больном, так и на здоровом дворах, от которой не ускользала ни одна интрига, особенно любовного порядка, намеками и полунамеками рассказала Лещенко вчерашнее приключение в пекарне.
Поведение Земсковой было известно не только обитателям здорового, но и больного двора. Было известно, что она живет с трактористом Чижовым, который шесть месяцев назад был признан комиссией внешне здоровым. Чижов заведовал сейчас лепрозорной электрической станцией, которая, как и другие предприятия, вроде кухни, пекарни, продуктовых складов, помещалась на здоровом дворе.
И вот вчера, в пекарне, Чижова и Олю застали врасплох Рогачев и Ефим Земсков – муж Оли, тот и другой прокаженные. Чижов тотчас же убежал к своей машине, а Ольга осталась лицом к лицу с Рогачевым и мужем.
Земсков обладал кротким и добрым характером; он необычайно был предан Ольге и любил ее редкой, замечательной любовью. Сама Ольга рассказывала о проявлении изумительного самопожертвования и любви Земскова еще в то время, когда она обнаружила у себя первые узлы проказы.
Ефим тогда был здоров, и ни за что не хотел расстаться с любимой женой и, чтобы избежать разлуки, прибегнул к необычайной, впоследствии поразившей всех, мере.
Стремясь во что бы то ни стало попасть в лепрозорий вместе с женой, он «навел на себя» язвы. Как и чем он наводил их – неизвестно, но когда обоих супругов доставили в лепрозорий, Ефима, как и Ольгу, признали за прокаженного – так искусно симулировал он проказу. В тот день, когда они прибыли (это было лет пять назад), доктор Туркеев принимал партию больных, присланных откуда-то с Севера. Работы было много. Он исследовал Ольгу, осмотрел, выслушал, а когда очередь дошла до Ефима, Сергей Павлович ограничился только беглым внешним осмотром да показаниями самого больного.
Он решил: если проказой больна жена, то в муже сомнений не может быть, тем более, что все характерные признаки налицо, к тому же сам больной не сомневался в своем заболевании. Их поместили на больном дворе, в одной комнате. Месяца через два искусственно вызванные язвы стали, разумеется, заживать, а спустя некоторое время Земсков был совершенно здоров. Наоборот, дела Ольги шли худо. Узлы на лице начали вскрываться, болезнь обострялась, но Земсков не унывал. Он не отходил от нее ни на шаг и был страшно счастлив, что ему удалось «обмануть судьбу», остаться при Оленьке.
Через год, когда у Ольги началось улучшение, Земсков с удивлением обнаружил у себя на лице два узелка. Это была уже настоящая проказа. Но он не пал духом. Наоборот, болезнь точно пробудила в нем новую энергию. «Теперь ей не так тяжело придется… Глядя на меня, Оленька теперь будет радоваться – не она одна прокаженная, а и я. Теперь мы с ней вдвоем, и меня не удалят».
Так говорил он всем, по-видимому нисколько не опечаленный своим заболеванием.
Узнав всю эту историю, доктор Туркеев вознегодовал. Но делать уже было нечего. Ошибка допущена – ее не поправить. С этого момента он и поставил себе навсегда правило – не принимать больных до тех пор, пока не убедит его микроскоп.
Еще через два с половиной года Ольга была здорова, а Земсков чувствовал себя хуже и хуже. На лице появились язвы, пальцы стали гнить, брови выпали, мочки отвисли и потемнели. Ольгу перевели на здоровый двор, определили на должность заведующей пекарней.
Но Земсков не унывал: пока Ольга с ним – ему все нипочем… лишь бы она радовалась… А глядя на нее, и он порадуется… Правда, когда она перебиралась с больного двора, он немного расстроился: все-таки тяжело оставаться одному… Но скоро успокоился: ведь теперь его женушка среди здоровых, она будет приходить к нему в гости, она ведь по-прежнему останется с ним, и поможет, и приласкает, и ободрит, когда придется…
«Главное, ты обо мне не беспокойся (хотя Оленька не особенно беспокоилась о нем!), главное себя береги», – говорил он, провожая ее до аллейки.
А когда по здоровому двору поползли о ней слухи, он страшно ожесточился против тех, кто распускал их, отчаянно защищал честь жены и не допускал мысли, чтобы с нею могла случиться «этакая срамота»… Однако спустя некоторое время Земсков все-таки убедился: люди говорят правду. Он поверил и присмирел. С тех пор Рогачев приобрел странное влияние на Земскова, не понимавшего, что тот старался вернуть ее на больной двор вовсе не ради него.
На следующий день после того, как Рогачев явился в амбулаторию, Вера Максимовна посетила, по обыкновению, больной двор. Зашла к Уткиным – узнать, как они себя чувствуют после отъезда Любочки. Оказалось – не так уж плохо.
Авдотья продолжала еще вздыхать, но первое чувство разлуки, видимо, улеглось. Уткины теперь уже сами доказывали, что Любочку непременно надо было «отдать» в город.
– Ведь вот характер какой, – говорила Авдотья, – все кажется, будто откроет дверь, вбежит, засмеется… «Мама, сделай кита!» Или посмотришь в угол, и кажется, будто она там, с куклами… А потом как вспомнишь… – и умолкла, вытирая слезы. Добавила:
– Что ж, так, значит, надо… Теперь хоть сердце покойнее, хоть знать буду, что целой останется. Да чего вы стоите?
Садитесь, Вера Максимовна, дорогая… Спасибо, милая, за Любочку… Слава богу, хоть ее-то минет такая чаша…
И опять беззвучно заплакала.
А Федор выглядел совсем именинником. Было заметно, что он переживает большую радость: ведь здоровый ребенок избавился наконец от вечной опасности! Он уже не сидел, как всегда, угрюмо глядя через синие очки на пол, а, примостившись у окна, что-то мастерил из дощечек.
У Афеногеновых Веру Максимовну встретили так же приветливо, Фрося хлопотала у керосинки, муж отсутствовал. В углу, как всегда, стояла беленькая Аришина кроватка.
– Мой-то, – встретила Веру Максимовну Фрося, – все собирается порубить кроватку – не хочет расстраиваться. А мне жалко, как посмотрю, так и плачу. А он сердится. Пусть стоит, ведь не мешает… Не умерла же Аришенька наша!.. Ведь хуже, если бы умерла или заболела, избави господь… Теперь хоть от сердца отлегло… А то каждый раз, как начнешь купать, так и ищешь – не показалось ли чего?.. Увидишь пятнышко – сердце так и оборвется… Теперь хоть знать буду: избавилась Аришенька. Всю ночку не спала. И признаться, Вера Максимовна, – посмотрела она на нее смущенно, – ведь недовольна была вами. Вот, думала, и вы тоже в такой комиссии… А потом одумалась. Как же иначе?