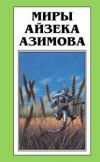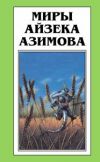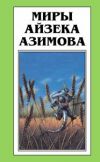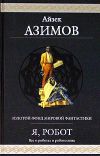Текст книги "Жена сэра Айзека Хармана"

Автор книги: Герберт Уэллс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Глава десятая
Леди Харман начинает действовать
1
Договор между леди Харман и ее мужем, этот договор, который должен был стать ее Великой хартией вольностей, конституционной основой ее свободы до конца супружества, имел много практических недостатков. Прежде всего договор этот был неписаный, он составлялся по частям, в течение долгого времени и по большей части через посредников. Чартерсон только все запутывал и в ответственные минуты еще больше скалил свои длинные зубы, миссис Харман прибегала к объятиям и слезам, а толку от нее добиться не удавалось; сэр Айзек писал жене письма с одра болезни, зачастую совершенно неразборчивые. Поэтому решительно невозможно перечислить пункты этого договора или сколько-нибудь точно изложить его условия; можно лишь сказать, что получилась некая видимость взаимопонимания. А практические выводы ей предстояло сделать.
Прежде всего леди Харман твердо обещала, что больше не убежит и тем более не станет бить стекла или совершать какие-либо другие скандальные поступки, которые могли бы снова привести ее на скамью подсудимых. Она должна быть хорошей, верной женой и, как подобает жене, служить утешением сэру Айзеку. А он, со своей стороны, чтобы сохранить такие отношения, сильно отступил от своих прежних принципов брачного абсолютизма. Он предоставил ей в мелочах некоторую долю независимости – самого слова «независимость» тщательно избегали, но дух его был вездесущ.
Так, например, они договорились, что сэр Айзек будет ежемесячно класть на ее имя в банк сто фунтов, которыми она вправе распоряжаться по своему усмотрению, а он может проверять оплаченные чеки и корешки квитанций. Она вправе уезжать и приезжать, когда считает нужным, но должна неизменно присутствовать за столом, щадить чувства сэра Айзека, поддерживать его достоинство и «по договоренности» ездить с ним на приемы. Она вправе иметь собственных друзей, но это условие осталось несколько туманным; впоследствии сэр Айзек решительно заявил, что женщине прилично дружить только с женщинами. Кроме того, ей была гарантирована тайна переписки, но со временем эта гарантия была нарушена. Второй «рольс-ройс» поступал целиком в ее распоряжение, и сэр Айзек обещал заменить Кларенса другим, менее дерзким шофером, а самому Кларенсу как можно скорее подыскать другое место. Кроме того, было решено, что сэр Айзек должен прислушиваться к ее мнению, обставляя дом и намечая перепланировку сада. Она может читать, что хочет, и иметь собственное мнение по любому вопросу, без мелочной и подозрительной опеки со стороны сэра Айзека, и свободна выражать это мнение в любой форме, приличествующей леди, при условии, что она не станет открыто противоречить ему в присутствии гостей. Но если у нее возникнут соображения, затрагивающие престиж или ведение дел «Международной хлеботорговой и кондитерской компании», она должна прежде всего высказать их с глазу на глаз сэру Айзеку.
В этом вопросе он проявил особую и весьма похвальную чувствительность. Он гордился своей фирмой еще больше, если только это возможно, чем некогда гордился женой, и, вероятно, во время раздоров между ними его сильнее всего уязвило то, что она поверила враждебной критике и обнаружила это за обедом в присутствии Чартерсона и Бленкера. Он завел об этом речь сразу же, как только она к нему вернулась. Он с жаром протестовал, пустился в подробные объяснения. И, быть может, главным для леди Харман в этот период перестройки их отношений было открытие, что деловые качества ее мужа вовсе не сводятся к энергичному и упорному стяжательству. Без сомнения, он был стяжателем до глубины своей низменной души, но все это были отталкивающие проявления куда более сложной и многосторонней страсти. Он был неисправимый прожектер. Больше всего на свете он любил наводить порядок, перестраивать, изыскивать способы экономии, вторгаться в новые области, любил организовывать и вводить новшества так же бескорыстно, как художник любит использовать возможности своего искусства. Он предпочитал извлечь прибыль в десять процентов из хитро задуманного дела, чем тридцать – по чистой случайности. Ни за что на свете он не стал бы наживать деньги нечестным путем. Он знал, что умеет предусматривать затраты и доходы лучше многих других, и так же дорожил своей репутацией в этой области, как поэт или художник своей славой. Поэтому, увидев, что его жена способна интересоваться делами и даже кое-что понять, сэр Айзек жаждал показать ей, как замечательно он все устроил, а когда он заметил, что она хоть и наивно, беспомощно, но весьма решительно заинтересована в судьбе неквалифицированных или низкоквалифицированных молодых работниц, которые с трудом перебиваются на свой низкий заработок в больших городах, он сразу ухватился за возможность заинтересовать ее, вернуть ее уважение к себе, блестяще решив эту проблему. Отчего бы ему и не сделать это? Он давно уже не без зависти замечал, какую прекрасную рекламу сделали такие фирмы, как «Левер, Кэдбери, Бэррафс и Уэлкам», ловко выставляя напоказ свою щедрость к служащим, и вполне вероятно, что и он не останется в накладе, приложив руку к этому общественно полезному делу, которым так долго пренебрегал. Стачка, организованная Бэбс Уилер, приносила «Международной хлеботорговой и кондитерской компании» страшные убытки, и если он не собирался осуществить все замыслы своей жены, то, во всяком случае, твердо решил впредь ничего подобного не допускать.
Он взял с собой в Мариенбад секретаршу-стенографистку. Несколько раз туда на четыре дня приезжали совещаться один из самых сообразительных молодых инспекторов и Грейпер, управляющий по найму; пробыл неделю и архитектор сэра Айзека, похожий на кролика, а в конце марта, когда раскрылись почки, Харманы вернулись в Путни, так как решили снова жить там, а в Блэк Стрэнд ездить на субботу и воскресенье, а также летом. Они привезли с собой готовые проекты четырех общежитий в Лондоне для официанток «Международной компании», которым негде жить или приходится ездить издалека, а также, если останутся свободные места, и для прочих молодых работниц…
2
Леди Харман вернулась в Англию из сосновых лесов Чехии, с курорта, где царил строгий режим и диета, смущенная и растерянная не меньше прежнего. Ее неписаная Хартия вольностей действовала совсем не так, как она ожидала. Сэр Айзек удивительно широко истолковывал положения договора, неизменно стремясь ограничить ее свободу и снова забрать над ней прежнюю власть.
В Мариенбаде с ним произошло настоящее чудо: хромота исчезла без остатка, нервы окрепли; не считая того, что он стал чуть-чуть раздражительней прежнего да изредка страдал одышкой, здоровье его, казалось, совершенно поправилось. Перед отъездом с курорта он даже начал ходить на прогулки. Один раз он пешком прошел полдороги вверх до Подхорна. И по мере того, как силы его восстанавливались, он становился нетерпимее, уже не так охотно признавал ее право на свободу, и она все реже ощущала чувство раскаяния и долга. Но этого мало: по мере того, как планы создания общежитий, которые так помогли ей примириться с ним, обретали определенность, она все яснее понимала, что это совсем не тот прекрасный акт человеколюбия, о каком она мечтала. Она чувствовала, что это кончится просто-напросто применением прежних его деловых методов в устройстве дешевых пансионов для молодых девушек. Но когда он ознакомил ее с множеством подробных проектов и предложил высказать свои соображения, она впервые поняла, какими туманными, наивными и беспочвенными были ее желания и как много ей предстояло узнать и понять, прежде чем она сможет что-то сказать Айзеку в ответ на его вечное: «Все это я делаю для тебя, Элли. Если тебе что-нибудь не нравится, скажи, что именно, и я все устрою. А то пустые сомнения. На одних сомнениях далеко не уедешь».
Она чувствовала, что, вернувшись в Англию из живописной и словно бы игрушечной Германии, она снова соприкоснется с настоящей жизнью и сумеет во всем разобраться. Ей нужен был совет, нужно было услышать мнение людей об ее замыслах. И, кроме того, она надеялась воспользоваться наконец обещанными свободами, которых ей так и не удалось вкусить за границей в глуши, где приходилось постоянно быть при муже. Она подумала, что полезные советы насчет общежитий может дать ей Сьюзен Бэрнет.
И потом, хорошо бы иногда поговорить с умным и понимающим человеком, которому можно довериться и который настолько к ней не безразличен, что готов думать вместе с ней и помогать ей…
3
Итак, мы проследили, как леди Харман, покорная жена, никогда не помышлявшая о своем долге перед обществом – обычный удел женщины в те времена – обрела весьма ограниченную, туманную и шаткую свободу – обычный удел женщины в наше время. А теперь нужно рассказать, как она оценивала себя самое, свои способности и что думала делать в будущем. Она твердо решилась следовать своему природному чувству долга, которое побуждало ее служить людям. Она безоговорочно приняла ответственность, что свойственно скорей женскому, чем мужскому складу ума. Но, осуществляя свое решение, она проявила остроту и цельность мысли, свойственные скорей мужчине, чем женщине. Она хотела точно знать, что делает, каковы будут результаты и как ее поступок взаимосвязан со всем окружающим.
Беспорядочное чтение последних лет, самостоятельные наблюдения и то, что она узнавала случайно, например, из разговоров с Сьюзен Бэрнет, помогли ей понять, что в мире много бессмысленных бед и несчастий из-за глубокой несправедливости и несовершенства общественной системы, а злобная статья в «Лондонском льве» и острый язычок Сьюзен убедили ее, что больше всех за это зло ответственны праздные и свободные люди вроде нее, у которых есть досуг и возможность думать, а также крупные дельцы вроде ее мужа, в чьей власти многое изменить. Она испытывала потребность сделать что-то, иногда эта потребность становилась непреодолимой, но она терялась, не зная, какой из множества расплывчатых, противоречивых планов, приходивших ей в голову, избрать. Свой замысел устроить общежития для официанток она выдала мужу раньше времени, еще во время спора с ним. Она вполне сознавала, что это средство может отчасти излечить лишь одно зло. Ей же хотелось чего-нибудь общего, всеобъемлющего, чтобы найти ответ на главный вопрос: «В чем цель моей жизни?» Ее честная и простая душа настойчиво искала ответа. Из окружавшей ее разноголосицы она надеялась узнать, как ей жить. Она давно уже с жадностью читала; еще из Мариенбада она написала мистеру Брамли, и он выслал ей книги и газеты, среди которых было немало передовых и радикальных, чтобы она могла узнать, «о чем думают люди».
Многое из сказанного во время прежних споров с сэром Айзеком засело у нее в голове, любопытным образом будило ее мысль и вспоминалось ей, когда она читала. Она вспоминала, например, как он, бледный, с глазами, налитыми кровью, махал на нее руками и кричал: «Ну, еще бы, я ничего не смыслю, а эти писаки, которых ты читаешь, этот Бермурд Шоу, и Голсуорс, и все прочие, они-то черт знает какие умники; но скажи мне, Элли, что, по-ихнему, мы должны делать? Скажи-ка! Спроси кого-нибудь из них, что должны, по-ихнему, делать такие, как я… Вот увидишь, они попросят пожертвовать денег на театр, или устроить клуб для писателей, или разрекламировать их книги в моих витринах, или еще чего-нибудь в таком роде. Этим дело и кончится. Попробуй, и увидишь, прав ли я или нет. Они знай себе брюзжат; конечно, повод побрюзжать всегда найдется, я не спорю, но назови что-нибудь такое, за что они все отдадут!.. Вот потому я и не согласен со всякими там идейками. Все это болтовня, Элли, пустая болтовня, и больше ничего».
Обидно писать о том, как трудно было леди Харман найти против этого хотя бы слабые возражения. В этот новый период своей жизни, получив некоторую независимость, она то и дело отправлялась в паломничество на поиски этих возражений. Она не могла поверить, что жизнь состоит только из трудностей, жестокостей, лишений и горя, что в этом заключается конечная мудрость, предел человеческих возможностей, но когда она начинала строить планы, как все изменить или переделать, куда только девалась неодолимая прочность, с которой она только что сталкивалась, – теперь перед ней было нечто более легкое и неуловимое, чем чириканье воробьев в канаве. Вернувшись в Лондон, она сразу принялась искать решения; мистер Брамли подбирал для нее книги, и она присоединила к этому собственные усилия, начав ходить на собрания. Иногда с ней ехал сэр Айзек, несколько раз ее сопровождал мистер Брамли, и вскоре, благодаря ее серьезности и обаянию, вокруг нее образовался кружок очень общительных друзей. Она старалась побольше встречаться с людьми, внимательно прислушивалась к мнениям признанных авторитетов, передовых умов.
Ей часто приходилось прерывать свои поиски, но она не оставляла их. Она уже снова ждала ребенка, но у нее случился выкидыш, и нельзя сказать, чтобы это слишком ее опечалило, но не успела она оправиться, как снова заболел сэр Айзек, после чего болезнь его стала часто обостряться, и пришлось снова возить его за границу – всегда в самых комфортабельных поездах, беря с собой горничную, агента, камердинера и секретаршу, – куда-нибудь на юг, в теплые края, подальше от всех забот. И мало кто знал, на каком волоске висела вся ее свобода. Сэр Айзек становился все раздражительней, иногда у него бывали вспышки нелепой подозрительности, происходили бурные сцены, которые кончались для него приступами невыносимого удушья. Были случаи, когда он искал ссоры с ее гостями, внезапно требовал, чтобы она отказывалась от приглашений, осыпал ее оскорблениями, чуть не довел до нового бунта. Но потом смягчал ее униженными мольбами. Снова привозили кислородные баллоны, и он, оправившись, становился жалким, покорным, присмирев на время.
Он доставлял ей больше всего забот. Дети были здоровые, ими, как принято в состоятельных семьях, занимались гувернантка и домашний учитель. Она проводила с ними много времени, замечала в них растущее сходство с отцом, боролась, как могла, с их врожденной скрытностью и нетерпимостью, следила за учителями и вмешивалась, когда считала, что нужно вмешаться, одевала их, дарила им подарки, старалась убедить себя, что любит их, и, когда здоровье сэра Айзека ухудшилось, стала все больше распоряжаться по дому…
Среди всех этих обязанностей, хлопот и неотложных дел она не оставляла своих попыток понять жизнь и порой почти верила, что понимает ее, но потом весь мир, частью которого она была, казалось, снова рассыпался на бесчисленное множество несвязанных, непримиримых кусочков, которые немыслимо связать воедино. Эти мгновения, когда в ней так ярко вспыхивала и так быстро угасала вера в то, что она постигла мир в его единстве, были мучительны и в то же время придавали ей сил. Она твердо надеялась, что в конце концов поймет по-настоящему нечто очень важное…
Многим, с кем леди Харман встречалась, она нравилась, и они хотели познакомиться с ней покороче; леди Бич-Мандарин и леди Вайпинг горячо покровительствовали ей в свете, Бленкеры и Чартерсоны, встречаясь с ней в гостях, постепенно пробудили в ней новые интересы; она быстро менялась, несмотря на все задержки и помехи, о которых мы уже говорили, и вскоре поняла, как ничтожно мало узнает человек, зная множество людей, и как мало слышит, слушая множество разговоров. Вокруг мелькали приятные мужчины, которые вежливо сторонились ее и острили по поводу ее затруднений, и надутые, бесцветные женщины.
Она кружилась в водовороте культурных движений, выдержала искус миссис Хьюберт Плессингтон, расспрашивала авторов многообещающих проектов, но все вокруг, вместо того чтобы дать пищу ее уму, приглашали ее на заседания всяких комитетов и намеками выпрашивали денег по подписке. Несколько раз в сопровождении мистера Брамли – какое-то внутреннее побуждение заставляло ее скрывать от мужа его участие в этих экспедициях или лишь мельком упоминать об этом – она незаметно побывала на публичных собраниях, где, как она поняла, обсуждались великие проблемы или готовились великие перемены. К некоторым из общественных деятелей она потом старалась присмотреться попристальней, не доверяя первому впечатлению.
Она познакомилась с манерами и замашками наших трибунов, с важным, похожим на манекен председателем или председательницей, которые едва удостаивают собравшихся несколькими словами, с хлопотливым секретарем или распорядителем и со знаменитостями, которые сидят с многозначительным видом, великодушно притворяясь, будто с интересом и вниманием слушают других. А когда приходит черед им самим говорить, они с плохо скрытым облегчением спешат к рампе или вскакивают с места и заливаются соловьями: одни острят, другие говорят волнуясь, с трудом, кто держится вызывающе, кто примирительно, кто тупо долбит свое; но все они вызывали у нее разочарование, одно разочарование. Ни в ком из них не было искры Божьей. Трибуна не располагает к откровенности: когда на человека направлено внимание публики, он поневоле становится неискренним. На собрании не высказывают свои взгляды, а разыгрывают их, даже сама истина вынуждена румянить щеки и чернить брови, чтобы привлечь к себе внимание, а леди Харман видела главным образом игру и грим. И эти люди не захватывали ее, не волновали, не могли убедить даже в том, что сами себе верят.
4
Но порой среди бесконечной пустой болтовни случался вдруг такой разговор, из которого она многое узнавала, и тогда готова была примириться с напрасными усилиями и пустой тратой времени на светские визиты. Как-то раз на одном из приемов у леди Тарврилл, где собралось случайное общество, она встретилась с писателем Эдгаром Уилкинзом и не без пользы узнала кое-что о том, что он думает о себе и об интеллектуальном мире, к которому он принадлежит. К столу ее вел любезный, но совершенно неинтересный чиновник, который, поговорив с ней, сколько полагалось для приличия, равнодушно завел точно такой же пустой разговор с дамой, сидевшей по другую руку от него, и леди Харман некоторое время сидела молча, пока освободился Уилкинз.
Этот горячий человек со взъерошенными волосами сразу же обратился к ее сочувствию.
– О, господи! – сказал он. – Вы подумайте, я съел баранину. И даже не заметил. На этих приемах всегда съедаешь лишнее. Не остановишься вовремя, а потом уж поздно.
Она была несколько удивлена таким началом и, не придумав ничего лучшего, пробормотала какую-то сочувственную фразу.
– Моя фигура – это сущее наказание, – сказал он.
– Ну что вы! – возразила она и сразу почувствовала, что это было сказано слишком смело.
– Вы-то хорошо выглядите, – сказал он, давая ей понять, что обратил внимание на ее внешность. – А я чуть что, толстею, появляется одышка. Это невыносимо, приходится сгонять вес… Но вам едва ли все это интересно, правда?
Он явно попытался прочесть ее фамилию на карточке, которая лежала перед ней среди цветов, и ему столь же явно это удалось.
– Наш брат, писатель, художник и тому подобное – это порода ненасытных эгоистов, леди Харман. И нам нет оправдания. Как, по-вашему?
– Не… не все такие, – сказала она.
– Все, – настаивал он.
– Я этого не замечала, – сказала она. – Но вы… очень откровенны.
– Кажется, кто-то говорил мне, что вы в последнее время интересуетесь нами. Я хочу сказать – людьми, которые сеют всякие идеи. Кто-то, кажется, леди Бич-Мандарин, говорила, что вы выезжаете в свет, ищете титанов мысли и открыли Бернарда Шоу. Зачем вам это?
– Я хочу понять, о чем люди думают. Интересуюсь идеями.
– Ну и как, печальная получается картина?
– Иногда просто теряешься.
– Вы ходите на собрания, пытаетесь докопаться до сути всяких движений, хотите увидеть и понять людей, которые пишут удивительные вещи? Разгадываете смысл удивительного?
– Чувствуется, что происходит многое.
– Важные, знаменательные события.
– Да… пожалуй.
– И когда вы видите этих великих мыслителей, вождей, героев духа и вообще умников…
Он рассмеялся и как раз вовремя заметил, что чуть не положил себе фазана.
– Ах нет, заберите! – воскликнул он резко.
– Все мы прошли через эти иллюзии, леди Харман, – продолжал он.
– Но я не думаю… Разве великие люди на самом деле не великие?
– По-своему, на своем месте – да. Но не тогда, когда вы приходите посмотреть на них. Не за обеденным столом, не в постели… Воображаю, какие вас постигли разочарования! Видите ли, леди Харман, – сказал он доверительным тоном, отвернувшись от своей пустой тарелки и наклоняясь к ее уху, – по самой своей природе мы – если только я могу причислить себя к этой категории, – мы, идеологи, всегда распущенные, ненадежные, отталкивающие люди. В общем, подонки, выражаясь на чистом современном английском языке. Если вдуматься, это неизбежно.
– Но… – заикнулась было она.
Он посмотрел ей прямо в глаза.
– Это неизбежно.
– Почему?
– То, что делает литературу развлекательный, выразительной, вдохновенной, сокровенной, чудесной, прекрасной и… все такое прочее, делает ее создателей – еще раз извините за выражение – подонками.
Она улыбнулась и протестующе подняла брови.
– Писатель должен быть подобен чувствительной нервной ткани, – сказал он, подняв палец, чтобы подчеркнуть свои слова. – Должен мгновенно на все откликаться, обладать живой, почти неуловимой реакцией.
– Да, – сказала леди Харман, внимательно прислушиваясь к его словам. – По-моему, это так.
– Можете ли вы допустить хоть на миг, что это совместимо с самообладанием, сдержанностью, последовательностью, с любым качеством, которое должно быть свойственно человеку, заслуживающему доверия?.. Конечно, нет. А если так, мы не заслуживаем доверия, мы непоследовательны. Наши добродетели – это наши пороки… В мою жизнь, – сказал мистер Уилкинз еще более доверительно, – лучше не заглядывать. Но это между прочим. У нас ведь не об этом речь.
– А мистер Брамли? – спросила она неожиданно для самой себя.
– О нем я не говорю, – сказал Уилкинз с беззаботной жестокостью. – Он себя сдерживает. А я говорю о людях, наделенных подлинным воображением, о тех, что дают себе волю. Теперь вы понимаете, почему они подонки и неизбежно должны быть подонками. (Нет, нет! Уберите! Вы же видите, я разговариваю.) Я так остро чувствую это естественное и неизбежное беспутство всякого, кто пишет добропорядочные книги и, вообще говоря, служит всякому искусству, что всегда восстаю против попыток сделать из нас героев. Мы не герои, леди Харман, это не по нашей части. Самая неприятная черта Викторианской эпохи – это стремление превращать художников и писателей в героев. В добродетельных героев, в образец для юношества. Ради этого умалчивали; скрывали правду о Диккенсе, пытались его обелить, а ведь он был порядочный распутник, знаете ли; молчали и про любовниц Теккерея. Вы знаете, что у него были любовницы? Еще сколько! Ну, и так далее. Точно так же, как бюст Юпитера – или Вакха? – выдают за Платона, который, наверно, ничем не отличался от всякого другого писаки. Вот почему я не хочу иметь ничего общего с этими академическими затеями, которыми так увлекается мой друг Брамли. Кстати, вы с ним знакомы? Вон он, третий от нас… Ах, вы знакомы! Он, кажется, хочет выйти из Академического комитета, не так ли? Я рад, что он наконец взялся за ум. Что толку иметь академию и все прочее, напяливать на нас форму и доказывать, будто мы что-то собой представляем и достаточно добропорядочны, чтобы можно было пожать нам руку, когда на самом деле мы, ей же богу, по самой своей природе самый последний сброд? И это неизбежно. Бекон, Шекспир, Байрон, Шелли – вся эта блестящая плеяда… Нет, Джонсон в нее не входил, его придумал Босуэлл. Еще бы! Мы делаем великие дела, наше искусство восхищает и дает людям надежду, без него мир мертв, но это еще не причина… не причина, чтобы вместе с грибами класть в суп и перегной, на котором они выросли, верно? Это очень точный образ. (Нет, нет, уберите!)
Он помолчал, но едва она открыла рот, перебил ее:
– И вы видите, что если бы даже темперамент не заставлял нас неизбежно… ну, опускаться, что ли, мы все равно вынуждены были бы опускаться. Требовать от писателя или поэта, чтобы он был благопристойным, классическим и так далее, – это все равно, что требовать от знаменитого хирурга строгих приличий! Это… это, видите ли, просто несовместимо. Уж что-нибудь одно – или король, или дворецкий, или семейный поверенный, если угодно.
Он снова замолчал.
Леди Харман слушала его внимательно, но с неприязнью.
– Что же тогда делать нам? – спросила она. – Нам, людям, которые не могут разобраться в жизни, которым нужно указать путь, дать идею, помочь… если… если все, от кого мы этого ждем…
– Порочные люди.
– Ну, будь по-вашему, порочные.
Уилкинз ответил с видом человека, который тщательно разбирает сложную, но вполне разрешимую задачу:
– Если человек порочен, из этого вовсе не следует, что ему нельзя доверять в делах, в которых добродетель, так сказать, не имеет значения. Эти люди очень чуткие, они – ничего, если я назову себя Эоловой арфой? – они Эоловы арфы и не могут не отозваться на дуновение небесного ветра. Что ж, слушайте их. Не идите за ними, не поклоняйтесь им, даже не чтите их, но слушайте. Не позволяйте никому мешать им говорить, рисовать, писать или петь то, что они хотят. Свобода, чистое полотно и людское внимание – вот истинная награда для художника, поэта и философа. Прислушайтесь к ним, взгляните на их произведения, и среди бесконечного множества сказанного, изображенного, выставленного и напечатанного вы непременно найдете свой путеводный огонек, найдете что-нибудь для себя, своего писателя. Никто на свете больше моего не презирает художников, писателей, поэтов и философов. Ох! Это мерзкий сброд, подлый, завистливый, драчливый, грязный в любви – да, грязный, но он создает нечто великое, сияющее, душу всего мира – литературу. Жалкие, отвратительные мошки – да, но они же и светлячки, несущие свет во мраке.
Его лицо вдруг загорелось воодушевлением, и она удивилась, вспомнив, что сначала оно показалось ей грубым и заурядным. Он вдруг замолчал и посмотрел мимо нее на ее второго соседа, который, видимо, намеревался снова повернуться к ним.
– Если я сейчас же не остановлюсь, – сказал он, и голос его вдруг упал, – то начну говорить громко.
– Мне кажется, – сказала леди Харман вполголоса, – вы… слишком суровы к умным людям, но все это правда. Я хочу сказать, правда, в определенном смысле…
– Продолжайте, я прекрасно вас понимаю.
– Идеи, конечно, существуют. Именно они… они… Я хочу сказать, нам только кажется, будто их нет, но они незримо присутствуют.
– Как Бог, который никогда не бывает во плоти в наше время. А дух его всюду. Мы с вами понимаем друг друга, леди Харман. Именно в этом дело. Мы живем в великое время, такое великое, что в нем нет возможностей для великих людей. Зато есть все возможности для великих дел. И мы их совершаем. Благодаря небесному ветру. И когда такая красавица, как вы, вникает во все…
– Я стараюсь понять, – сказала она. – Хочу понять. Я не хочу… не хочу прожить жизнь без пользы.
Он намеревался сказать еще что-то, но опустил глаза и промолчал.
Закончил он разговор так же, как начал:
– О господи! Леди Тарврилл смотрит на вас, леди Харман.
Леди Харман повернулась к хозяйке и ответила ей улыбкой на улыбку. Уилкинз, отодвинув стул, встал.
– Я был бы рад как-нибудь продолжить этот разговор, – сказал он.
– Надеюсь, мы это сделаем.
– Что ж! – сказал Уилкинз, и взгляд его вдруг затуманился, а потом их разлучили.
Наверху в гостиной леди Харман не успела поговорить с ним: сэр Айзек рано приехал за ней, – и все же она не потеряла надежды с ним встретиться.
Но они не встретились. Некоторое время она ездила на званые обеды и завтраки с чувством приятного ожидания. А потом рассказала обо всем Агате Олимони.
– И больше я его не видела, – заключила она.
– Его никто больше не видит, – сказала Агата многозначительно.
– Но почему?
В глазах мисс Олимони появилось таинственное выражение.
– Моя дорогая, – прошептала она, озираясь. – Неужели вы ничего не знаете?
Леди Харман была невинна, как дитя.
И тогда мисс Олимони взволнованным шепотом, умалчивая о всяких ужасах, но богато расцвечивая подробности, как любят делать старые девы, внеся два совершенно новых добавления, которые пришли ей в голову, и не называя имен, так что ничего нельзя было проверить, поведала ей ужасную широко известную в то время историю о безнравственности писателя Уилкинза.
Подумав, леди Харман решила, что это объясняет многое из сказанного во время их разговора и в особенности последний взгляд.
Все это, должно быть, началось уже тогда…
5
Пока леди Харман делала благородные и ревностные попытки постичь смысл жизни и разобраться, в чем состоит ее общественный долг, строительство общежитий, задуманных ею – как она теперь понимала, слишком преждевременно, – шло своим чередом. Порой она старалась о них не думать, отвернуться, убежать от них подальше, а порой, забывая обо всем остальном, только и думала об этих общежитиях, о том, что с ними делать, какими они должны быть и какими не должны. Сэр Айзек не уставал повторять, что это ее детище, спрашивал ее советов, требовал одобрения – словом, так сказать, без конца предъявлял за них счет.
Общежитий строилось пять, а не четыре. Одно, самое большое, должно было стоять на видном месте в Блумсбери, недалеко от Британского музея, другое – на видном месте перед парламентом, третье – на видном месте на Ватерлоо-роуд, близ площади святого Георга, четвертое – в Сайденхеме и пятое – на Кенсингтон-роуд, с тем расчетом, чтобы оно бросалось в глаза многочисленным посетителям выставок в «Олимпии».
В кабинете сэра Айзека в Путни лежала на этажерке роскошная сафьяновая папка с великолепным золотым тиснением: «Общежития Международной хлеботорговой и кондитерской компании». Сэр Айзек очень любил после обеда звать леди Харман в свой кабинет и обсуждать с ней планы; он усаживался за стол с карандашом в руке, а она, сев по его просьбе на подлокотник кресла, должна была одобрять всевозможные предложения и улучшения. Эти общежития должен был проектировать – и уже проектировал – безропотный архитектор сэра Айзека; и фасады новых зданий было решено облицевать желто-розовыми изразцами, уже знакомыми всем по филиалам «Международной компании». По всему фасаду должна была пройти крупная надпись:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Строительные участки на планах значились немногим больше самого здания, и строители из кожи лезли вон, стараясь дать как можно больше полезной площади.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.



![Книга Удовлетворение гарантировано [Будете довольны] автора Айзек Азимов](/books_files/covers/thumbs_100/udovletvorenie-garantirovano-budete-dovolny-27936.jpg)
![Книга Гарантированное удовольствие [Будете довольны] автора Айзек Азимов](/books_files/covers/thumbs_100/garantirovannoe-udovolstvie-budete-dovolny-27935.jpg)