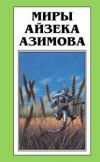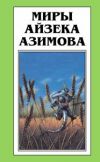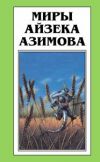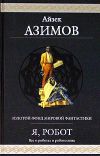Текст книги "Жена сэра Айзека Хармана"

Автор книги: Герберт Уэллс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Глава одиннадцатая
Последний кризис
1
Любитель сглаживать острые углы легко мог бы изобразить дело так, будто с этих пор и до конца своих дней леди Харман занималась только благотворительностью. Потому что после первых шагов ей суждено было многое узнать, многому научиться, обрести ясную цель и принять серьезное участие в удивительном процессе создания коллективной жизни – в процессе, который в конечном счете мог оправдать смелые предположения мистера Брамли и оказаться первой попыткой заложить фундамент нового общественного порядка. Возможно, когда-нибудь будет написана официальная биография, которая встанет в один ряд с немыслимыми жизнеописаниями английских общественных деятелей, и где обо всем этом будет рассказано деликатно и благопристойно. Если Горацио или Адольф Бленкер доживут до того времени, это достойное дело будет возложено на них. Леди Харман предстанет там как бесстрастная женщина, всю свою жизнь преследовавшая одну ясную и благородную цель; сэра Айзека и ее подлинные отношения с ним автор всячески пощадит. Книга будет богато иллюстрирована ее фотографиями в различных позах, рисунками дома в Путни и, возможно, гравюрой убогого домишки ее матери в Пендже. Главная задача всех английских биографов – скрыть истину. Многое из того, что я уже рассказал, а тем более то, что намерен рассказать, разумеется, не войдет в такую биографию.
На деле леди Харман занималась благотворительностью лишь по временам, в силу необходимости, и нас интересуют главным образом те периоды ее жизни, когда ею владело не только возвышенное человеколюбие. Конечно, иногда она почти подходила под общую мерку и становилась такой, какой казалась со стороны, – самой обыкновенной благотворительницей, но чаще всего под серьезной и исполненной достоинства внешностью зияла пустота, а заблудшая женская душа стремилась к вещам гораздо менее возвышенным.
Порой она вдруг обретала уверенность – и тогда даже миссис Хьюберт Плессингтон могла бы ей позавидовать, – а иногда весь грандиозный план создания из этих общежитий нового уклада городской жизни, коллективного, свободного и терпимого, разваливался, словно издеваясь над ней, и она кляла себя за глупость. Тогда ее борьба против миссис Пемроуз начинала казаться ей пустой перебранкой, и она сомневалась даже в собственной правоте: а вдруг миссис Пемроуз в самой своей беспощадности умнее ее? В такие минуты вся затея представлялась ей детски наивной, она удивлялась, что не понимала этого раньше, проклинала свое дурацкое самомнение, считала себя невежественной женщиной, которая использует власть и богатство мужа для рискованных экспериментов. Когда ее постигало такое разочарование, она не могла совладать со своими мыслями и ничто ее не удовлетворяло; она ловила себя на том, что плывет к неведомым, чуждым отмелям и жаждет бросить там якорь. Думая о своих отношениях и спорах с мужем, она втайне стыдилась, что покоряется ему, и в минуты усталости стыд становился нестерпимым. Пока она верила в общежития и в свою цель, у нее еще хватало сил выносить этот стыд, но когда ей снова пришлось замкнуться в личной жизни, весь этот ужас сразу всплыл наружу. Мистеру Брамли иногда удавалось ободрить ее красноречивыми рассуждениями насчет общежитий, но в более интимные и сокровенные свои переживания она по вполне понятным причинам не могла его посвятить. Он был полон благородного самоотвержения, но она уже давно знала пределы этого самоотвержения…
Мистер Брамли был ей другом, он любил ее и был способен, она чувствовала, терзать себя и ее ревностью. Трудно сказать – вероятно, она и сама не знала этого, – в какой мере она поняла это чутьем, а в какой заметила по его поведению. Но она знала, что не смеет поощрить его ни малейшим вздохом, ни малейшим намеком на чувство, чтобы не раздуть жар еще сильнее. Она всегда была начеку, всегда помнила про эту опасность; так возникало искусственное отчуждение, державшее их на расстоянии, хотя душа ее жаждала дружеского участия.
И результатом этого душевного упадка было удручающее чувство одиночества. Иногда она чувствовала непреодолимую потребность в чьем-то участии, чтобы кто-то утешил ее, освободил от холодного, грубого разочарования и тоски, которыми была полна ее жизнь. Порой, когда сэр Айзек донимал ее либо своими нежностями, либо придирками, или когда отношения девушек с администрацией снова обострялись, или когда вера изменяла ей, она лежала ночью у себя в спальне, и душа ее жаждала – как бы это назвать? – соприкосновения с другой душой. И, быть может, постоянные разговоры с мистером Брамли, его мысли, которые по каплям просачивались к ней в голову, вселяли в нее веру, что это щемящее одиночество и пустоту может заполнять любовь, чудесное, возвышенное чувство, которое испытываешь к любимому человеку. Она давно уже сказала мистеру Брамли, что никогда не позволит себе думать о любви, и по-прежнему держалась с ним отчужденно, но, сама того не замечая, в своем одиночестве уже ощупывала замки на дверях этой запертой комнаты. Она испытывала тайное любопытство к любви. Быть может, в этом есть нечто такое, чего она не знает. Она почувствовала влечение к поэзии, нашла новую привлекательность в романах; все чаще она заигрывала с мыслью, что в мире есть какая-то неведомая красота, которая вскоре может открыться ее глазам, нечто более глубокое и нежное, чем все, что она знала до сих пор; оно где-то совсем рядом и поможет ей увидеть мир в истинном свете.
Вскоре она уже не просто ощупывала замки, – дверь бесшумно отворилась, и она заглянула внутрь. Любовь казалась ей чем-то удивительным: она приходит незаметно, но наполняет всю душу. Эту мысль подало ей одно очень странное место в романе Уилкинз. Из всех сравнений она выбрала для любви сравнение… с электричеством – с этой силой, пульсирующей между атомами, которую мы теперь заставили давать нам свет, тепло, связь, удовлетворять тысячи нужд и лечить тысячи болезней. Она присутствует и всегда присутствовала в человеческой жизни, но еще сто лет назад действие ее было незаметно, о ней знали лишь по странным свойствам янтаря, треску сухих волос и раскатам грома.
А потом она вспомнила, как однажды мистер Брамли возносил хвалу любви:
«Она преображает жизнь. Человек как будто вновь обретает что-то безнадежно утерянное. Весь мир, разобщенный и непонятный, сливается воедино. Подумайте, что значит истинная Любовь; это значит всегда жить в мыслях другого, и этот другой всегда живет в ваших мыслях… Но тогда уж – никаких пределов, запретов, никакого признания высших прав. Необходима уверенность, что оба друг другу желанны и свободны…»
Разве не стоило переступить любые границы, чтобы увидеть такой свет?..
Она старательно прятала эти мысли и до того робела, что чуть ли не таила их от самой себя. Когда они одолевали ее, а это случалось не часто, она упрекала себя в слабости, гнала их прочь и снова с головой уходила в дела. Но это не всегда удавалось: сэр Айзек все чаще болел, и приходилось ездить с ним за границу, где на лоне чудесной природы ей нечем было занять себя и ничто не отвлекало ее от сомнений. Тогда-то запретные мысли и овладевали ею.
Это чувство неудовлетворенности, неполноты жизни и одиночества было очень смутно, и она не знала, как его утолить. Угнетенная, она порой думала о любви, но думала и о многом другом. Часто неясное влечение принимало человеческий образ, иногда окутанный тьмой, – то был беззвучный шепот, незримый возлюбленный, который явился ночью к Психее. Но иногда этот образ становился отчетливей, терял свою мистическую таинственность, разговаривал с ней. И, быть может, потому, что воображение всегда избирает самый легкий путь, этот призрак лицом, голосом и манерой держаться напоминал мистера Брамли. Она почувствовала отвращение, когда поймала себя на мысли о том, каким возлюбленным мог бы быть мистер Брамли, – словно она вдруг сложила оружие, позволила ему высказать затаенные мольбы, подпустила бы его к себе.
Стараясь правдиво изобразить мистера Брамли, я, быть может, обрисовал его не совсем таким, каким он представлялся леди Харман. Я опрометчиво пренебрег его чувствами и достиг лишь мнимого сходства; перед леди Харман мистер Брамли старался показать себя с самой лучшей стороны. Но он по крайней мере был честный влюбленный, и почти все возвышенные речи, которые он на нее изливал, были искренни; рядом с ней, при мысли о ней он становился хорошим; и нам тем легче показать его с лучшей стороны. А леди Харман с готовностью наделяла его самыми благородными качествами. Мы, люди его круга, его собратья по перу, не без дьявольского участия Макса Бирбома склонны были считать и считали, что выразительная живость его лица, в сущности, прикрывает внутреннюю пустоту; но когда это довольно приятное лицо было обращено к ней, оно все преображалось и сияло. По сравнению с сэром Айзеком он казался ей почти идеалом. Благодаря этому контрасту даже недостатки его превращались в блестящие достоинства…
Она редко думала о мистере Брамли в таком плане и с такой определенностью, а когда это случалось, гнала прочь преступные мысли. Это было самое мимолетное из всех доступных ей утешений. И надо сказать, что чаще всего это было вдали от мистера Брамли, когда образ его успевал слегка затуманиться после нескольких недель или месяцев разлуки…
А иногда та же душевная тревога, то же ощущение, что она несчастна, увлекали ее мысли совсем в другую сторону, и она начинала думать о религии. Она со стыдом думала о религии как о чем-то еще более неприличном: ведь воспитание отторгло ее от веры. А теперь она даже тайно молилась. Иногда, вместо того чтобы ехать в общежития, она просто потихоньку удирала из дому и осмеливалась одна, без мистера Брамли, пойти в церковь; так она побывала в Бромптонской часовне, потом несколько раз в Вестминстерском соборе и, наконец, вспомнив про собор святого Павла, – в соборе святого Павла, стремясь утолить свою жажду, имени которой она не знала. Эту жажду невозможно было утолить в простой, некрасивой церковке. Тут нужны были хор и орган. Она зашла в собор святого Павла, проходя мимо в подавленном настроении, и с тех пор ей открылось чудо, которое таили в себе великая музыка и голоса певчих, она преклоняла колени и, устремив взор вверх, на своды совершенной красоты и божественную роспись, на время испытывала чудесное облегчение. Порой она ждала, что вот-вот ей откроется нечто сокровенное и все станет ясным. А порой чувствовала, что это сокровенное и заключено в успокоении.
В глубине души она не была уверена, помогают или мешают ей жить эти тайные посещения храма. Отчасти они помогали равнодушнее переносить неприятности и унижения, – это, конечно, было хорошо, – но вместе с тем они порождали в ней безразличие ко всему миру. Она рассказала бы обо всем мистеру Брамли, но чувствовала, что многого тут не передать словами. А рассказать не все было невозможно. Или рассказать все, или молчать. И она молчала, приемля, правда, с некоторым недоверием, утешение, которое давала религия, и по-прежнему продолжала выполнять свои обязанности и заниматься благотворительными делами, которые превратила в цель своей жизни.
2
Однажды во время Великого поста – это было почти через три года после открытия первого общежития – она пошла в собор святого Павла.
Она была очень удручена; борьба между миссис Пемроуз и девушками в Блумсбери неожиданно вспыхнула с новой силой, а сэр Айзек, который после временного улучшения снова занемог, стал с ней необычайно резок, раздражителен и злобен. Он грубо накричал на нее и принял сторону администрации в этом конфликте, зачинщицей которого была теперь Элис, сестра Сьюзен Бэрнет. Леди Харман чувствовала, что за новыми беспорядками стояла все та же пылкая профсоюзная деятельница мисс Бэбс Уилер, круглолицая, голубоглазая и неукротимая, которая совершенно покорила Элис. Мисс Бэбс Уилер старалась не для себя, а для профсоюза; сама она жила у матери в Хайбэри, а своим орудием в общежитиях избрала Элис. Профсоюз давно уже не одобрял стремления многих официанток подражать знатным леди; такие девушки считали, что бастовать – это не по-благородному, что от этого страдает их престиж, а наплыв в общежития продавщиц из универмагов еще больше укрепил их уверенность. В Блумсбери вселились сто утонченных, элегантных продавщиц – их скорее следовало бы назвать манекенами – из большого магазина готового платья Юстаса и Миллза на Оксфорд-стрит, – молодые, высокие, энергичные женщины, которые по привычке, едва ли сами замечая это, ходили, задрав нос, и при всяком удобном случае молчаливо, но недвусмысленно показывали, что считают девушек из «Международной компании» ниже себя. Простых смертных это молчаливое превосходство раздражало, и случаев для столкновений было более чем достаточно. Те девушки из «Международной компании», которых, к сожалению, приходится называть простонародьем, уже совершили множество провинностей, прежде чем все это дошло до ушей леди Харман. Миссис Пемроуз воспользовалась случаем беспощадно «искоренить» зло и предложила мисс Элис Бэрнет вместе с тремя ее ближайшими подругами освободить комнаты «для предстоящего ремонта».
Девушки, совершенно правильно поняв, что их выгоняют, отказались забрать свои вещи. После этого в общежитие пришла мисс Бэбс Уилер, и хотя миссис Пемроуз трижды приказывала ей уйти, поднялась на лестницу, откуда произнесла речь перед шумной толпой, собравшейся в вестибюле. И во время всех этих беспорядков часто раздавались громкие хвалы леди Харман. Тогда миссис Пемроуз потребовала немедленно выгнать многих девушек не только из общежития, но и с работы, угрожая в противном случае отставкой, и леди Харман оказалась в необычайном затруднении.
А тут еще вмешалась Джорджина Собридж; верная себе, она выслушала жалобы сестры и потребовала, чтобы ее назначили генеральным директором всех общежитий, отказываясь верить, что такая простая вещь решительно невозможна; она ушла разобиженная, после чего засыпала леди Харман письмами, полными далеко не родственных упреков. А мистер Брамли, когда она хотела с ним посоветоваться, вдруг испугал ее, дав волю своим чувствам. И когда после всего она отправилась в собор святого Павла, это было очень похоже на бегство.
С необычайным чувством, как в убежище, вошла она с шумной и мрачной лондонской улицы в тихий, просторный храм. Дверь затворилась за ней, и она очутилась в совсем ином мире. Здесь был смысл, гармония, цельность. Вместо нелепого водоворота поступков и желаний она ощутила тихое сосредоточение на небольшом круге света, падавшего на хор, и над всем властвовал нежный, поющий голос. Проскользнув через придел в неф, она подошла к скамье. Как здесь было чудесно! Там, снаружи, она чувствовала себя беззащитным, истерзанным совестью существом, которому негде укрыться от отчаяния; а здесь, где все дышало миром, она вдруг стала лишь одной из множества безмятежно спокойных, маленьких, одетых в черное людей, пришедших помолиться в великий пост; отыскав свободное местечко, она преклонила колени и почувствовала, что забывает обо всем на свете…
Какая красота! Она подняла взор к высоким темным сводам, таким легким и изящным, что их, казалось, создали не руки человека, а очертили крылья кружащих ангелов. Шла служба, стройные голоса певчих, звучавшие без аккомпанемента органа, сливались в ее воображении с бесчисленными точечками свечей. А под огромным сводом благоговения и красоты, распускаясь, точно цветы в саду, точно весенний ветер, веяла мелодия «Мизерере» Аллегри…
Ее душа преисполнилась чувства уверенности и покоя. Казалось, сумбурный, враждебный, нелепый мир вдруг раскрыл перед ней сокровенные, сияющие тайны. Она как будто проникла в суть вещей. Борьба, столкновение интересов и желаний – все это лишь пустая суета, оставшаяся позади. Некоторое время ей не стоило никаких усилий удержаться на этой высоте, она радостно плыла по ласковым, мягким звукам, а потом… потом пение смолкло. Она пришла в себя. Мужчина, сидевший рядом с ней, пошевелился и вздохнул. Она попыталась снова вернуть откровение, но оно исчезло. Глухие, непроницаемые двери неумолимо затворились и скрыли ее мгновенное видение…
Все вокруг вставали и уходили.
Она медленно вышла в серый, свинцовый мартовский день, на улицу, где торопливо сновали черные фигуры прохожих, бурлило движение. Она постояла на ступенях, все еще не совсем пробудившись. Мимо проехал омнибус, и в глаза бросилась знакомая реклама: «Международная хлеботорговая компания, питательный хлеб».
Наконец, опомнившись, она торопливо пошла к ожидавшему ее автомобилю.
3
Автомобиль быстро и плавно мчал ее по набережной к решетке Черринг-Кросса, за которым вдали, едва различимые на фоне заката, серели башни парламента, и мало-помалу она снова начала думать о своих затруднениях. Но они уже не казались ей чем-то огромным, невероятно важным, опутавшим и связавшим ее по рукам и по ногам, как это было, когда она вошла в собор. Теперь, под куполом вечернего неба, они казались совсем маленькими, даже в сравнении с серыми домами справа от нее и залитой теплым светом рекой слева, с бесчисленными темными баржами, с непрерывно бегущими трамваями, с потоком людей, со всем этим оркестром человеческой жизни, который звучит там так громко. Она сама казалась себе маленькой, потому что прикосновение красоты спасает нас от самих себя, превращает нас в богов, дает нам власть над нашим ничтожеством. Машина проехала по железнодорожному мосту в Черринг-Кросс, откуда видны квадратные стены Вестминстера с остроконечными башенками, уходящими высоко в небо, поднялась на невысокий склон и, обогнув Парламентскую площадь, вскоре снова выехала на набережную, а вдали на золотом фоне заката чернели дымящиеся трубы Челси. Оттуда она проехала на Фулхем-роуд, где небо вдруг скрылось, словно задернулся занавес, а потом – на оживленный мост в Путни и дальше по шоссе к дому.
Снэгсби вместе с новым лакеем, худым, бледным, рыжеволосым молодым человеком, встретил ее почтительно и вертелся вокруг, всячески стараясь ей услужить. На столе в прихожей лежали три или четыре не очень важные визитные карточки, несколько официальных извещений и два письма. Она бросила извещения в корзинку, специально для них поставленную, и вскрыла первое письмо. Письмо было от Джорджины; длинное, на нескольких листках, оно начиналось так:
«До сих пор отказываюсь верить, что ты не хочешь помочь мне стать генеральным директором твоих общежитий и выдвинуться на этом посту. Я еще могла бы это понять, будь у тебя самой время или необходимые способности; но у тебя ничего этого нет, и ты, как собака на сене, лишаешь меня возможности, которой я ждала всю жизнь…»
Леди Харман отложила это письмо, решив дочитать его потом, взяла второе, адрес на котором был надписан незнакомой рукой. Оказалось, что письмо от Элис Бэрнет, оно было написано размашистым почерком и необычайно многословно, как бывает, когда не очень образованный человек, волнуясь, излагает сложное дело. Но вся суть была изложена в самом начале письма – Элис выгнали из общежития.
«Мои вещи выбросили на улицу», – писала она.
Тут леди Харман заметила, что Снэгсби все еще не ушел.
– Сегодня приезжала миссис Пемроуз, миледи, – сказал он, обратив наконец на себя ее внимание.
– И что же?
– Она спрашивала вас, миледи, а когда я сказал, что вас нет дома, спросила, нельзя ли ей повидать сэра Айзека.
– И повидала?
– Сэр Айзек принял ее, миледи. Они пили чай у него в кабинете.
– Жаль, что меня не было, – сказала леди Харман, подумав.
Она взяла оба письма и поднялась по лестнице. Все еще с письмами в руке она вошла в кабинет мужа.
– Не зажигай света, – сказал он, когда она протянула руку к выключателю.
Голос был раздраженный, но лица сэра Айзека она не видела, потому что он сидел в кресле, повернувшись к окну.
– Как ты себя чувствуешь сегодня? – спросила она.
– Хорошо, – буркнул он сердито.
Когда справлялись о его здоровье, ему, казалось, это было так же неприятно, как и полное безразличие.
Она подошла к окну и выглянула из темной комнаты в сад, где под красноватым небом сгущались сумерки.
– У миссис Пемроуз опять неприятности с девушками, – сказала она.
– Она мне говорила.
– Она была здесь?
– Битый час просидела.
Леди Харман попыталась представить себе, о чем они разговаривали весь этот час, но не могла. Она перешла к делу.
– Мне кажется, она… допустила произвол…
– Не удивительно, что тебе так кажется, – сказал сэр Айзек, помолчав.
В его тоне было столько враждебности, что она испугалась.
– А тебе нет?
Он покачал головой.
– Мои взгляды и твои взгляды или, во всяком случае, те, которых ты откуда-то нахваталась… не знаю, уж откуда… одним словом, наши взгляды не сходятся. Надо как-то навести порядок в этих общежитиях…
Она поняла, что он уже подготовлен.
– Мне кажется, – сказала она, – что миссис Пемроуз вовсе не наводит там порядок. Она притесняет девушек и вызывает недовольство. Внушила себе, что некоторые девушки настроены против нее…
– А ты себе внушила, что она настроена против некоторых девушек…
– Но ведь она, по сути дела, их выгоняет. А одну буквально выбросила на улицу.
– Это необходимо. Приходится кое-кого выгонять. Если все время гладить их по головке, общежития развалятся. Бывают такие смутьяны и смутьянки. Это они устраивают стачки, шумят, разжигают недовольство. От таких надо избавляться. Надо подходить к делу трезво. Нельзя управлять общежитиями, если голова набита всякими нелепыми идеями. От этого добра не жди.
Слова «нелепые идеи» привлекли на миг внимание леди Харман. Но она не могла выяснить, что под ними разумелось, так как нужно было продолжить деловой разговор.
– Я хочу, чтобы в таких случаях спрашивали моего мнения. Уже многих девушек выселили…
Силуэт сэра Айзека оставался непреклонным.
– Она знает свое дело, – сказал он.
Тут он, видимо, почувствовал потребность как-то оправдаться.
– Они не должны устраивать беспорядки.
Некоторое время оба молчали. Леди Харман с волнением начала понимать, что дело обстоит гораздо серьезней, чем ей казалось. Она думала лишь о том, чтобы вернуть Элис Бэрнет, не понимая, к чему все это может привести, а ведь главное было в том, что она недооценивала миссис Пемроуз.
– Я не допущу, чтобы выселили хоть одну девушку, прежде чем сама не разберусь, в чем дело. Это… это очень важно.
– Она говорит, что не может руководить делом, если у нее нет власти.
И опять оба замолчали. Ее охватило беспомощное чувство обиды, как обманутого ребенка.
– Я думала… – начала она, – эти общежития… – Голос ее осекся.
Сэр Айзек стиснул подлокотник кресла.
– Я построил их, чтобы сделать удовольствие тебе, – сказал он. – Тебе, а не твоим друзьям.
Она посмотрела ему в лицо, серевшее в полумраке.
– Я построил их не для того, чтобы ты забавлялась с этим Брамли, – добавил он. – Теперь ты знаешь, в чем дело, Элли.
Она была застигнута врасплох.
– Как же это!.. – сказала она наконец.
– «Как же!» – передразнил он ее.
Она стояла, не шевелясь и даже не пытаясь найти выход из этого невероятного положения. Он первый прервал молчание. Его рука поднялась, потом снова упала, глухо стукнув о подлокотник.
– Эти общежития принадлежат мне, понятно? – сказал он. – И, что бы ты ни говорила, там необходимо навести порядок.
Леди Харман ответила не сразу. Она лихорадочно подыскивала слова и не находила их.
– Неужели ты думаешь… – проговорила она наконец, – неужели ты действительно думаешь…
Он снова отвернулся к окну. Ответ его прозвучал необычайно рассудительно:
– Я построил эти общежития не для того, чтобы там распоряжались ты и твой… друг.
Эти слова прозвучали решительно, как ультиматум.
– Но он только потому мой друг, что старается помочь в делах общежитий.
Мгновение сэр Айзек, казалось, взвешивал это. Но потом снова вернулся к своему предубеждению.
– Господи! – воскликнул он. – Какой же я был дурак!
Она сочла за лучшее пропустить это мимо ушей.
– Для меня эти общежития важнее всего на свете, – сказала она. – Я хочу, чтобы все наладилось и было хорошо… И потом… – Он слушал молча и недоверчиво. – Мистер Брамли для меня всего только помощник. Он… Как ты мог подумать такое, Айзек? Про меня! Как ты посмел? Как ты мог допустить мысль?..
– Прекрасно, – сказал сэр Айзек и по своему обыкновению присвистнул сквозь зубы. – Если так, распоряжайся общежитиями без него, Элли, – предложил он. – Тогда я тебе поверю.
Она поняла, что он хочет испытать ее и предлагает сделку. Ей представился мистер Брамли, такой, каким она видела его в последний раз, в коричневом костюме и галстуке, чуть съехавшем набок, – он тщетно протестовал против такой несправедливости.
– Но мистер Брамли так помогает мне, – сказала она. – И он такой… безобидный.
– Все равно, – сказал сэр Айзек, тяжело дыша.
– Но разве можно вот так, ни с того ни с сего, отвернуться от друга?
– По-моему, никакие друзья тебе не нужны, – сказал сэр Айзек. – Ведь он был безропотным… рабом.
– Я и не спорю, он хороший, – продолжал сэр Айзек все тем же неестественно рассудительным тоном. – Но… он не будет управлять моими общежитиями.
– Что это значит, Айзек?
– А то, что ты должна сделать выбор. – Он помедлил, видимо, ожидая ответа, потом продолжал: – Вот что я тебе скажу, Элли: мне этот Брамли осточертел. Да, осточертел. – Он снова помолчал, переводя дух. – Если ты хочешь по-прежнему заниматься общежитиями, пускай он – фью! – катится ко всем чертям. Тогда, если тебе угодно, пускай эта самая Бэрнет вернется и торжествует… конечно, миссис Пемроуз плюнет и уйдет, но, говорю тебе, я согласен… Но только, чтоб и духу – фью! – да, и духу этого твоего мистера Брамли не было, чтобы я о нем больше не слышал, и ты чтобы о нем тоже не слышала… Как видишь, я поступаю очень разумно и проявил редкую терпимость, хотя люди… люди болтают о тебе на каждом углу. Но есть… есть предел… Ты дошла бог весть до чего… и если б я не был уверен, что ты не виновата… в этом смысле… но я не хочу больше говорить об этом. Довольно, Элли.
Казалось бы, она давно ожидала этого. Но, несмотря ни на что, он все же застал ее врасплох, и она не знала, как быть. Ей одинаково сильно хотелось сохранить и мистера Брамли и общежития.
– Но, Айзек, – сказала она. – Что ты подозреваешь? Что ты выдумал? Мы с ним старые друзья… Как могу я вдруг все порвать?
– Не прикидывайся наивной, Элли. Мы с тобой отлично понимаем, что бывает между мужчиной и женщиной. Я не говорю, будто знаю… то, чего не знаю. Я не говорю, что ты меня обманываешь. Но только…
И вдруг его раздражение вырвалось наружу. Он потерял власть над собой.
– К черту! – закричал он, и дыхание его, и без того тяжелое, участилось еще больше. – Это надо прекратить! Как будто я ничего не понимаю! Как будто не понимаю!
Она хотела возразить, но он слова не давал ей вставить.
– Это надо прекратить. Прекратить. Конечно, ты ничего не сделала, конечно, ты ничего не понимаешь и не думаешь… Но я болен… И ты нисколько не пожалеешь, если мне станет хуже… Ты можешь ждать, у тебя есть время… Есть… Ладно же! Ладно! Вот ты нарочно сейчас споришь, доводишь меня до бешенства. Хотя знаешь, я от этого могу задохнуться… Это надо прекратить, говорю тебе… прекратить!.. – Он стукнул кулаком по подлокотнику кресла и схватился за шею. – Вон! – крикнул он. – Ко всем чертям!
4
Не знаю, кто мой читатель – человек решительный или же представитель новой породы людей, постоянно одолеваемых сомнениями; в последнем случае ему легче будет понять, как получилось, что леди Харман в следующие два дня бесповоротно приняла два прямо противоположных решения. Она решила, что ее отношения с мистером Брамли, при всей их невинности, придется прекратить в интересах дела и во имя победы над миссис Пемроуз, и не менее твердо решила, что неожиданный запрет мужа – это возмутительная тирания, которой необходимо горячо сопротивляться. Она с удивлением обнаружила, что мысль о расставании с мистером Брамли не укладывается у нее в голове. Но прежде чем прийти к столь рискованному заключению, ей пришлось пробиться сквозь настоящие джунгли противоречивых мыслей и чувств. Когда она думала о миссис Пемроуз, и в особенности о том, что вероятнее всего это она настроила мужа против мистера Брамли, ее возмущение вспыхивало с новой силой. Миссис Пемроуз представала перед ней как настоящая злодейка, воплощение шпионства, хладнокровного предательства и коварства, как средоточие всех зол власти и бюрократизма, и ее, как огромная волна, захлестывало чувство ответственности за всех этих непокорных, слабых и таких милых молодых женщин, которые подталкивали друг друга локтями, пересмеивались, были виной всяких недоразумений, совершали ошибки и старались наладить свою жизнь под властным и беспощадным гнетом миссис Пемроуз. Она должна была выполнить свой долг перед ними, долг, который превыше всего другого. И если для этого надо отказаться от неизменной помощи мистера Брамли, неужели это слишком большая жертва? Но едва она решила так, все началось сначала, и она снова с возмущением задавала себе вопрос: как может кто бы то ни было запретить ей дружбу, которая была такой честной и невинной? И если сегодня она согласится на это возмутительное требование, какие новые запреты навяжет ей сэр Айзек завтра? А тут еще его болезнь так все осложняла. Она не могла пойти и поговорить с ним начистоту, не могла прямо бросить ему вызов, потому что у него сразу начался бы приступ удушья…
Поэтому леди Харман заключила, нелогично, но вполне естественно, что, каким бы ни было ее решение, она должна сама сообщить его мистеру Брамли. Она назначила ему по почте свидание в Кью-гарденс и благоразумно поехала туда не в своем автомобиле, а на такси. Оба бесповоротных решения так уравновесились у нее в голове, что по дороге в Кью-гарденс дважды перевешивало то одно, то другое.
Приехав в парк, она почувствовала, что ей совсем не хочется объявлять ему ни то, ни другое решение. Она была так рада видеть мистера Брамли; он пришел в новом светло-коричневом костюме, который был ему очень к лицу, день выдался теплый и ясный; день лилий, нарциссов и эдельвейсов; деревья ярко зеленели, солнце сияло, и ее дружеские чувства к мистеру Брамли незаметно слились с весенним трепетом природы и солнечным светом. Они вместе пошли по ярко-зеленой лужайке, охваченные беспричинной радостью, шепотом восторгаясь поразительным совершенством творения, которое садовники нам в назидание выставили в самом выгодном свете, и душа у леди Харман совсем не лежала к делу, которое привело ее в парк.
– Давайте собирать нарциссы в роще у реки, – предложил мистер Брамли, и было бы просто нелепо отказаться от этого удовольствия, прежде чем решать роковой вопрос, который не давал ей покоя: подчиниться ли неодолимой силе или же упорно сопротивляться ей?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.



![Книга Удовлетворение гарантировано [Будете довольны] автора Айзек Азимов](/books_files/covers/thumbs_100/udovletvorenie-garantirovano-budete-dovolny-27936.jpg)
![Книга Гарантированное удовольствие [Будете довольны] автора Айзек Азимов](/books_files/covers/thumbs_100/garantirovannoe-udovolstvie-budete-dovolny-27935.jpg)