Текст книги "Мое кино"
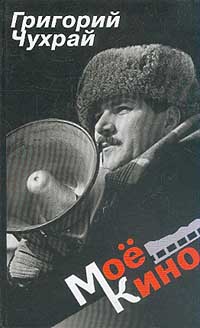
Автор книги: Григорий Чухрай
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
«Я научу вас мечтать»
Я очень любил Марка и Ирину Борисовну. Всю жизнь мы с моей Ириной хранили им благодарность. И уже в восьмидесятые годы мне посчастливилось сделать фильм о Донском. Фильм назывался «Я научу вас мечтать».
Сначала картину смонтировали два других режиссера. Показали в комитете, но комитет счел, что картина не сложилась. Тогда я сказал:
– Я смонтирую этот фильм.
И комитет согласился.
Это была монтажная картина с небольшими досъемками. Я остался ею доволен. (Разумеется, я указал себя в титрах лишь в качестве соавтора двух начавших эту работу и, на мой взгляд, хороших и честных людей).
...Многие называли Донского «городским сумасшедшим». А мы знали его просто как очень незащищенного и ранимого человека. Марк был эмоциональным, часто его заносило в непредвиденном направлении. Но это был прекрасный человек и талантливый художник, снимавший по-настоящему хорошие фильмы. Обо всем этом я рассказал в своей картине «Я научу вас мечтать».
Самсон
Однажды – это было еще в Киеве, Марк Семенович был тогда на выборе натуры – к нам зашел коренастый, небольшого роста старик.
– Здравствуйте, я Самсон. Самсон Донской. Вы не знаете, где Маркуша?
– Он на выборе натуры. Вернется часа через два, – сказал я и предложил подождать у нас дома.
Старик оказался общительным.
– Я Самсон, отец Марка. Меня в Одессе все знают. Вы в Одессе бывали? Да. Тогда вы знаете дом Бейлиса. Нет, не знаете? Так я его строил. Я каменщик, и узкоколейку я строил, и печи клал. Меня считали лучшим печником. Я в Москве Сталину печь сложил, и он даже передал мне благодарность и 25 рублей. Тогда это были большие деньги!
– Вы и со Сталиным встречались?
– Нет, лично с ним я не встречался, но с начальником его охраны встречался. Так этот охранник передал мне благодарность Сталина и 25 рублей. Он, начальник, был хорошим человеком, но строгим. Он мне сказал: «У нашего начальника в кабинете нужно сложить хорошую печь». Тогда Сталин был не таким большим начальником. Тогда – Троцкий. А кабинет Сталина находился на втором этаже, где ГУМ.
– Интересно, расскажите об этом подробнее... – Меня и просто как человека и как режиссера всегда интересовала личность Сталина.
– Так начальник охраны – там было много начальников, а этот был одессит, – он меня знал. В Одессе все меня знали. Говорит: надо сложить для нашего шефа хорошую печку. Ну, для меня это знакомое дело. Вы знаете, сколько я в своей жизни сложил печей? И все были довольны. Ну, сложил я печь. Но для хорошего горения нужен же кислород. Так я врезал в окно форточку. Когда товарищ Сталин увидел эту форточку, он послал своего охранника посмотреть, видна ли эта форточка снизу. Охранник посмотрел и доложил Сталину, что форточка снизу не видна. Я врезал ее там, где был переплет, – внизу. Сталин успокоился: он думал, что по форточке узнают, где его кабинет и будут стрелять. Но теперь он успокоился, велел мне передать благодарность и 25 рублей!
...Прошло несколько лет после этой моей встречи с Самсоном Донским, и однажды, волею обстоятельств оказавшись на бывшей даче Сталина, я снова вспомнил рассказанную им историю.
В самом начале съемок «Баллады о солдате» у меня случилась неприятность: на съемках меня сбила машина. Оказались переломаны ключица и голеностопный сустав.
После съемок меня послали долечиваться в санаторий на Валдае. Раньше это была дача Сталина, теперь в ней устроили санаторий, но переделать и внутри и снаружи ничего еще не успели.
Санаторий был окружен колючей проволокой, высокой стеной и сторожевыми вышками, какими были снабжены места заключения. За первым забором находился второй забор, такой же высокий, как первый. Между этими заборами помещалась охрана, а уже за ними – санаторий. Здесь было несколько строений, а в самом центре располагались облицованные ореховым деревом апартаменты Сталина. В них жили министры. В комнатах для гостей – замы. И дальше все по чинам. Мое появление в санатории произвело некоторое замешательство среди администрации: где же по чину можно меня поместить? Чтобы облегчить им задачу, я вызвался жить там, где жила охрана.
Меня всегда интересовала личность Сталина, и я стал расспрашивать о нем обслугу. Мне показали лодку, в которой Сам плавал по озеру. Одна последняя скамейка в этой лодке имела отверстие: на случай, если вождь захочет справить нужду.
Зайдя в бильярдную комнату, я с удивлением увидел, что в нее ведут 6 дверей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что двери вели в туалетные комнаты. Или медвежья болезнь, подумал я, или камуфляж, чтобы запутать противника.
– И много ли раз товарищ Сталин сюда приезжал? – поинтересовался я.
– Один только раз, – был ответ. – Товарищ Сталин сказал: «Хорошая дача, только много комаров... Подарим ее товарищу Жданову». И подарил.
Я работаю
...Но вернемся в Киев.
Работа у Брауна закончилась. В последнее время отношение ко мне на студии переменилось. Возможно, этому способствовали хорошие отзывы обо мне, а возможно, приезд моего шестилетнего сына Павлика. Оказалось, что он говорит только по-украински (он долго жил у бабушки с дедушкой в украинском селе). Короче говоря, меня признали своим.
Какое-то время я поработал ассистентом у режиссера Лапокныша. Он снимал фильм об украинской самодеятельности. Лапокныш поручил мне поехать в Дрогобыч и снять там один самодеятельный номер. Я выполнил это задание, возвратился в Киев и попал на партийное собрание...
Лапокныша осуждали за «политическую близорукость». В материале, который он показал худсовету, был один номер, снятый на фоне спелой пшеницы и голубого неба.
– Это же жовто-блакитный флаг! Это же политическая диверсия! – возмущался Тымиш Васильевич Левчук. Он был в то время секретарем парторганизации студии и бдительно охранял идейную чистоту в фильмах вверенной ему студии.
Лапокныша от фильма отстранили и на его место поставили политически грамотного – Левчука. Говорили, что за такой фильм возможна правительственная награда, и Левчук не хотел упустить такой возможности.
Он пришел на съемку, как хозяин, снял плащ и осмотрелся вокруг – куда бы его повесить... Не найдя подходящего места, скомандовал:
– Вешалку!
Группа сорвалась с мест, и начались поиски. Скоро появился администратор съемочной группы со стоячей вешалкой. Левчук, повесив свой плащ, спросил прокурорским тоном:
– Фамилия?
Тот ответил.
– Вы уволены! – сказал грозный Левчук и, сев в режиссерское кресло, обратился к Лапокнышу.
– Шо знимаемо?
– Воны спивают, а мы отъезжаем, отъезжаем, – наклонившись над ним, униженно отвечал Лапокныш.
Левчук, подумав, сказал:
– Ни, хай воны спивають, а мы будемо наезжать.
Так либеральная всласть в группе переменилась на диктатуру... Переменился кардинально и творческий метод: вместо отъезда был предложен наезд.
Ивченко
На Киевской киностудии появился Виктор Илларионович Ивченко, талантливый театральный режиссер. До этого он работал во Львове главным режиссером украинского театра.
Его поместили в общежитии, в комнате рядом с нашей. Когда он проходил мимо нашей двери, маленький Павлик прекращал игры и испуганно шептал: «Ивченко!.. Ивченко!..» (Мы опасались, что Ивченко отберет у нас нашу комнатку.)
Однажды Ирина Борисовна Донская дала Павлику медный таз и показала ему, что, если бить по нему деревянной скалкой, он издает сильный, долго не замолкающий звук. Павлик пришел в восторг. Он бил в медный таз и был счастлив.
Пришел домой Марк Семенович, Павлик ушел в свою комнату и там продолжал барабанить. Вдруг на пороге комнаты появился Ивченко. Павлик застыл в испуге.
– Мальчик, – сказал Ивченко с виноватой улыбкой, – я работал всю ночь и хочу поспать. Ты сейчас не стучи, а потом, когда я уйду, будешь продолжать. Хорошо?
Ивченко учился кинематографу, ходил на съемки, беседовал с Марком Донским, с нами – вгиковцами. И всегда делал это скромно, тактично, достойно. Скоро его все полюбили.
– ...Я не знаю, какие нравы у вас в кино... – сказал как-то Виктор Илларионович, беседуя с Марком Донским. – Мне поручили снимать «Назара Стодолю». Я ставил этот спектакль во Львове. Он пользовался успехом. А Левчук, который хотел снять «Назара» еще до меня, отдал мне тоненькую школьную тетрадку, со своими заметками, совершенно ненужными мне, и сказал, что я должен отдать ему половину гонорара. Что это, так у вас полагается?
Донской был возмущен.
– Левчук вымогатель! – кричал он. – Это безобразие и произвол! Он пользуется своим положением! Он спекулянт!
Донской высказал еще много других, отнюдь не лестных эпитетов в адрес Левчука. Я был с ним согласен. Я не любил Левчука.
Я помнил, что когда хоронили Эйзенштейна, Пырьев, возмущенный выступлением Левчука, начавшего свою речь на панихиде словами «у покойника были ошибки», буквально стащил его с трибуны.
У Левчука вообще была страсть выступать на похоронах.
Когда хоронили Игоря Савченко, он говорил:
– Шумить вечно молодая Москва. Но вiн вже не пройде по цiх вулицах, не усмихнетсься своей ласкавой усмишкой. Женщины плакали.
Когда хоронили в Киеве Брауна, он говорил:
– Шумить вечно молодой Киев, но вiн вже не пройде по цiх вулицях, не усмихнетсься своей ласкавой усмишкой.
И опять домработницы плакали.
Ивченко предложил мне поработать на его фильме вторым режиссером. Я согласился.
Работалось мне с ним хорошо. Он всегда был корректен с актерами, и актеры его любили. Я тоже полюбил его и всеми силами старался помочь ему. Но все же я был плохой помощник: все время отвлекался, думал, как бы я снял этот фильм, если бы сам был режиссером, и порой забывал о своих прямых обязанностях. А Ивченко был ко мне, как, впрочем, и ко всем, снисходительным.
После съемки мы с Виктором Илларионовичем обычно отравлялись в ближайший гастроном, покупали бутылку водки, искали третьего – в те времена, в плане борьбы с алкоголизмом, были запрещены закусочные. Приходилось покупать бутылку и где-то в сторонке выпивать ее «на троих». Так мы и поступали.
Каюсь, в то время я мало занимался семьей. Ирина несла все заботы и тяготы быта. Она вела хозяйство, воспитывала Павлика. Я же благодаря ей мог заниматься профессией. Безусловно, это было с моей стороны эгоистично, но мы считали такое разделение функций в семье нормальным.
Я боролся за право самому снимать фильмы. Это была страсть, захватившая меня целиком. Впрочем, так жили и Донской и многие известные мне режиссеры. Кинематограф той поры требовал полной отдачи.
Гоголи и щедрины
Между тем в стране происходили перемены. Не помню, кто именно из новых вождей, кажется Маленков, в одном из своих выступлений бросил сакраментальную фразу: «Нам нужны Гоголи и Салтыковы-Щедрины...». И вот меня вызывает директор студии С. В. Пономаренко.
– Чухрай, вы ж слыхали, что нам теперь нужны гоголи и... как их там?..
– Слыхал. Гоголи и щедрины.
– Так надо ж откликнуться!.. Вы человек молодой, способный, вам пора самостоятельно снимать. Хотите снять сатирический фильм?
– Конечно!
– Так вот, – продолжал Пономаренко. – Макивчук, редактор «Перца», написал фельетон. Угадал, горбатый черт, как в воду смотрел... Поезжай к Макивчуку и скажи, что тебе поручили снимать фильм по его фельетону. Договорись с ним и срочно начинай работу. А то ленинградцы уже снимают и казахи тоже. А ты ж знаешь, как у нас: дорога ложка к обеду... Ну, так поезжай и по-партийному, по-молодому приступай.
Я был рад неожиданному предложению.
В то время желание снимать самостоятельно буквально съедало наши, вгиковцев, души. Мы считали, что любая тема нам по плечу. Через полчаса я уже был в редакции «Перца».
Макивчук оказался небольшого роста горбуном.
– Чухрай?.. Что-то я такого режиссера не знаю... – сказал он знакомясь. – Ты, конечно, не читал нашего «Барабульку». Я напечатал его еще в прошлом году... Там очень смешно!.. Позовите Гроху. Хай зайдет! – обратился он к секретарю.
Появился Гроха – большой, с мрачным выражением лица, мужчина. Макивчук указал на меня и представил:
– Чухрай... Слыхал ты про такого режиссера? Нет? Я тоже... Будет ставить в кино нашего «Барабульку». У тебя есть экземпляр номера?
– Нет, – ответил Гроха басом. – Один у Мыколы Тарасовича, второй у ЦК, а третий ты приказал отослать на студию к Пономаренку.
– Добре, возьмешь у Пономаренко, – сказал Макивчук мне и продолжал: – Очень современный фельетон! Это я тебе говорю без скромности... Там, значит, Барабулька. По специальности он агроном, а работает в министерстве. Вышло постановление – ты ж помнишь? – всех агрономов послать на село. Барабулька испугался. Жена его, конечно, в слезы: «Не поеду коровам маникюр делать!» Она была маникюрша. – Макивчук рассмеялся смехом недоброго человека и продолжал: – А он стал успокаивать жену. Гроха, что он ей говорил?
– Шо он поговорит с Мыколаем Даниловичем и его не пошлют.
– Ну да, – подтвердил Макивчук. – Сатира на приятельские отношения. Но ты, Чухрай, не бойся, там все как надо.
– Я не боюсь.
– А это напрасно! Ты не опытный, а мы старые журнальные волки... Знаем, что к чему! Гроха, что потом?
– Потом Барабулька пришел на базар. Там колхозники продают кур. Барабулька посмотрел одну, другую и говорит: «Не так кормите птицу». А колхозница отвечает: «Если вы так хорошо все знаете, приезжайте в село и научите нас, темных».
– Вот именно, – перехватил инициативу Макивчук.
– У Барабульки от такого предложения сразу подскочило давление. Хи, хи, хи! Жена говорит: «Надо есть алоэ». А у них на окне росло как раз алоэ...
– В горшке, – продолжал Гроха. – Барабулька схватил горшок с алоэ и стал есть прямо с горшка...
– Зритель умрет со смеху! – дополнил Макивчук. – Ну, дальше рассказывать не будем. Прочтешь... Только скажи своему хромому, что за тридцать тысяч мы писать сценарий не будем. Нас же двое. Это ж пятнадцать тысяч каждому. А тема актуальная. Мы так не согласны.
Возвращаюсь на студию, получаю журнал с рассказом о Барабульке, передаю Семену Васильевичу требования Макивчука.
– Горбатый черт! – возмутился хромой Пономаренко. – Где у него партийная совесть! Ему мало тридцать тысяч! Сейчас я ему... – Он решительно хватает трубку телефона и набирает номер. – Макивчук?.. Да знаю, – начинает он на высоких тонах. – Сказал. Он сейчас сидит у меня… Что?.. Ты ж руководитель журнала, я тоже ру... Что?.. Знаю, что вас двое, но сценарий-то один... Что?.. Та не кричи, слушай, слушай. Это же незаконно! Вам тридцать тысяч, ему триста пятьдесят... Та не кричи, не кричи. Не тысяч, рублей! Что?.. – Долгая пауза. Слушает и уже примирительным тоном: – Ну, добрэ, добрэ! Плачу тридцать пять. Да, на двоих... – Опять долгая пауза. Слушает. – Не кричи. Нет, не грабеж. Ты руководитель и я руково... – Опять долгая пауза. – Добрэ, за актуальность даю сорок тысяч... Чухрай? Я же уже сказал ему… Да, что работа срочная... – Подмаргивает мне, как соучастнику. – Понимаю... Да, здоровье прежде всего! Нет, я – в Гурзуф... Нет, у жены печенка. Она в Железноводск... А твоя дружина с тобой? Нет?.. Я же сказал: сорок тысяч... Ну, как говорится, с богом!.. Бывай!
Кладет трубку, вытирает тыльной стороной ладони пот со лба и говорит мне, ища сочувствие:
– Дипломатия!
Я начинаю работать.
Работа не клеится. Предлагаю авторам варианты, чтобы не было пошло, – не соглашаются. Ругаю себя за то, что согласился. Думаю, как отказаться. А тут звонит секретарь студии. Просит зайти к директору. Думаю: «Будет скандал. Но лучше сейчас скандал, чем снять плохой фильм. Откажусь!»
Захожу в кабинет.
– Слушай, Чухрай! Ты ж молодой человек, зачем тебе портить свою биографию? – говорит с ходу Пономаренко.
– А что такое?
– Ленинградцев уже раскритиковали, казахов наказали за клевету. Нам с тобой только этого не хватало!
«Повезло», – радуюсь я, но на всякий случай спрашиваю.
– Так что? Нам уже не нужны гоголи-щедрины?
– Выходит, что не нужны. И правильно! Жили без них до сих пор, проживем и дальше...
У меня как гора с плеч свалилась. Так у меня всегда: сам ли я ввяжусь в историю или попаду не по своей вине, провидение спасает меня. И во время войны, и в мирное время, когда, казалось бы, нет выхода, судьба словно сама предлагает выход.
После этого я чуть не поставил экранизацию по нашумевшей в Киеве сатирической пьесе драматурга Василия Минько.
Пьеса была удачная и злая. Мне она нравилась. Нас, драматурга и меня, вызвали в ЦК КПУ и благословили на постановку. На радостях мы спустились в буфет, чтобы отметить удачу. В буфете ничего не оказалось, кроме шампанского и коньяка. Пили шампанское, закусывали коньяком, угощали каких-то незнакомых людей, собравшихся вокруг нас. Потом помню все, что было, кусками.
Мы на квартире у Минько. Он достает из холодильника (холодильник тогда был большой редкостью) бутылку водки. Рядом стоит жена Василя, она плачет...
Потом я на вокзале, подсаживаю Минько в вагон. Поезд трогается...
До студии я добрался на четвереньках…
Потом я в нашем общежитии, и Виктор Илларионович Ивченко, подставив мою голову под кран, пытается привести меня в чувство...
На следующий день пришла телеграмма. Протрезвевший Минько телеграфировал из Москвы, что он сидит на вокзале без копейки денег и не помнит, как он там очутился.
Не знаю, по какой причине, но и эта постановка сорвалась.
В народе появились чьи-то стихи.
Салтыковы-Щедрины
Нам послушные нужны.
И такие гоголи,
Чтобы нас не трогали.
...Но слова, сказанные Пономаренко, о том, что мне пора снимать самостоятельно, по-прежнему не давали мне покоя. «Хорошо бы сейчас заняться сценарием для души», – думал я.
«Сорок первый»
Однажды я рассказал своему другу Борису Немечеку несколько историй из моей военной биографии. Он был хорошим слушателем, а я еще не остыл от войны.
– Тебя тянет в романтику, – сказал он. – Взял бы и поставил одну из этих историй.
– Они слишком личные. Это почему-то мне мешает, – возразил я.
Немечек задумался, потом сказал неожиданно:
– Знаешь, что тебе надо поставить? «Сорок первый» по Лавреневу!
Сердце мое дрогнуло.
Где-то, я уже не помню где, Л. Н. Толстой сказал, что если полюбишь женщину, потом охладеешь к ней, а потом поймешь, что не можешь без нее жить, – это настоящее. Нечто подобное произошло и со мной.
Мне было лет семнадцать, когда я впервые прочел эту повесть.
Зимой 1943 года я был третий раз ранен. Ранение было серьезное: большой осколок снаряда попал в правую лопатку, пробил шинель, заячий жилет, гимнастерку и частично проник в легкое. В прифронтовых госпиталях мне оказывали помощь, но операцию делать отказывались: не было нужного оборудования. Так я попал в конце концов в Челябинск. Челябинск был тогда глубоким тылом, там даже не было затемнения. Меня наконец оперировали – вытащили осколок, и я стал поправляться.
Библиотекарь принесла мне на выбор несколько книг. Среди них оказалась книга с рассказами и повестями Бориса Лавренева. Повесть «Сорок первый» произвела на меня глубокое впечатление. Писатель, его отношение к жизни, были мне не только симпатичны, но в чем-то даже родными по духу. Я перечитывал повесть несколько раз и думал. Думал над проблемами войны вообще и гражданской войны в частности. Благо времени для размышлений было достаточно.
Трагическая судьба красноармейки Марютки, влюбившейся в своего врага – белого офицера, а потом застрелившей его, сегодня может показаться неправдоподобной, но у войны свои законы, которые непонятны тем, кто этого ада не прошел.
В повести все закономерно: Марютка полюбила Говоруху-Отрока потому, что он был красив, умен, смел, и потому, что, оставшись с ним наедине, она перестала видеть в нем врага. Но когда появилась угроза того, что он станет частью враждебной ей силы, девушка произвела свой роковой выстрел – и этот выстрел был столь же закономерен в обстановке гражданской войны, как и ее любовь.
На фронте я понял, что войны ведутся не между умными и дураками, не между подлецами и благородными героями, а между людьми разных убеждений, преследующих разные цели. Мне доводилось говорить с пленными немцами. Я видел, что многие из них вовсе не изверги. Но война поставила нас по разные стороны фронта, и я стрелял в них, а они – в меня. Каждый немецкий солдат, независимо от его личных качеств – он мог быть и добрым, и умным, и любящим сыном своих родителей, – был частью той злой силы, которую я ненавидел. Он пришел на нашу землю, чтобы завоевать ее, а нас – мою маму, мою любимую девушку, моих друзей, всех, кто был мне дорог, – превратить в своих послушных рабов. И это не было пропагандой: все его слова и поступки свидетельствовали об этой цели. Он хотел отнять нашу культуру, наше искусство, наши убеждения, нашу мечту. За это я ненавидел немцев и стрелял в них. А они, добрые, порядочные аккуратные немцы, стреляли в меня, и если бы убили, гордились бы, что исполнили свой долг.
...Прошли годы. В институте кинематографии, в плане изучения истории советского кино, нам показали фильм «Сорок первый» режиссера Протазанова, снятый в 1924 году. Тогда он пользовался большим успехом.
Сейчас фильм разочаровал меня. Картина снималась с «классовых позиций», по которым все белые были негодяями, а все красные – благородными героями. Я, по своей войне, знал, что это не так, что негодяи бывают и с той и с другой стороны, – все дело не в человеческих качествах отдельных солдат, а в целях каждой из сторон.
Фильмы, как тот, о котором я начал думать теперь, после разговора с Борисом Немечеком, в те времена назывались фильмами «на скользкую тему». На такой теме можно было поскользнуться, упасть и больше не подняться. Я знал это. И тем не менее засел за сценарий. Я не мог поступить по-другому.
Получив передышку, я собрал прежние свои наброски, привел их в порядок, что-то дописал, и получился, как я полагал, хороший сценарий. Работать было трудно и радостно. Всем своим существом, всеми своими мыслями я погрузился в атмосферу тех лет. Я ощущал дыхание революции, жил ее страстями, с радостью ощущал свою причастность к ней. В ней было то, что мне по-настоящему дорого. Мне казалось, что я нашел себя.
Теперь мне казалось, что нет более актуальной и важной темы и что, прочитав мой сценарий, все редакторы и дирекция студии поймут это и тотчас же поручат мне снять этот фильм.
С большим волнением я предложил послушать сценарий Ивченко и Донскому – они согласились. Я начал читать неуверенно, но быстро увлекся и так дочитал до конца. Сценарий понравился обоим. Ивченко сказал, что ему было интересно слушать и он хотел бы посмотреть такой фильм. Донской был с ним согласен, но считал, что поставить его сейчас, да еще на этой студии, нельзя. Я решил рискнуть и отдал его на студию.
Но никто из редакторов не пришел от него в восторг, высказывались осторожные мнения: с одной стороны это интересно, но с другой стороны... Обескураженный, но все еще уверенный в своей правоте, я стал добиваться разговора с самим директором студии и наконец попал к нему на прием.
Через неделю Пономаренко вызвал меня. Когда я вошел в его кабинет, я увидел свой сценарий на его столе. Я взволновался, решив, что получу постановку. Но вместо этого директор по-отечески отчитал меня.
Посмотрев на титульный лист сценария, директор пожал плечами.
– Кто ж нам такое позволит?
– Да почему же не позволить? Фильм про революцию, про гражданскую войну. Романтический. Красивый!
– Что ж, я не читал «Сорок первого», – лениво возразил директор. – Средняя Азия, верблюды... Красная партизанка влюбилась в белого поручика... Послушайте, Чухрай, зачем вам с этим связываться? Вы ж молодой человек. Вам надо расти...
Тут я разразился тирадой относительно достоинств темы. Я говорил о ее актуальности, о ее поэтичности, о том, как красиво можно снять фильм и как дешево это обойдется студии; я говорил о том, что зритель устал от железобетонных героев со стальной арматурой вместо нервов; я призывал вернуться к «Чапаеву», «Машеньке», «Члену правительства».
Директор уныло слушал меня.
Он был незлым человеком и, вероятно, неплохо относился ко мне. Но у него были другие задачи, другие установки, другая система ценностей. То, что я предлагал ему, никак не вписывалось в эти рамки.
– Эх, Чухрай, Чухрай! – тогда-то и сказал он мне. – Вас же учили во ВГИКе, тратили народные деньги! Ну подумайте сами: зачем нам на Украине верблюды?
Что на это ответить, я не знал.
Директор наотрез отказался читать мой сценарий, а мне посоветовал думать, прежде чем являться с такими предложениями. Я ушел не солоно хлебавши.
Сначала, сгоряча, я говорил себе, что буду бороться, доказывать, спорить и добьюсь своего. Но потом, отрезвев, стал задавать себе вопросы. С кем я собираюсь спорить? Кому и что доказывать? Никто не обязан. Если когда-нибудь мне дадут самостоятельную постановку, то это будет актом величайшего доверия. Чем я заслужил такое доверие? Почему люди должны рисковать своим благополучием ради меня? Кто я такой? Что я сделал в кинематографе? Рассуждая таким образом, я постепенно пришел к «житейским мудростям»: стал убеждать себя, что так и должно было случиться, что я действительно зарвался, что для того, чтобы ставить такой фильм, как «Сорок первый», надо сначала заслужить. «Конечно, трудно расстаться со своей мечтой, – рассуждал я, – но лучше синица в руках, чем журавль в облаках. Пора взяться за ум и смотреть на жизнь глазами взрослого человека – надо найти себе реальный сценарий, добиться постановки и работать „как все“, а мечтания оставить на неопределенное время».
Моя надежда поставить «Сорок первого» не удалась, но я не отказался от своей мечты, надеялся, что еще представится случай.
Скоро меня снова вызвал Пономаренко и предложил мне должность второго режиссера на фильме «Триста лет тому». Приближался трехсотлетний юбилей объединения Украины с Россией – фильм был посвящен этому событию. Снимался он по постановлению ЦК КПСС. На него была выделена большая по тем временам сумма. Режиссерами фильма были назначены Т. В. Левчук и прекрасный комедийный украинский актер Крушельницкий. На фильме был и второй режиссер, но он почему-то не устроил Левчука. Назначили меня. Я согласился. Надо было получать зарплату и кормить семью.
– Вот это по-нашему: краще сiниця в жмени, ниж журавель в небi, – сказал Семен Васильевич.
– Левчук идет на сталинскую премию. И тебе что-то перепадет, – беззлобно шутил Донской.
В те времена такие картины неизменно получали награды.
Поначалу я по заданию своих режиссеров стал собирать историческое оружие и аксессуары. У людей были и старинные пистоли, и сабли, и песочницы, употребляемые триста лет назад как промокашки для чернил. Они просили за свои реликвии совсем небольшие деньги, но бухгалтерия разрешала покупать такие вещи только по перечислению, а люди не соглашались на это.
Как быть? С этим вопросом я обратился к Марку Донскому. Я всегда в затруднительных случаях обращался к нему за советом. А он давал советы, как правило, в виде притч, и притчи эти всегда начинались со слов:
– В Одессе был такой случай...
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































