Читать книгу "Мирович"
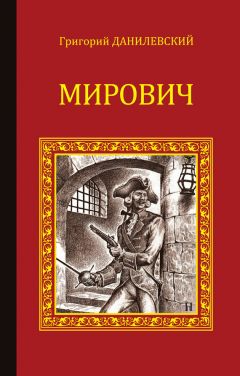
Автор книги: Григорий Данилевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXVI. Ночь в Пелле
С начала июля двор заняла новая весть. С часу на час ожидали возврата некогда главного пособника Екатерины, бывшего канцлера Бестужева-Рюмина.
Граф Алексей Петрович прибыл в Петербург «во всяком здравии и благополучии», вечером, двенадцатого июля. Государыня навстречу ему выслала, за тридцать верст вперед, нового действительного камергера, Григория Орлова, а также собственный придворный парадный экипаж. «Батюшку» Алексея Петровича, «с обнадежением всякого монаршего к нему благоволения», отвезли в летний ее величества, на Фонтанке, дворец, а оттуда, «по августейшем приеме, в нарочито для него приготовленный изрядный дом, где определили ему от двора стол, погреб и прочее всякое довольство».
Сподвижник в дипломатии великого Петра, пятнадцать лет первый министр Елисаветы, Бестужев был разжалован и сослан за смелую мысль удалить племянника последней за границу, а престол упрочить за Екатериной.
Семидесятилетний, сильно исхудалый, с длинной седой бородой и глубоко поставленными, острыми глазами, старик, войдя с Орловым в кабинет новой, напророченной им государыни, безмолвно у порога опустился перед нею на одно колено.
– Immobilis in mobili! – неколебимому среди смятенных! – дрогнувшим голосом, по-латыни, сказала Екатерина, вновь прикалывая графу снятую с него Елисаветой Александровскую звезду.
– Пресветлая, пресветлая! – произнес Бестужев, старчески всхлипнув и костлявой рукой ловя и целуя украшавшую его руку.
– Semper idein! – Всегда одинаковому! – продолжала Екатерина, взяв со стола цепь Андрея Первозванного и склонясь с нею к Бестужеву.
– Чем возблагодарю? Чем отслужу? – восклицал, безнадежно махая руками и склонив голову, худенький, с жидкой косичкой, старик.
– Возвращаю вам чины, – произнесла, приподняв графа, императрица, – с переименованием вас в генерал-фельдмаршалы, но тем не ограничусь… Манифест о вашей невинности – она мне доподлинно известна – будет обнародован беспродлительно… Не государыня, покойная моя тетка, – бесстыдный нрав ваших завистников и клеветников во всем прошлом виновны…
– Великая! Великая! Спасительница, матери отечества титло присуще тебе… я предложу, внесу, объявлю…
– Э, батюшка, Алексей Петрович, много еще допрежде того поработать надо нам с тобой во благо народа… Садись-ка, потолкуем о вашем здоровье. Сына тебе маво покажу; вырос… Позови, Григорий Григорьич, его высочество…
Орлов ввел белокурого, курносого, с миловидным лицом, робкого мальчика.
– Худенек, ох, худенек он у тебя, матушка государыня! – произнес Алексей Петрович, разведя руками и пристально оглядывая робкого бледного ребенка.
– Чем же, батюшка граф, он худ? Дитя, как дитя…
– Худ, ох, худ и тонкогруд! – ощупывая холодными, костистыми пальцами шею и руки Павла Петровича, продолжал Бестужев. – Кто, позволь, у тебя глядит за ним из лекарей-то, из лекарей?
– Фузадье и Крузе…
– Des tumeur dans les parties glanduleuses… et puis cette paleur…[100]100
Распухли железы… и к тому же бедность… (фр.).
[Закрыть] о, поработать следует, – воздух, приличный моцион… Да я ничего, матушка! Что ты! Иди и ты, сударь, играй… Вырос молодец, былинкой встрепыхнулся. А ухо, пресветлая, востро надо держать, востро… Que Dieu benit, се delice de l’auguste mere, de l’Empire et de nous tous…[101]101
Помилуй бог, это отрада августейшей матери империи и нас всех… (фр.).
[Закрыть]
– Вы, батюшка Алексей Петрович, уж известны дарами в медицине, – перебила его, не ожидавшая с этой стороны натиска, Екатерина, – бестужевские, сударь, капли ваши в моду везде вошли, и я сама ими с успехом пользовалась. Но в чем видите опасность сыну?
– Худенек, матушка, худенек и в оспе, сказывают, еще не лежал, – продолжал, не спуская вострых, внимательных глаз с императрицы, старый хитроумец Бестужев.
Пятнадцатого июля на Пелловских порогах Невы, в тридцати пяти верстах выше Петербурга, разбилась барка с казенным хлебом. Эти пороги образовались выступами крепких известковых подводных камней, между деревнями Ивановским и Большим Петрушкиным. Против них, на левом берегу Невы, в то время находился, принадлежавший генералу Ивану Ивановичу Неплюеву, чухонский поселок Пёлла.
– Имя столицы древней Македонии, месторождения Александра Великого, – сказала Екатерина, при докладе Олсуфьева о происшествии в Пелле.
– Притом восхитительная местность, – заметил Адам Васильич, – скалы, смею доложить, озера и вековечный кругом лес: мы у Ивана Иваныча не раз там охотились, с Григорием Григорьичем, на глухарей.
– А что, Григорий Григорьич? – отнеслась Екатерина, обернувшись к Орлову, бывшему при докладе. – Не худо бы и нам туда, при случае, вояж сделать для развлечения от городского шума и духоты? Возьмем фельдмаршала Миниха, Елагина, графа Строганова…
Екатерине вспомнилось еще одно лицо. Она дослушала бумаги Олсуфьева; решение ж о барке, затонувшей в порогах, отложила до другого раза.
– Забавы забавами, – сказала она, – а дело этого места таково, что о нем надо нарочито и крепко подумать.
На утро к императрице были позваны на особое совещание Панин и владелец Пеллы, Неплюев. В деревнях по Кексгольмскому тракту выставили усиленные смены лошадей.
После обеда, 25-июля, государыня отъехала взлянуть на Пелловские пороги. Господам свиты было предоставлено кстати поохотиться. Путники прибыли к месту до заката солнца. Их ожидал чай в палатке, на берегу Невы. Теплов и Строгонов стреляли ласточек на лету, и оба промахнулись. Звук выстрелов громко раздался в окрестности, всех оживил, развеселил. Сели в катера и лодки и ездили осматривать фарватер с порогами. Обратно прибыли к берегу при фонарях. В виду флотилии, пригорком, мимо Пеллы к лесу проехал крытый, четверней, фургон. Его провожали всадники.
– Вот и охота, – сказал Панин, – утром кто хочет на тетеревей, а то и мишку какого в берлоге застукать не худо бы…
Сумерки сгустились.
Путники шли к экипажам. Неплюев рассказывал прошлое этой местности. Миних делал предложения об отходе порогов, причем вспоминал молодые свои годы, постройку Ладожского канала, наезды на его работы Великого Петра.
– Что, готово? – спросила Панина Екатерина.
– Готово, у лесника…
Императрица оглянулась, отыскивая взглядом отставшего Бестужева.
– Господа, – обратилась она к свите, когда все, мимо поселка и барского, невзрачного и запустелого двора, поднялись вслед за ней на пригорок, у окраины темного, дремучего леса. – Иван Иваныч нас не ждал и, без сомнения, извинит, коли не он, а мы будем у него хозяйничать. На берегу не без сырости. Мошки и комары. Просим всех откушать в роще.
Рог затрубил. Все разместились по экипажам. Слуги и рейт-кнехты зажгли факелы, сели на коней. Первая коляска двинулась. За нею другие. Длинный, сыпавший искры поезд помчался лесной, темною чащей на полных рысях.
– Да это не просто прелесть – сказочная! Кортеж сильфов и саламандр! – крикнул кому-то граф Строгонов. – Как отражается свет на траве и на косматых деревьях!..
– Все гномы, в золотых хламидах и в алмазных коронах, выползли из щелей и будто встречают нас! – ответил ему голос из догонявшей его коляски. – Помните балет «Esprit fol-let»?[102]102
«Домовой» (фр.).
[Закрыть]
– А туман, туман? Точно друиды в саванах…
Кортеж выехал к озеру, за ним, между стен вековых, громадных елей, – на просторную зеленую лужайку. В ее глубине, под деревьями, путники увидели освещенную разноцветными фонариками палатку. Из-под откинутых дверей светился установленный посудой и яствами стол. Сели ужинать.
После ужина, оживленного анекдотами Миниха и спором о духовидцах Елагина, Теплова и Строгонова, Екатерина велела подавать свой экипаж. Бестужев сел с нею. Панин поехал вперед. Прочие остались на утро охотиться.
Возвращалась императрица другим, более кратким путем. Огибая Неву, карета поехала по песку шагом. Ночь была теплая, звездная. В раскрытые окна кареты были видны мелькавшие впереди по дороге огни факельщиков.
– Как вы полагаете, граф, – спросила Бестужева Екатерина, – не лучше ли, я все думаю вот, отпустить принца Иоанна, со всей его фамилией, обратно за границу?
– Нельзя, многомилостивая! На пропятие себя отдадим чужестранным, противным языкам… да и пригодится.
– Кто пригодится?
– Да заточенник-то.
– Не понимаю, Алексей Петрович.
Бестужев крякнул в темноте. Нева то исчезала за стеной дерев, то опять сбоку развертывалась белою, туманною пеленой.
– Вот, матушка, гляди, – сказал Бестужев, склонясь к окну, – вон одинокая сосенка, край долины; стройна и раскидиста она, да сиротлива, одна… А эвоси, приглядись, дружная, густая купочка сосен разрослась. Ну, тем под силу и ветры, и всякая непогодь; а этой, ой как тяжело!
– О чем вы, граф?
– Да все о том же: ненадежен, в оспе еще не вылежал! – продолжал, смотря в окно, Бестужев. – И ты, пресветлая, на старого за правду не сетуй. Меры надо принять…
– Какие меры?
Бестужев пожевал губами.
– Павел Петрович-от, милостивая, даст бог, окрепнет, вырастет… Да все это токмо гадания… Ну а как, упаси господи случая, корень-то, древо твое, с таким слабым отростком, да пресечется?
– Все в руце божьей.
– А вот выход-то и есть, и есть! – сказал, быстро, из-под кустоватых бровей, устремив к ней глаза, Бестужев. – Другая-то августейшая отрасль, другая… О прочей фамилии его не говорю – он страстотерпец один.
– Вам доподлинно, Алексей Петрович, известно, – сказала Екатерина, – я всей душою болею о принце Иоанне… Заботы советуют, снисхождение. Но то одни лишь слова. Не слепа я, сама вижу. Да что делать-то, вот задача. Будь Павел девочкой, можно б было подумать хоть бы и о соединении этих двух отраслей, о браке…
– Брак возможен, – произнес Бестужев, тихо поскребывая ногтем о сухой свой подбородок, – осуществим! Ты только отечеству, его покою жертвующая, того захоти…
– Как возможен?
– И не такие из могилы-то на свет божий, к помрачению гонителей, обращались! Меньше месяца назад, – как бы кому-то грозя и глядя в окно мчавшейся кареты, сказал Бестужев, – и я проживал сермяжным, посконным колодником, в горетовской курной хатенке… Ну а теперь, всемилосердная, возблагодарив тебе, еще померяемся с врагами-то… Что глядишь, мол, рехнулся старый?.. Ну-ка, бери мужества, да благословясь, всенародно и обвенчайся с бывшим российским императором, с Иоанном Третьим Антоновичем…
– Кто, я?! – воскликнула Екатерина, отшатнувшись в глубь кареты.
– Да, богоподобная, ты, мудрая, не похожая на других, – спокойно, с сложенными руками, глядя на нее, ответил Бестужев.
– Возможно ли? Шутите, граф. Лета мои, отношения…
– Благослови только Господь, – набожно приподняв шляпу и перекрестясь, продолжал граф, – годов самодержцы не знают, Лизавету за Петра Великого, слияния ради, ведь сватали ж?.. А ему было всего тринадцать годов… Да и что же? Вам, государыня, тридцать третий; принцу Иоанну двадцать два исполнилось… На десять лет; разница, согласитесь, не велика. Решитесь… Сольются две близких, кровных линии. Павел останется наследником… А на случай – Господь волен во всем – наготове будет и другой, любезный народу отпрыск…
Лошади неслись. Спутники молчали.
«Так вот что созрело в тайнике твоей смелой, непроницаемой, как морская бездна, души! – думала Екатерина. – Я угадала… В тишине ссылки ты обдумывал все это, готовил. Ужли ж из корысти, чтоб воскресить только, усилить этим новым, смелым до дерзости прожектом прежнее свое влияние, прежний фавор? Посмотрим… хорошо ли, что я затеяла?»
Чаща леса поредела. Передовой факельщик замедлил, остановился. Карета поравнялась с купой дерев. Между них виднелась изба лесника. Возле стояли экипаж Панина, ямщики, лошади и виденный у Пеллы фургон.
– Перемена почтовых, – сказал, подойдя к дверцам, Панин.
– Кажись, посторонние, – произнесла, оглянувшись на фургон, Екатерина. – Узнали?
– По делу в Питер какие-то; кормят лошадей.
Императрица с Бестужевым через сени вошла в небольшую опрятную комнату. С ними встретился вышедший оттуда пожилой военный. За столом, перед свечой и тарелкой жареного, сидел длинноволосый, в темном кафтане, худой и бледнолицый юноша. Он жадно, с торопливым удовольствием, ел, почти не заметив вошедших.
Екатерина, присев с Бестужевым у двери, несколько минут робко и пристально вглядывалась в незнакомца, неряшливо и молча, крепкими выдающимися челюстями жевавшего вкусный кусок.
– Куда, сударь, изволите? – ласково спросила императрица.
Рассеянные, усталые и будто глядевшие внутрь себя глаза проезжего тупо и дико уставились в вошедших особ.
– Издалека ль едете? – повторила Екатерина.
– Вот… и… – заикнулся и перестал жевать незнакомец, – опять взяли… опять повезли… Чуть не утонули на озере, у Морья… барку разбило! В Кексгольме держали, опять сюда тащут…
– Куда же ваш путь?
– А нешто я сведом? – ответил, сердито нахмурясь, юноша. – Возьмут и повезут. Новая, видно, царица потребовала на эко диво поглядеть. Что им, владыкам-то, – резко и громко засмеялся он, – что полгода, гляди, и новые… И меня велено звать Гервасием, а не Гришкой, да не хочу – а хочу зваться Феодосием… притом… бесплотный…
– Уйдем, пьяный неуч, – шепнул Екатерине Бестужев, – либо сущеглупый – я их смерть боюсь.
– Вы же сами кто будете? – спросил незнакомец.
– Мы здешние помещики…
– Муж и жена?
– Верно сказали.
Юноша еще громче во все горло захохотал и вдруг смолк.
– Старенек муж-от ваш, – сказал он, злобно упершись глазами в Бестужева, – горох бы тебе стеречи или с огорода воронье гонять… скрючился, скомсился, злюка, шептун…
Проговорив это второпях, путаясь, точно его прорвало, юноша опять осекся и бешено, дико захохотал.
– Да, уйдем же, матушка! Охмелел он! – шепнул, привстав, Бестужев. – Вишь как дерзостен, сквернословец, шатун…
– Так вы ехать от меня? – вскрикнул, с искаженным лицом вскакивая, незнакомец. – Скоты, звери, гарпии, колдуны! Кровь высосали… Жизни вам, вертограда моего? Злыдни, еретики, – кричал он, поддерживая себя за подбородок. – Я креститель, слышите, дух Иоанна… Трубы, тимпаны, гудцы… Ха-ха! Проклинаю… шептуны, скоты! Аз в мире альфа и омега, последний и первый… Виват! Виват!..
– Не могу, не могу! – сказал, бросаясь к двери, Бестужев. – Сил нет; сущеглупый ведь он… видите, видите!..
Екатерина вышла за ним. Подали экипажи. Факелы освещали бледные, встревоженные лица.
– Что? – спросил вполголоса Панин.
– Сверх всякого ожидания… невыносимо! – ответила императрица.
Кареты помчались в том же порядке. Екатерина молчала. Не отзывался и ее спутник. Он сопел носом и изредка фыркал, сердясь на Панина, что тот не отвратил от монархини столь неподходящей и лишенной всякой аттенции встречи.
– Так худ? Худенек? – вдруг обернувшись к графу, спросила Екатерина.
– О чем, матушка, изволите? – не поняв вопроса и склоняясь к ней, произнес Бестужев.
– Так ненадежен мой сын? Ненадежен?.. А знаешь ли, батюшка граф, кого мы с вами только что видели?
Бестужев вздрогнул. В томящей тоске предчувствия, забыв всякий этикет, он ухватил жесткою, холодною рукой руку императрицы.
– Мы видели бывшего императора Иоанна Антоновича, – проговорила Екатерина, – из Кексгольма нарочно его привозили… Где же правда? Пятнадцать лет, вы батюшка Алексей Петрович, при покойной императрице, держали кормило власти, и в вашей полной воле была судьба принца… а теперь этого бедняка, нравственно больного, мертвеца, вы, вы, – пощадите! – прочите мне в женихи… в мужья…
После пелловского свидания принца Иоанна вновь отвезли в Шлиссельбург. Панин в таком виде подтвердил его приставам старую инструкцию Елисаветы: «Буде явится столь сильная для освобождения Иванушки рука, что спастись будет не мочно, то арестанта Безымянного – умертвить, а живого – никому в руки не давать».
– Как же с ним долее быть, ваше величество? – спросил Панин Екатерину, отослав это подтверждение.
– Мое мнение: из рук не выпускать, – ответила императрица, – надо его постричь и отвезти в не весьма отдаленный монастырь, где стороннего богомолья мало или вовсе нет, – в муромские леса, в Вологду или в Колу… Впрочем, о сей материи мы еще поговорим…
XXVII. У нового фаворита, в Шаболовке
Осень и часть зимы 1762 года Мирович провел с полком в окрестностях Москвы. К началу 1763 года полк выступил на стоянку к границам Польши, в раскольничьи слободы Черниговской губернии. Свидание с сестрами не принесло Мировичу утешения. Помочь им он не мог, так как и сам едва перебивался в тяжелой бедности. В полку тоже ему не везло. Молва о прошлом Мировича, о самовольной отлучке из Шавель и о передрягах с его арестом и допросом в Кронштадте, от которых он спасся лишь протекцией важных патронов, все-таки сильно вредила его службе. Начальство на него косилось. Товаршци-фрунтовики, от праздно-кутежной компании которых он теперь держался в стороне, относились к нему холодно или презрительно-враждебно. Он вспоминал недавнее свое положение в числе штабных кенигсбергского губернатора Петра Панина и, замкнувшись в себя, в неисходной тоске, тянул лямку караулов, пеших переходов по глухим, занесенным снегом деревушкам, учений, опять караулов и новых переходов.
Средина февраля застала Мировича в Чергиновском наместничестве, в раскольничьей слободе Добрянке. Полк был расположен в ней и возле на винтер-квартирах, а его, с командой, послали к Днепру, в слободу Радули. Здесь, принимая фураж, он провалился на подтаявшем льду, схватил горячку и пролежал у соседнего мельника-слобожанина до начала апреля. Встал от болезни не похожий на себя – страшно исхудалый, слабый, раздражительный и злой на всех и на все. Его выздоровление совпало с возвратом на Украйну тепла и весны.
Яркий луч южного солнца вызвал Мировича на завалинку. Он давно слышал в низенькой тесной избе крики прилетных гусей, журавлей, возгласы чаек, шум и журчание всюду бежавших ручьев. Его неудержимо манило дохнуть свежею, гулкою в этом шуме и гаме, струей вешнего воздуха. Он вышел, взглянул…
С береговой кручи, со двора мельника, вдруг перед ним открылся безбрежный, с лесами в виде темных островов, голубой, затопивший окрестности Днепр. Правее – белела где-то церковь, левее – через сероглинистый яр, на высоком бугре, с красной крышей, виднелся большой помещичий дом. Весь он потонул в саду. Сад сбегал и по взгорью к речному затону. «Родина, милая родина, – заплакал от радости Мирович. – Вот где истинное счастье, рай! Вот где врачевание сердцу, разбитому в душных, городских вертепах! Боже! Недаром я стремился к достоянию предков, недаром во сне и наяву моей души виднелись родные, привольные долы, холмы, тихие сады. Там – скопленные в больших городах не люди, а звери; здесь – простой, землю пашущий селянин исполняет завет бога, природы…»
Оправясь, но еще все слабый, Мирович начал спускаться к реке, сидел у Днепра и однажды от берега зашел в помещичий сад. Имя владельца ему называли, но он, в болезненном равнодушии и рассеянности, не обратил на то внимания. Помнил он только, что речь шла об опальном вельможе, никуда не выезжавшем и целые дни, с книгой или газетой, лежавшем на диване в своем кабинете. Сад окидывался зеленью. Вишни и яблони пышно цвели. Пчелы гудели на ивах и черемухах. Кукушка отзывалась в ракитнике. Дятел звонко щелкал в дупло оголенного, корявого дуба.
Приглядываясь к каждому окинутому первой зеленью кусту, к каждой вырытой у корней и на лужайках свежей норке, к букашке, цветку, Мирович прошел одну аллею, другую. Тепло было, как в мае, напоенный запахом чебреца воздух не шелохнулся. Кое-где виднелись беседки, гроты, мосты. Под огромным, еще безлистым осокорем, на скамье у обелиска из бледно-зеленого, местного гранита, в старом треуголе, с звездой на епанче, сидел, сгорбившись, с книгой, изжелта-смуглый, задумчевый военный. Мирович приподнял шляпу, хотел пройти мимо и чуть не упал: перед ним был генерал-адъютант покойного императора, бывшая «голубица мира» берлинского ковчега, Андрей Васильич Гудович. Он молча стоял несколько минут.
– Так вы тот самый, тот самый, что тогда? – разглядев его и заторопясь, сквозь слезы, спросил Андрей Васильич.
Они разговорились. И сколько было говорено! Больше недели пробыл после того Мирович в Радулях и каждый день ходил на прогулку от мельника к Днепру и в цветущий, покрывавшийся пышными уборами сад. Здесь он еще раз или два встретился с Гудовичем. И хотя ссыльный, недавно могучий вельможа держал себя с ним, как и со всеми, холодно и строго, но, беседуя с случайным гостем о пережитых памятных днях и сообразив его поведение в роковое время, не утерпел и поведал ему кое-что, долетевшее к нему в Радули.
От него Мирович узнал подробности о деле Хрущова и двух Гурьевых, приговоренных к казни, публично ошельмованных и сосланных в Камчатку за намерение освободить принца Иоанна, «Пора-де вспомнить, – говорили эти смельчаки, – что есть фамилия царя Ивана Алексеевича; пора узнать, где содержится Иванушка; не пойдем в караул, пока его не вызволим». Здесь же услышал Мирович и о недавней опале, о сложении сана и о предположенной ссылке в Корельский монастырь ростовского митрополита Арсения Мацеевича. Государыня, узнав о провинности Арсения, ответила на предстательство о нем Бестужева: «Прежде, сударь, без всякой церемонии и не по столь важным делам, преосвященным головы секали». А провинился владыко не столько протестом против отобрания монастырских крестьян, сколько тем, что говорил своим ближним: «Надлежало быть на престоле не государыне, а принцу Иоанну… Государыня не природная и не тверда в вере». Еще же пророчил Арсений, что будут в России царить два юноши, Павел да Иоанн, и что они выгонят из Европы турка и возьмут Грецию и Царьград. «И уж лучше бы, – сказывал Арсений, – государыне вступить в брак с Иоанном Антоновичем: она с ним не в близком родстве, в шестом колене; не сменять же царского отпрыска на поддержку картежников и мотов, вроде Григория Орлова».
– Как, на Орлова? – обомлев, спросил Мирович.
– Поедешь, все узнаешь, – спохватившись и оглядываясь, на прощанье с ним сказал владелец Радулей.
В конце мая Мирович отправился проведать сестер. От полка же, кстати, встретилась жалоба по фуражному делу к гетману, бывшему со двором в Москве. Мировичу дали инструкцию, рапорт и прогоны, и он уехал.
Одна мысль засела в его голове, неотвязно нашептывала ему, манила его. Он все думал, соображал и терялся в догадках. Уже по пути к Москве заслышал он сперва робкие, потом более ясные намеки на затею бывшего канцлера – в угоду Орловым – устроить замужество государыни с Григорием Орловым. В Москве же, куда он ни заходил, к сестрам, к знакомым, в трактиры, только и было речи, что о новом прожекте «седой, нераскаянной лисицы» – Бестужева. Говорили, что государыня с Орловым съехала в ростовский, Воскресенский монастырь, к переносу мощей святого Дмитрия, и что без них граф Бестужев составил всеподаннейший адрес, за подписью высшего духовенства и генералитета о том, чтобы ее величеству выйти за принца Иоанна, а буде не угодно, то, по примеру предков, бывших российских царей, избрала бы она в супруги кого-либо из своих верноподданных. Но встретилась преграда.
Первый помощник и недавний друг Орлова, Федор Хитрово, как верный патриот, подобрал партию недовольных. В союзники с ним стали оба Рославлевы, Пассек, Ласунский, за ними Баскаков и Барятинский – словом, чуть не все главные вожаки и «партизаны» бывшего переворота.
– Григорий Орлов глуп, – толковали в Москве, – и больше все строит брат его, дубина Алексей, да старый черт Бестужев; но все может случиться, – одна надежда на Панина.
«Вот случай, – подумал Мирович, – другого не будет. Орлов… посетитель Дрезденши, и я с ним был во дни оны близок, даже обыгрывал его на бильярде… Ничтожный, безвестный офицеришка готовится взойти на такую ступень… Попробовать разве, попытать? Или и его – к дьяволу, лучше не трогать?..»
Бродя без цели, без мысли по Москве, он опять невольно вспомнил об Орлове, расспросил кое-кого, собрал нужные сведения и отправился к нему на Шаболовку.
Пышный, хлебосольный и всюду уже гремевший дом графа Григория Григорьевича был на фронтоне украшен лепным гербом, с надписью: «Fortitudine et constantia»[103]103
«Стойкостью и постоянством» (лат.).
[Закрыть]. Москва, знавшая хоромы старой знати: Шереметьевых и Нарышкиных на Воздвиженке, Трубецких – на Покровке, Куракиных – на Басманной и Салтыкова – на Дмитровке, ездила теперь, с рабским решпектом, на поклон, на недавно глухую, мещански пустынную Шаболовку, где новопожалованный «граф Римской империи» на беговых дрожках объезжал рысаков или платком в слуховое окно гонял голубей. Над улицей и садом кружились стаи дорогих турманов: двуплекие, сероплекие, полвопегие, с подпалиной и без подпалины, ногатые, мохнатые и всякие. Голубиная потеха графа сменялась медвежьей либо волчьей травлей, травля – кулачным боем, а бой – чтением изданий Жоконды, древних писателей о сельской хозяйстве или исполнением во дворце нежных менуэтов и гавотов.
Мирович застал Орлова за бритьем, в халате. Доложив о себе, он вошел сурово, поклонился с достоинством.
– А! Дивно победная пятерка! – вскрикнул по старине Григорий Орлов. – Вот не ожидал. Извини, братец, что так принимаю. Сам люблю бриться… Садись. Тороплюсь к приему. Но, говори: просьбишка, чай, какая? Денег? Да что похудел? Болен был? А?.. Вот как! Жаль, жаль…
Мирович прямо приступил к делу: в кратких словах рассказал о своем прошлом, о случае с предком и с низким поклоном стал просить Орлова о содействии к возврату ему и сестрам хотя части неправильно конфискованного имения бабки.
– Ты меня извини, – кончив брить щеку и занявшись подбородком, сказал граф Григорий, – это другим, братец, пой, а не мне. Я – стреляный волк. Ну, что плетешь тут хоть бы о предках? И какой, так-таки скажи по совести, резон, чтоб отдать тебе вон когда, еще при Первом Петре, отписанные маетности твоих дедов? Из каких, например, благ? Не сердись, слушай и с толком, смирнехонько рассуди. Сядь, не вскакивай… Ведь поместья те, чай, тогда еще пожалованы в другие руки, а там, смотри, перешли и в третьи?
– Верно говорите, ваше сиятельство… – с досадой, поборая в себе желчь, ответил Мирович. – Но все же во власти монархини исследовать, узнать корень истины и возвратить внукам неправильно отнятое, а нынешних владельцев тех имений ублаготворить чем иным…
– Да из-за чего, разбери ты? – сказал, отведя бритву и взглянув на гостя через зеркало, Орлов. – Для каждой милости нужны причины, отличье, права…
Злость взяла Мировича. «Так вот он, любимец фортуны, – думалось ему, – в золоте по горло сидит, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами. Одно, вон, белье какое… с кружевами, сквозит… А нам-то каково? Удался бы мой тогдашний умысел, был бы я на твоем месте. Ишь как теперь поглядывает бесстыжими, смелыми глазами».
– Услуги и мои права, ваше графское сиятельство, – сказал он, пересиливая обиду и гнев, – в действительности, видно, не примечены…
– Какие услуги? Это любопытно, voyons…[104]104
Посмотрим… (фр.).
[Закрыть]
Граф нагнулся к зеркалу, пробривая место вокруг темной, пушистой родинки, на левой румяной щеке.
– Известно вам, граф, с Перфильевым в те последние дни, перед предприятием, я, по вашему указанию, играл в карты… Изволите вспомнить, какой вышел авантаж…
– Ах ты, потешный! Да ты же, припомни, был тогда в. выигрыше и все его ремизил – пять робберов, помнишь, девятка опять же, все бубны у тебя… ну! Одним махом заграбастал, чуть не сорвал у Амбахарши весь банк…
Мирович с холодною злобой улыбнулся.
– Была тогда и другая, более важная причина, – мрачно сказал он, – да вы не поверите… скажете: вымышленно, с расчетом…
– Говори, братец, слушаю, – искоса взглянув на него и опять начиная бриться, произнес Орлов.
Мирович просветлел и, точно переродившись, стал в необычайную, напыщенную позу.
– Я был спасителем государыни, в числе прочих… я главную оказал услугу… облегчил ей престол! – проговорил он, окидывая гордым, подавляющим взором Орлова.
– Как, что? – спросил и заикнулся Орлов.
Мирович подробно рассказал о случае с колесом в коляске государыни, при ее уходе из Петергофа.
Орлов так и покатился от смеху.
– Ай да козырь-хохол! Молодец! – вскрикнул он, бросив бритву, махая руками и заливаясь на все лады. – Вот так одолжил, придумал! Всех, молодчина, всех льстецов, искателей фавора разбил в пух, заткнул за пояс… никто так не нашелся, – всех!.. Так тебе троном обязаны? Тебе? Ну, клянусь, это стоит, по чести стоит… ха-ха…
– Но позвольте, граф, – с краской стыда и оскорбления перебил его Мирович, – вы вправе отвергнуть, пренебречь, не я истину сказал… Издевки обидны… черт! Можете осведомиться у своего братца или у господина Бибикова – они если не видели, то слышали… как я тогда…
– Ой, пощади, пощади! – восклицал, катаясь по софе, Григорий Орлов (его звонкий, раскатистый смех далеко разносился по комнатам). – Изволь, наведу справки… беспременно наведу… Ха-ха! И семи мудрецам того не придумать… ой, убил, разодолжил…
– Разумеется, что вам стоит учинить дознание, расследовать! – сказал степенно Мирович. – На бумаге все объяснится, как и что-с, хоть бы и насчет отнятых имений моих предков…
– Ах вы, хохлы, архивное семя! – произнес, вставая, Григорий Орлов, и Мирович заметил неприятное, общее братьям, нагло-решительное выражение его красивых, как он выразился в уме, «бесстыжих» глаз. – Все-то вы, извини, с челобитьями да с попрошайствами! Нет того, чтоб терпеливо трудиться, смирнехонько ждать, служить. Все-то твои соотчичи измышляют да подводят… Ну, станем мы, из-за тебя, рыться в древних ваших, хохлатских шпаргалах, бумагах? – сказал, посмотрев в сторону и думая уж о другом, Орлов. – И может ли быть, чтоб в бозе почивающий Великий Петр так неправильно решил дело твоего деда?
– Честью уверяю, честью! – возвысил голос Мирович, чувствуя, как слезы подступали к его горлу. – И не о себе токмо прошу… у меня, граф, сестры-девицы проживают в убожестве… а мои предки были из первых на Украйне, служили верой и страдание приняли за родину и за ее права…
– Хорошо, – небрежно ответил граф Григорий, даже не совсем расслышав последние слова гостя, – увижу гетмана; наведайся – поговорю с ним, попрошу…
«Ужели опять к нему идти? – рассуждал Мирович, кончив поручение, данное ему от полка. – Дьяволы! Что толку?.. Станет снова издеваться зазнавшийся бильярдщик да трактирный мот… Где ему, с этакой хоть бы вышины, разглядеть горе да бедность других? Правду о нем сказал мученик, архиепископ Арсений: «не его чести и рыла затеянное дело».
Срок командировки истекал. Надо было возвратиться к полку. Весна и лето в то время стояли холодные. Дул северный ветер, и каждый день шел дождь. Но Москва веселилась.
Народные гульбища в апреле и в мае были оживленны. Под Новинским какой-то силач швед вызывался помериться в единоборстве с русским. Все стремились туда.
С возвратом государыни от богомолья на московских улицах и площадях, при барабанном бое, был опубликован «манифест о молчании». Тетрадка «Московских Ведомостей» от четвертого июня, с этим манифестом, зачитывалась нарасхват. В нем воспрещались всякие толки «развращенных нравами, праздных людей», «кои дерзкими ухищрениями, – всюду порицают правительство и все нерушимые, гражданские права», развращают и других «слабоумных и падких на вредную болтовню людей».









































