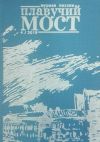Читать книгу "Плавучий мост. Журнал поэзии. №2/2017"
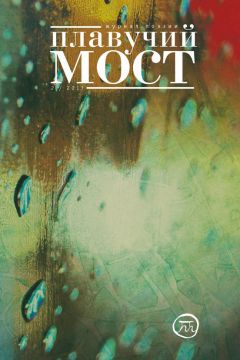
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Плавучий мост. Журнал поэзии. 2 / 2017
Журнал поэзии «Плавучий мост» является некоммерческим изданием, выпускается на личные средства его создателей, при содействии и участии издательств «Летний сад» (Москва, Россия) и «Waldemar Weber Verlag» (Аугсбург, Германия). Периодичность издания – один раз в квартал.
Редакторы журнала:
Виталий Штемпель, руководитель проекта (Германия),
Герман Власов, ответственный редактор (Россия),
Вальдемар Вебер, издатель (Германия),
Сергей Ивкин (Россия), Вячеслав Куприянов (Россия), Вадим Месяц (США, Россия), Тим Собакин (Россия), Андрей Тавров (Россия), Александр Шмидт (Германия)
© Редакция журнала «Плавучий мост», 2017
© Waldemar Weber Verlag, Аугсбург, 2017
© Авторы публикаций, 2017
Поэзия и время
Евгений Витковский
Поэтический перевод как искусство, за которое не платят
Для русской переводной поэзии Серебряный век оказался золотым. До конца XIX века знакомство российского читателя с мировой литературой ограничивалось десятком поэтов, это были Гете, Шиллер, Гейне, Беранже, Байрон, Мицкевич, это – почти все. Их переводили много, но нам уже трудно поверить, что можно знать Байрона и не знать даже по имени ни Шелли ни Китса, что Петрарка у нас был известен едва десятком сонетов, испанский язык был какой-то тропической экзотикой, Америка просто не существовала. Между тем интеграция в мировую культуру есть залог нашей цивилизации. Только культура и отличает нас от муравьев в муравейнике, поэзия в том числе – она возникает раньше всех других видов искусства.
Знакомство русского человека с мировой литературой в 1730–1880 годах по большей части ограничивалось чтением в оригинале, но доступных оригиналов было не так уж много, да и мода вредила изрядно. Читали Горация и Гете, но уже Сервантеса читали во французских переводах. В «Египетских ночах» Пушкина итальянский импровизатор, приехав в Петербург, лишь с трудом может собрать аудиторию: слишком немногие знают итальянский язык. За образом импровизатора прозрачно угадывается Адам Мицкевич, а на каком языке разговаривали друг с другом Мицкевич и Пушкин? Правильно, на французском, хотя Мицкевич определенно знал русский, а Пушкин мог понять польский. Теперь бы они говорили по-английски, впрочем, о поэзии могли бы и по-русски: на английский (тем более на французский) стихи стихами нынче все меньше переводят.
Нам, в эпоху тотальной англофикации мира, даже читать об этом странно. Ведь всего-то полтора столетия назад русские маменьки экономили, не нанимая своим деткам преподавательниц английского – нужен был французский. Хороши были б теперь такие маменьки и такие детки… Хотя ведь были и раньше мировые языки. Взять хотя бы шумерский и латынь, – к тому же последняя остается таковым мировым языком отчасти и теперь. Видимо, дальше будет то же самое, и нельзя гадать – какое наречие вынесет на гребень глобализации.
Переворот семнадцатого года сперва сказался на качестве бумаги, лишь потом – на всем прочем, в том числе и на том, что поэтов-переводчиков стали физически уничтожать или принуждать к эмиграции. Но в 30-е годы произошла перемена: в сугубо политических целях была создана легенда о великой многонациональной, и, заметим, единой литературе народов СССР.
С начала 1930-х по 1970-е не было даже просветов. Разве что случайные. Пока не возникла необходимость в «престижной серии» – в БВЛ. Никто тогда и не думал, что для цензуры и вообще для советской власти это было начало конца. Но к 1990 году государственные дотации на перевод прекратились, а деньги, скопившиеся у поэтов переводчиков прежних лет, съела инфляция. За стихи же нигде не платят, разве что грант дадут, а на что дают грант? Скажем, на изучение такой важной темы в поэзии – «Иисус Христос как феминист». Или «поэты-самоубийцы». Еще бывает, что богатый западный поэт хочет, чтоб его перевели. Переводят, но этих книг никто не читает.
Ну, а нам в XXI веке что делать?
Очевидным образом – идти напролом. Так викинги перли в Америку около тысячи лет тому назад. Дело это было безнадежное, но на таких делах мир стоит. За перевод не платят, так ведь и за стихи тоже. А стихи все-таки пишутся. Зачем? Вопрос – к Богу.
Группа поэтов-переводчиков, собравшихся на сайте «Век перевода», двадцать лет назад объединилась – и стала делать сперва антологии своих работ (собственных переводов из классики), позднее – книг западноевропейских поэтов прежних веков. В итоге издательства «Эксмо», «Водолей», «Престиж Бук» и другие смогли издать трехтомную антологию «Семь веков английской поэзии», первый русский полный перевод поэтических книг Леконта де Лиля, полный свод стихотворений Оскара Уайльда, Артура Конан Дойля, почти полного Киплинга, почти полного Бернса, «Трофеи» Мориса Роллина, много раз выходили полные Бодлер, Рембо, Малларме, короче, десятки книг. Гонораров нам почти не платили, но ведь за публикацию мы тоже не платили, а это по нынешнему времени немало. Может, мы не лучше всех – но других пока не видно вовсе.
Главное – кончилась советская «золотая латынь перевода» (мастеров ее, правда, чаще называли в те времена «виртуозами на пиле». Пятью сотнями процензуренных слов теперь не обойдешься, и если у слова сто синонимов – выбирай то, которое ляжет в стиль, а про переводы с подстрочников мы как-то уже забыли, выучить три-четыре языка там, где молодость не уходит на сдачу истории партии и научного коммунизма, не так уж трудно.
Конечно, лопнули дутые авторитеты ХХ века. Обман с выдачей мистика Блейка за детского поэта, или уж вовсе смешная выдача куртуазного Бернса за поэта крестьянского, давно забыт, все сделано заново. Подстрочный и сокращенный перевод «Неистового Роланда» заменен на перевод правильными октавами. «Теоретики» поэтического перевода, не найдя для своих теорий подтверждающих фактов, поголовно вымерли.
Зато выяснилось, что Вийон или тот же Бернс творили не в вакууме, что вокруг них было много десятков выдающихся поэтов, которых пора открыть. Что на кельтских языках в последние пять столетий писало столько великих поэтов, что все и не перечислишь. И все это или почти все открыли мы, за малым исключением – технари и служащие, чуть не все поголовно – автодидакты, говорящие и пишущие по-русски в десятках стран мира. Это не похвальба. Это тот факт, которого, как говорил наш выдающийся современник Иван Елагин, «не объехать никаким конем».
А что «не платят»…
Так за любовь тоже не платят, если она – любовь настоящая.
Берега

Наталья Булгакова
Стихотворения
Родилась в 1938 году. Окончила МВТУ имени Баумана в 1964 г. Работала радиоинженером. В семидесятые годы посещала литературную студию Б. Слуцкого. Печаталась в журналах «Отечественные записки», «Стрелец», «Арион», Первый сборник стихов Наталии Булгаковой «Открывшееся небо» вышел в 2003 году в издательстве РИК Русанова. Занималась также художественным переводом. Переводила скандинавских поэтов.
«Иду по вспаханной земле…»«Стихи Наталии Булгаковой для нашей поэзии – явление редкое. И дело не в жанре пейзажной лирики, к которому они большей частью принадлежат, (тоже не слишком у нас распространенном), а в самой поэтической технике. В предельном, почти аскетическом лаконизме этого тонкого акварельного письма, наводящего на мысль о дальнем родстве с японской лирикой, но своей ужатой ритмикой, пресекающейся и выразительной, как междометие, интонацией скорее отсылающего к русской экспериментальной прозе Серебряного века. Впрочем, это совершенно самостоятельное явление. Чтобы его оценить – надо вчитаться. В этой поэзии много цветов – и сама она при чтении проступает поразительными цветами, подобно рисунку на ткани.»
Из редакционного предисловия к книге Наталии Булгаковой «Открывшееся небо»:
«Булгакова возвращает усталому, «замыленному» взгляду современного читателя стихов первоначальную яркость восприятия – сродни детскому зрению, когда любое обыденное явление природы, любое человеческое душевное движение имеет почти космическое значение. А явления космические становятся соразмерны человеку…»
Мария Галина
«Дождь нужен…»
Иду по вспаханной земле,
А Сима мне кричит вдогонку:
Иди смелей, топчи верней,
Прямее делай к лесу тропку.
Стараюсь из последних сил.
Моя-то думаю, прямая…
А оглянусь – неровный след
Идет по пахоте, петляет.
«Всё в ярком инее…»
Дождь нужен – говорит Настя,
И руки её тяжелеют.
А глаза серьёзны как никогда.
Снова вёдро, небо каменеет,
Сохнет луг, ушла вода.
Как-то сразу мы с нею вздыхаем
И говорим вразброд.
Вечер спрятался за домами,
Скоро день межу перейдёт.
Её огород до леса длится.
Спёкшихся бороздок лоскут.
Деревня вместе с землёй томится.
Дождя ждут…
Ноябрь
Всё в ярком инее – пустые
Проулки, площади, дома.
От пара белого седые,
Как сказочные терема.
Молчат фасады старых зданий,
Молчат торговые ряды.
Сверкает лёд холодной гранью
В недавней лужице воды.
Горят у Иверской часовни
Костром огни её лампад.
А дальше площадь, колокольня,
Соборов золото, Сенат.
Поодаль башни Арсенальной,
Заброшенный Монетный двор.
За толщей стен и снег печальный,
И удивительный простор.
Тревожа пеленою зыбкой
И ранью солнечного дня,
Холодная зима с улыбкой
Пришла и смотрит на меня.
Рождественский монастырь
Осенняя земля предвидит холода.
Я трогаю рукой оплавленные комья.
Тебе моя ладонь открыта – сколы льда
По-новому блестят сегодня.
Закаты ноября подёрнуты золой.
Зимы пугливое начало.
Одно лишь облако в лазури голубой
Бледнеет ало средь высот
И разбавляет стылость.
Последний раз зажегся небосвод —
И тьма спустилась.
И снова пепел и огонь.
Полнеба пламенем объято.
И в темноте, уже ночной,
Чуть тлеет полоса заката.
«Придут глубокие снега…»
Кусок оттаявшей землицы…
Подворье, ставшее проулком,
Как будто сон тяжелый снится —
Беззвучный, бесконечный, гулкий.
Пласт отслоился необычный —
Увиделось на белом всхолмье —
Блестят кресты и колокольни
Монастырей первопрестольной.
Идем Рождественкой. Кисельным
Мы возвращаемся обратно.
И мокрые сияют стены
Церковки голубой надвратной.
«Горит вечерняя заря…»
Придут глубокие снега.
Закружат белые метели.
И в складках вязов поседелых
Надолго приютится тьма.
Здесь каждый возглас приглушён
Здесь не услышишь даже крика.
Пустыня белая безлика —
Ни восклицаний, ни имён.
Летит колючая пурга
И полнит небо мутным снегом.
А утром вся округа в белом
Блестит полянами без дна.
«Белый простой шиповник…»
Горит вечерняя заря.
Охрипших соек стынут крики.
И сохнут плети ежевики
В коротком блеске ноября.
Как ослеплённые кусты
Мгновенным пламенем объяты,
Дымами красного заката
Среди ползущей темноты.
Могучие дубы – черней…
Холмов пустеющих убранство.
Прозрачное кольцо пространства
Сжимается в плавильне дней.
Какие у зари права,
Какое странное призванье.
Дней переполнить очертанья,
Вдыхая осени слова.
«Цивилизованные люди…»
Белый простой шиповник.
Белый, призрачно-белый.
В белом твоем мерцанье
Тонет суетный мир.
Дивертисмент в Мариинском.
Люстры горят и свечи.
Кто-то неосторожный
Свой платок обронил.
Зиновию Паперному
«Жасмин и розы в дельфской вазе…»
Цивилизованные люди
Вообще-то так не поступают.
Они во всем порядок знают.
Они приличья соблюдают.
Я после тысячи примерок
Надену нужную улыбку.
Но подведет меня, наверно,
Играющая хрипло скрипка.
Она внезапно заиграет,
И я забуду о приличьях,
Забуду я, что ждут гримасы,
Зобы, глаза и клювы птичьи.
Во мне играет хрипло скрипка,
И я открытыми глазами
Смотрю на лица человечьи.
И с некоторых грим сползает.
«Деревья цветут…»
Жасмин и розы в дельфской вазе.
Так вот, что нашептал оракул,
Так вот вчера о чем ты плакал
В горячей темноте у моря.
Как ты бежал по голой кромке
У ног далекого прибоя,
Дышал сырой травой морскою
У кромки дня, у кромки моря.
«Сквозная легкость облаков…»
Деревья цветут. Цветы их в траве меркнут.
Становятся пылью. В руках осторожных – прахом.
И мокрую устилают землю,
Оставив на пальцах едва уловимый запах.
У каменистого грота два амура
Шепчутся тихо под шум воды журчащей.
Полные губы дрожат от счастья.
Шорох летящий.
Письмо к матери
Сквозная легкость облаков
Среди ночных провалов темных.
Свет деревень по виду сонных
Среди лесов.
В разрывах – яркая луна
В тревожных замедленьях плавных,
И в облачности черной – траур,
Дней тишина…
Возвращение
На чужих квартирах нетрудно прожить.
Трудно представить, что ты обо мне ничего не знаешь.
Трудно скрывать от тебя эту жизнь.
Трудно обижать, трудно ранить.
Потому не говори никогда, что я тебе лгу.
Просто не все пока открываю.
За все платить надо, за каждую дыру.
Но я проживу в любом сарае.
Березы задумались, и задумалась я.
Не заметила, как трава померкла.
Старые листья глядят на меня,
Мерят своей меркой.
Я ничего не изменила в твоей судьбе.
Я не стала твоей опорой.
Быстро летят за днями дни.
А хорошие стихи пишутся нескоро.
«Чернеют ивы вдоль дороги…»
Лес встретит нас
И тишиной, и сыростью.
И первой яркой
Ленточкой кумачной.
Мы отдадимся его милости.
Мы засмеемся, мы заплачем.
И прислонившись
К дереву тяжелому,
Страшась и радуясь,
Еще робея,
Расставим осторожно в памяти
Все то, чем тайно
Столько лет владели.
«Откуда это во мне…»
Чернеют ивы вдоль дороги,
В просветы смотрят перелески,
В пути подгонит спуск отлогий
И ветер резкий.
Вот ручеек.
Но нет кустов.
Болотце, ржавчина и кочки.
Ни деревца и ни кусточка.
Лишь радужная оболочка
Глаз детских выскажет упрек.
И ветер.
Ветер.
Он везде.
Холодный, рвущийся, звенящий.
В развалах глинистых дорог
Увязнуть бы и стихнуть мог.
Но продолжает рядом виться,
Пока не изнемог.
«Хатунь встречает тишиной…»
Откуда это во мне – чтоб не выпустили из вида,
Чтобы видели – вот он я, чтоб земля обо мне полнилась слухом…
Грациозней нельзя – кошка поводит ухом.
Ива цветет – желтизна ее с каждым днем светлее.
В гуще близкой зелени различить нельзя,
Где та ива, где та аллея…
«В темноте оступиться недолго…»
Хатунь встречает тишиной.
Постройкой ярко-бирюзовой.
Букет терновника пунцовый
Горит кирпичной стеной.
Сухая жесть берез слепит.
Светлеют пятна поздних яблок.
Голубоватый воздух сладок
И дымом жертвенным прошит.
На взгорке несколько домов
Сияют новой светлой кровлей.
Зимою вспомнится с любовью
Сухая свежесть вечеров.
С вареньем – золотистый чай.
Душистая краюшка хлеба.
Сиянье звезд. И мы на небо
поглядываем невзначай.
«Под влажный щебет птиц…»
В темноте оступиться недолго.
Мрачно темнеет бок леса.
Низкие берега робко
Топкое обвели место.
Тоньше стали деревья.
Тень от дуба
На колее сломалась.
Ночь
за спиной сжалась.
«Небо с реющими стрижами…»
Под влажный щебет птиц давай припомним
Все то, что с нами не было и было.
Среди цветов лесных укромных
подышим струйкой голубого дыма.
В просвет стволов увидим небо.
И красоте его порадуемся зрячей.
Все узелки развязаны. Беспечно
под ноги катится зеленый мячик.
Осень
Небо с реющими стрижами,
Редкими перистыми облаками.
Словно Тот, кто их ласково сеял
Странно рассеян.
«Обиду я выдохнула молча…»
У старых вязов меркнет позолота.
Сегодня дождь
Всю ночь стучал по крыше.
Нет, осень не собьешь со счета.
Но кто-то новый из потемок вышел.
Пусть никого не видно в темноте.
Но лес уже почувствовал тревогу.
По мерно нарастающему звону,
Разлившемуся в черноте.
«Головки клевера из памяти всплывают…»
Обиду
Я выдохнула молча.
Но деревья застонали.
Я не видела их лиц,
Только спины.
Резкость морщин,
Умноженная на резкость моих слов,
Убила бы их.
Сергиев Посад
Головки клевера из памяти всплывают.
Их волнами раскачивает ветер.
Лиловые и красные соцветья
Не убывают,
Их больше,
Их сносит вместе с криком большого ворона.
Он, словно настоящий,
Опять летел над поредевшей чашей
И полем.
«Прояснилось небо…»
Синеет под ногами лед,
И неба серого просветы
Приходят полосою светлой
И уплывают в свой черед.
Мальчишки, побросав пальто,
Гоняют шайбу у лабаза.
Щербатые на горке вязы
И голо смотрят и светло.
Извозчик перепутал век.
Заехал не спеша на площадь.
И сонную ругает лошадь
Беззлобно на глазах у всех.
Больница
Прояснилось небо
И зима осталась за семью ветрами
Маленьким островом в снегу.
Зима – емкое животное.
Кидается на человека
Вьюгой,
Порошей,
Оцепенением.
«И мраморная Терпсихора…»
Тумбочка без клеенки голая.
Тапочки у кровати рваные.
Вафельное полотенце волглое.
Мне эти дыры кажутся ранами.
Косо стоят корпуса, и в грохоте
Грузовиков
Кто-то дверью хлопает.
– Тише, – сестра говорит шепотом,
И осторожно садится около.
«Умыться ледяной водой…»
И мраморная Терпсихора
По узенькой ступает кромке.
И духовой оркестр играет,
По счастию, не очень громко.
Пионы влажно отцветают
В тени Михайловского парка —
Их радостное оперенье
На зелени июньской яркой.
«Нищета берет нас за горло…»
Умыться ледяной водой —
И облака уже живые,
И голоса сторожевые
Гусей в окрестности лесной.
Лесок за темною рекой
С утра пропитан яркой стужей,
И стынущее небо глубже,
Разбавленное синевой.
Блестят на солнце вдалеке
Пустеющие перелески,
И голос ветра ясно, резко
Все выскажет немой реке.
И черная дрожит вода,
Торопит сонные мгновенья,
Вонзая стрелы в оперенье
Внезапно вспыхнувшего льда.
«Холодно стало…»
Нищета берет нас за горло и сдавливает.
И в битве с нею нечеловеческой
Маленькие домики с палисадниками вздрагивают
И добела выцветают резные наличники.
Петушок кричит. Високосный год кончился.
Корчится на веревке белье лиловое.
Маленькое сельцо укромное.
Снегом занесенное, сонное.
«Лета разгар…»
Холодно стало. Деревья хмурые
В зимний путь шумят, собираются.
Кто по пути глубоко задумается,
Тот навсегда в дороге останется.
Дуб молодой бродит собакою.
В лица холодные мордой тычется.
Бродит за нами солнце пятнами.
Все пропадает, а это не вычтется.
Ты подожди, осень, траву зеленую
Утрами трогать холодным инеем.
Пусть пошумят дубы листвою свернутой.
Каждый свою в небе чертит линию.
«В поэзии играем пастораль…»
Лета разгар. Жужжит надо мной овод.
Я лицом касаюсь пахучих трав.
Верю я – Там обо мне помнят.
Вот почему ты прав.
Может – за поворотом омут.
Зато речки глаза блестят.
И ложатся покосы ровно.
Вот почему ты прав.
Вечером из духоты комнат.
Я выхожу, подолгу гляжу на закат.
Верю я – Там обо мне помнят.
Вот почему – ты прав.
Конец августа
В поэзии играем пастораль —
Слова – улыбки, жесты – эфемеры.
А крики, недовольство, брань,
Чтобы не лгать, – оставлены за сценой.
Там за кулисами всегда темно,
Там плачем мы, уткнувшись грубо
В чужое, душное от слез пальто,
Там жесткие кусаем губы.
На сцене улыбаемся светло…
Насмешку друга чувствуем спиною.
Но чтобы в блеске пастораль сыграть…»
Не плачь, пастушка, бог с тобою.
«Я мечтала и писала…»
Конятник высох. Розов лист
И обведен каймой лиловою.
Рукою грубой, скандалист,
Смотри, дотронется до облака.
В траве зеленой распластав
Свои листы багрово-красные,
Он говорит, что луг устал
Средь зелени победы праздновать.
Что пусть сегодня вечер тих,
И на востоке звезды светятся,
Поднимет ветер воротник —
И голова ромашки свесится.
Что осень поведет рукой —
И все, что было тебе дорого,
Засыплет жесткою крупой
И превратит в пустое золото.
И то, не все же пировать
И до рассвета свадьбы праздновать.
Пора и луговине спать,
Укрывшись лепестками красными.
«Дворцовым проездом…»
Я мечтала и писала
Вам веселое письмо.
Небо было голубое,
Рощи щурились светло.
Только вышла в чисто поле —
Снег пошел, кругом темно.
Страшно стало. Поневоле
Память снегом замело.
Лебяжья канавка
Дворцовым проездом можно выйти к воде.
Можно к Неве спуститься, потрогать воду.
Что-то шепнуть морской траве.
Неудачи списать на погоду.
Дождь во всем виноват, дождь.
Образ, расплывшийся улиткой.
Нас загнал под крышу ливень сплошной,
Вымокли до нитки.
Дракон играет с жемчужиной —
Мозаика на полу.
На плафоне – юноша с лютней.
Время обводит кайму
Радостью сиюминутной.
«Замес помолотого хлеба…»
Свет дрожит на сырых виолах.
Коричневеет газонов гладь.
Порваны голосовые связки Эола,
Нам бы живые свои не сорвать.
А всегда отыщется повод.
Повелительный поворот головы.
Отчужденья внезапный холод —
Стерегут, напружинясь, львы.
Свет дрожит на немой Канавке,
И в жару
Летний сад примеряет цветные вставки,
Что светлеют к утру.
Замес помолотого хлеба,
И крутолобо голубое небо,
И крутолобы башмаки в песке.
Я круглый стол накрытый вижу,
И сумрак подберется ближе,
Блеснув закатом вдалеке.
Все тот же круг – но по окружью
Какой-то новый свет натужный —
Прогулка заключенных во дворе.
Я ясно двор тюремный вижу
И солнц расквашенную жижу
По летней и иной поре.
Владимир Яковлев
Стихотворения
Яковлев Владимир Геннадьевич род. 18 марта 1952 г. в селе Житное Искрянского района Астраханской обл. в семье рыбака. Житное – старинное (с 1720 г.) рыбацкое село в устье Волги. Население села – в основном старообрядцы. Отец был капитаном рыболовецкого судна, мать – бухгалтер. Дом Яковлевых стоял на самом высоком месте в селе, на берегу – под окнами река.
В школе особенно интересовался литературой, историей, физикой, химией, начал заниматься спортом – борьбой. В сельской школе не было постоянного учителя иностранного языка. Владимир самостоятельно начал изучать английский и добился отличных успехов. Хорошее владение английским помогало ему на протяжении всей жизни, в какой-то момент стало профессией. С 1970 по 1972 г. – служба в армии в частях морской пехоты. После армии, по семейной традиции, рыбачил на Волге, а в 1973 г. поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт (Краснодар) на специальность «Землеустройство и кадастр». В институте продолжает серьёзно заниматься спортом и в 1976 г. после успешного выступления на всесоюзном чемпионате становится мастером спорта СССР по дзюдо. После окончания института снова рыбачил, работал в рыбацких артелях на Волге: ловили осетров и белугу, добывали икру.
По словам самого поэта, стихи он писал всегда, но серьёзно заняться литературой решил в 1978 г., когда и поступил первый раз в Литературный институт им. Горького в Москве на заочное отделение. После установочной сессии учёбу забросил и был отчислен. В 1985 г. поступил на дневное отделение института, которое и окончил в 1990 г. Занимался в семинаре поэзии у В. А. Кострова. В 1989 г. издал за свой счёт первый и единственный сборник стихов – «На границе времён». После окончания Литинститута работал редактором в издательстве «Новатор», переводчиком и менеджером по таможенным вопросам в турецкой и шведской фирмах, переводчиком и редактором в издательствах «АСТ» и «Крон-пресс», перевёл множество книг с английского, создавал и редактировал сайты. Эрудит, библиофил, собрал замечательную библиотеку, в том числе на немецком языке. Кроме английского, выучил немецкий язык, учил японский. Хорошо знал русскую и европейскую философию, теософию, интересовался библеистикой, специально изучал библейские сюжеты.
В декабре 2009 года перенёс обширный инфаркт.
По его признанию стихов не писал 25 лет. Вернулся в поэзию в 2014 г., уже будучи тяжело больным человеком и за два года до смерти написал более 100 стихотворений.
Умер 16 августа 2016 г., похоронен в Москве.
«…Человек умирал – по-Блоковски, давно и понемногу, зараженный льдом, охватившим его воздух, его землю. Настал час, когда стал умирать скорее, большими кусками. И настал час, когда стал умирать стремительно, зная, что смерть только по велению своего хозяина чуть временит за дверью. И человек записал свой путь. Отправная точка рыбак. Конечная – апостол. И ещё – смерть. И самое существенное: путь записан не со здешней, с той стороны жизни. Нездешний холод дышит из этих стихов.
Все ходим под Богом —
Кто прямо, кто боком.
Это написано в конце жизни человеком, который перестал быть уверен в своем личном бессмертии простым жестом поручил свою душу Судье. (…) Яковлев пишет без символизма и без акмеизма, без синематографа Чухонцева, афористичной жесткости Кузнецова, без «робкой улыбки Рубцова». Будто учил его Шаламов. Или Альбрехт Дюрер… Яковлев пишет с натуры. (…) Иначе не может, если и пожелал бы. Подходя все ближе к последнему рубежу, он просто «переводит» в слова сердечные записи, врезанные в душу намертво гравюры. Поэт Яковлев не описывает увиденное. Только прожитое.
Свете дивный, свете тихий, / Свете поздний мой, закатный… / Листьев трепетные блики, / Яблок розовые пятна.
Родовое сознание – «симптом» поэзии Яковлева. Семья: дед, отец, мать, бабушка – это он сам, лично. Родина – он сам, лично. Война – он лично. Его плоть и кровь состоят из всего перечисленного. Ни индивидуализма, ни экзистенциальности, ни «посторонства» Камю. Это он сам воевал в Сталинграде. Без этого он – буквально – лишен кожи и плоти. Патриотизмом такое отношение к жизни назвать нельзя. Скорее такое сознание могло бы стать предметом изучения ученых-этнографов. Человек этот архаичен, не способен отделить себя от своего мира, своих предков. Так и есть, без этого стихов Яковлева не понять, их примут за «увертливый, речистый» по выражению Боратынского прозо-реализм. Стихотворное пространство-время Яковлева парадоксально кажется мне похожим на пространство-время русской волшебной сказки, как мы о ней читали в работах Проппа: оно погранично, как окрестности избы на курьих ножках, этого форпоста загробного мира. Время здесь летает, как гайка в ЗОНЕ из кинофильма «Сталкер» Андрея Тарковского, вообще ведет себя капризно, так, как ему захочется:
Старинное рыбацкое село, / тебя не «Житным» – / «жизнью» мне назвать бы! / Здесь жили предки. Ели хлеб. На свадьбах / гуляли, пели и дрались зело —
Яковлев сохраняет внутри себя архаический, посторонний течению литературных времен пласт образности и сам он живой срез этого пласта, как срез дерева с годовыми и вековыми кольцами. Этот неизменный языковой и поведенческий строй – плоть и кровь Яковлева, человека, который лишен всякой необходимости искать, как теперь говорят, национальную идентичность, поскольку он персонально, как ни забавно или ни высокопарно это звучит – та самая идентичность и есть.
И вот теперь сутулюсь, одинокий, / у этих окон и гляжу под ноги / себе, как будто что-то потерял.
Тоской и запустением отмечен / старинный дом… И оправдаться нечем. (…)Небо и земля должны быть связаны, как были они связаны прежде, герой отлично помнит эту связь:
На яблоках настоянный /Сквозил небесный свет / Над древними устоями, / Которых больше нет.»
(…)Вовсе не считаю Яковлева, как теперь принято шуметь в рецензиях ни «титаном», ни «величайшим», для меня несомненно лишь, что это подлинные стихи и я надеюсь, что поэт заслуженно уловил своими сетями малую искорку вечности…
Когда выползал я из ложа прокрустова,
то весь мой костяк и стонал и похрустывал —
во мне умирала античная Греция.
Но северным вьюгам открыл свое сердце я.»
(Из статьи «Посмертная книга Владимира Яковлева»)Вячеслав Кожемякин, поэт, издатель