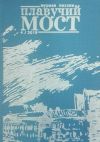Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №2/2017"
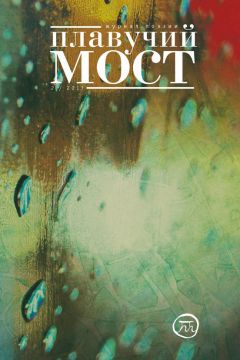
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Прекрасные лица из бездны.
Лепестки над озером.
Пустое гнездо, еще теплое,
но птица не прилетит.
* * *
Поэзия и предназначена быть непонятной. Какое наслаждение с не очень хорошим знанием языка читать тексты предполагая там «заэкранные» тайны и бездны, которых не видишь, потому что не знаешь язык достаточно хорошо, но не может быть, чтобы их там не было. Такой «детский» подход и есть залог фундаментального герметизма поэзии – Гомера, шевелящего виноградным языком в стихах Андрея Белого или дышащих звездным глаголом цезур Мандельштама. Такой «детский» подход и создает незамкнутую «непонятность», тайну Бытия, даже там, где она только случайно и невнятно задержалась. Кто сказал, что фаустов секрет жизни объективен и его лишь надо различить? Ничего подобного – его нужно сначала создать, и лишь тогда он, такой, как он есть, пойдет тебе навстречу тем же шагом, которым ты шел к нему и даже отождествив две ваших походки.
* * *
Стихи Лебядкина, как и стихи Нельдихена еще не инфантилизм, но, прочитанные с поэтического этажа 21 века, ощущаются как прелюдия к нему. Инфантилизм – вот новая литературная тональность/реальность, которая появилась в конце 20-го и расцвела в 21-м. Произношение этого слова для меня в данном случае безоценочно. Однако, имеется в виду не детскость, а именно инфантилизм, отсутствие взрослых обязательств и ответственности по отношению к себе, миру, Богу, поэзии. Что было, кстати, по факту важно даже для «оторванного» и эгоцентричного Рембо. Инфантилизм, кстати, не следует смешивать с игровым отношением к миру, как не стоит смешивать чай с морфием, хотя оба продукта изменяют сознание.
Рильке говорит о «пении вещей», стараясь расслышать его в созерцании вместо имени вещи, которое, как он дает понять, отбирает у вещи глубину, не могущую быть названной внутреннюю струящуюся природу. Это прекрасное определение – пение – для подхода к вещи, для выявления ее неповторимой и в то же время разомкнутой во всё Единство природы – вещь поет без слов, и в это пение следует вслушаться, не спешить при этом воспользоваться хищным и жестким называнием. Взятое у кого-то другого готовое «имя» – заслоняет нас от вещи, совершает насилие над ее неуловимой сущностью, покрывает ее стремящимся к владению через фиксацию экраном.
Имя это и есть сущность вещи считалось на Востоке. Целая богословская школа – имяславие была основана на этом. Но имя может быть заемным, и тогда оно стремится к овладению, к манипуляции с вещью, к «иметь», а не «быть», а с другой стороны – имя может быть данным в любви, невладеющим, не закрывающем вещь, а причащающим через себя к вещи, к ее мягким, бесконечным, стремящимся в свет и светом образованным глубинам. Такое, данное в созерцании, имя является также каждый раз сотворением вещи и себя, взаимоназыванием себя и ее, взаимотворением вещи и имени, взаимопорождением. И чем выше и глубже тот духовный уровень, на котором пребывает называющий, тем более глубоко и тайно являет себя (через него) вещь миру. Изменяя сам мир, с которым она нераздельна.
И, конечно же, оно не фиксирует вещь, ибо каждый раз находится ищущим созерцателем заново (или не находится). Грубо говоря, имя это река, именно, что течение, именно что пение. Можно спеть в унисон с вещью, самому стать течением, одной с вещью скорости и смещаться с ее потоком, или воспользоваться именем-панцырем, которое предлагает к пользованию функциональный язык социума.
Но в тот период, когда вы течете/поете вместе, вы причастны к ее (каждый раз новому) имени. Вот почему Антоний Сурожский, например, советовал не пользоваться известными именами Бога, а найти для него свое, которое будете знать только вы и он. Он сравнивал такое имя с шутливыми именами, которые любящие на пике нежности дают друг другу. Тут не важно звучание имени, а важно его бесконечное любовное наполнение, проникновение через это временное имя в суть вещей, ведущих к постоянству, к Неизменяемому, находящемуся вне каких-либо (в том числе и словесных) форм.
Поэзия Рильке пользуется именами, ничего не поделаешь, но делает она это целомудренно и как бы слегка морщась от боли, рожденной невозможностью изъясниться одним лишь пением вещей. Рильке старается не владеть. И тем самым идет вопреки всем мейнстримам европейского искусства словесности, вопреки «влеченью, силе и захвату».
Даже читая Зебальда – тонкого и искусного повествователя, библиофила и утонченного интеллигента, путешественника по Европейским культурным смыслам, я не могу не заметить желания назвать и овладеть. Желания узнать, понять, назвать сколь можно точнее, используя слово-термин, если нужно, чтобы стать властелином называемого мира, захватить его сачком знания и тем самым уйти от страха перед ним. Власть над вещью порождена страхом перед вещью. Знание всегда сопряжено с желанием владеть. Мне кажется, по поводу называния можно обратиться к метафоре Элиота в его кошачьем цикле и пересказать ее, слегка изменив, примерно так. – У кошек в ходу три имени. Одно – это как кошка называет кошку. Другое – это как кошка называет сама себя. И третье, тайное (имя-пение) – это как кошку называет Бог.
Здесь есть от чего оттолкнуться, прежде чем именовать вещь в прозе или в поэзии.
* * *
Когда насмотришься мировой чехарды, политиков, войн, возлюбленных и сенсаций, прочитаешь лучшие книги и схоронишь легчайших и быстроногих, начинаешь ценить то, что не разрушается.
Андрей Тавров – поэт, прозаик, редактор. Живёт в Москве.
Виктор ФишманГенрих Гейне – немецкий друг Фёдора Тютчева
Посвящается светлой памяти Аркадия Полонского
160 лет назад, 17 февраля 1856 года, не дожив до 60 лет, умер замечательный немецкий поэт Генрих Гейне (Christian Johann Heinrich Heine). Благодаря его дружбе с сотрудником русской дипломатической миссии в Мюнхене поэтом Федором Тютчевым, Россия узнала о творчестве немецкого поэта, а немецкий поэт – о сущности России.
Случайным совпадением жизненных ситуаций Генриха Гейне и Фёдора Тютчева, признанных поэтов любовной лирики, можно считать увлечение ими в молодые годы девушками с одинаковым именем Амалия. Амалия, которая имела отношение к Гарри Гейне (в те годы именно так его называли родители и друзья), была дочерью спесивого родственника, на содержании которого находился поэт. Он ненавидел этого своего дядюшку, хотя каждый месяц с нетерпением ждал очередного денежного перевода, чтобы выплатить долги хозяину квартиры, булочнику, портному, цирюльнику. Ему стыдно было, что Амалия может заподозрить понятную в такой ситуации расчётливость. Но стихи, посвященные даме сердца, от этого не стали хуже:
Когда бы цветы то узнали,
Как ранено сердце моё, —
Со мной они плакать бы стали,
Шепча утешенье своё…
(Перевод М. Михайлова)
На рейнские земли (а Гарри Гейне родился в Дюссельдорфе, в небогатой семье еврейского торговца текстилем Самсона Гейне (Samson (Sigmund) Heine) и его жены Бетти ван Гельдерн (Betty geb. van Geldern) распространялся наполеоновский вердикт о равноправии всех граждан независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому мальчик, окончив гимназию, мог беспрепятственно учиться в любом немецком университете. В числе университетов, где учился Гарри, были Боннский, Геттингенский, Берлинский. Из одних он сам уходил, из других его исключали за неблаговидные поступки (например, сражение на дуэли).
Учеба у Гарри не стояла на первом месте. Он писал стихи, и влюблялся. Влюблялся и писал стихи. Об указанной выше аналогии Генрих Гейне, принявший 18 июня 1825 года протестантское вероисповедание и нареченный при крещении именем Кристиан Иоганн Генрих (Christian Johann Heinrich), скорее всего, узнал от самого русского поэта, работника русской дипломатической миссии в Мюнхене Фёдора Тютчева. Они познакомились весной (в феврале либо в марте) 1828 года, спустя четыре-пять месяцев после приезда Генриха Гейне в столицу Баварии (приезд состоялся 26 ноября 1827 года).
В Мюнхен Генриха Гейне привело приглашение знаменитого издателя, барона Иоганна Фридриха фон Котта (Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf). Издатель предлагал поэту стать сотрудником небольшой газеты и соредактором нового журнала «Политические летописи» («Neuen allgemeinen politischen Annalen»). Другим редактором этого журнала был Линднер Фридрих Людвиг (Friedrich Ludwig Lindner) – человек, близкий к Гейне по своим политическим взглядам; он хорошо знал политическую обстановку Баварии и помогал Гейне налаживать связи с мюнхенским обществом. Генриху надоели придирки родственника по поводу расточительства племянника, упрёки в неспособности заработать на жизнь, и он принял предложение Котта.
Мотание по городам и университетам, казалось бы, закончилось. К тому же Котте пообещал похлопотать о должности профессора Мюнхенского университета: ведь ещё 20 июля 1825 года Генрих Гейне стал доктором юриспруденции в Геттингене.
Аркадий Полонский, исследователь мюнхенского периода жизни Фёдора Тютчева, в своей книге «Здесь Тютчев жил… Русский поэт в Мюнхене». (Киев, КМЦ «Поэзия», 2003. стр. 109–126) сообщает, что Гейне поселился в старом городе, и просил своих друзей писать ему по адресу «Генриху Гейне, доктору права, живущему в Рехбергском дворце на Хундскугеле».
В это время русская миссия тоже размещалась в старом городе по адресу Георгшпитальштрассе 12. Сам Тютчев жил неподалеку, на улице Отто в доме № 248. Так что встречаться им было не трудно. Пишут, что Фёдор Тютчев из газет узнал о приезде поэта с Рейна, и познакомился с ним: ведь к этому времени Генриха Гейне уже прославили книги «Путевых картин» («Reisenbilder», 1826), а также «Книга песен» («Buch der Lieder», 1827). Автор этой статьи полагает, что, скорее всего, Тютчева и Гейне познакомил Линднер Фридрих Людвиг.
Гейне и Тютчева сближали не только молодость и любовь к поэзии, но и тяга к философским размышлениям. И тут уместно отметить, что в отличие от советского поэта Владимира Маяковского («Мы диалектику учили не по Гегелю,/ бряцанием боёв она врывалась в стих…»), Гарри Гейне в Берлинском университете слушал лекции этого самого Ге́орга Вильге́льма Фри́дриха Ге́геля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel). Гейне больше, чем лекции (как он сам писал в «Письмах из Берлина»), интересовали частные беседы с этим создателем немецкой философии романтизма.
Как правильно замечает Аркадий Полонский, Тютчев и Гейне были довольно непохожие личности, но каждый из них понимал, с кем имеет дело. Спустя много лет, в бытность свою главою Комитета иностранной цензуры, Фёдор Тютчев говорил о Гейне как о поэте, поколебавшем «основания заграничного общества».
А пока они вращались в общей мюнхенской компании. Генрих Гейне непрестанно влюблялся в хорошеньких женщин. Среди его пассий можно предположить и младшую свояченницу Тютчева, 19-летнюю Клотильду фон Ботмер (Klotilde von Bothmer). В письме от 1 апреля 1828 года в Берлин Гейне пишет: «Удивительные отношения с женщинами! Однако это не способствует ни моему здоровью, ни желанию работать». В этом же письме упоминается и «молодой русский дипломат, лучший друг Тютчев».
Генрих Гейне не скрывал, что ему нравилась и жена Федора Тютчева, одна из первых мюнхенских красавиц, урождённая графиня Эмилия Элеонора фон Ботмер (Emilia Eleonora von Bothmer). В их гостеприимном доме с отличной кухней гостя с берегов Рейна привлекали не только красивые сестры, но и своеобразные рассуждения Федора Ивановича о европейской литературе, философии и политике. Тютчев так убежденно рассказывал о своей родине, что даже скептик Гейне уверовал в симпатию русских царей к европейскому либерализму.
Такие же разговоры вели два поэта во время прогулок по Мюнхену. Они любили стоять на высоком берегу Изара, откуда в хорошую погоду видны заснеженные вершины Альп.
Уже в своей дипломной работе «Тютчев и Гейне. История встречи и поэтического взаимодействия» (1918) молодой Юрий Тынянов, как и другие биографы Гейне, отмечает влияние рассказов Тютчева на очерки Гейне. Так, в одном из них, опубликованном в мюнхенской газете, редактором которой, как уже говорилось, состоял поэт: «… его попутчик, русский путешественник, вспомнил о боях на Балканах, где русские войска сражались с турецкими, и спросил: «Вы за русских?».
Федор Тютчев как работник дипломатического представительства России в Германии, не мог кривить душой, когда говорил Гейне о том, что государство Николая I бескорыстно защищает греческих вдов и сирот и противоборствует не только варварскому турецкому деспотизму, но и его западным союзникам. Не потому ли в третьем томе «Путевых картин» Гейне появились такие строки: «Если сравнить… Англию с Россией, то и самый мрачно настроенный человек не усомниться, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же – на основе принципов».
В этом очерке в полной мере проявилась и нелюбовь Генриха Гейне к духовным лицам, а также проблемы с вероисповеданием: «… Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство даётся в России государственною службою… Ведь русские в силу одного уже пространства своей страны свободны от узкого языческого национализма, они космополиты, или, по крайней мере, на одну шестую космополиты, ибо Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира». Эту главу, которую можно назвать гимном свободе, Тютчев перевел на русский язык в стихотворной форме.
Истины ради отметим, что не прошло и трёх лет, как вследствие подавления царскими войсками народного восстания в Польше взгляды Генриха Гейне на Россию изменились коренным образом.
Федор Иванович Тютчев первым (за ним последовали многие) перевел на русский язык знаменитое стихотворение Генриха Гейне «Сосна» («Ein Fichtenbaum…»):
На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.
Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветёт, одинока.
Многие читатели с «молоком матери» впитали в себя совсем другой, лермонтовский вариант перевода стихотворения Гейне: «На севере диком стоит одиноко/На голой вершине сосна…». Но М. Ю. Лермонтов не до конца раскрыл тайный смысл немецких строчек: Гейне иносказательно говорит о двух влюбленных, а у Михаила Юрьевича оба они – женского рода!
Стихотворение «Сосна» очень понравилось Клотильде фон Бомер. Генрих Гейне подарил его молодой графине весьма необычным образом: он написал стихи на обратной стороне холста одной из картин Готлиба Гассена (Gottlieb Gassen). Поэт посвятил Клотильде фон Бомер несколько стихотворений, включенных позднее в цикл «Новая весна» (Neuer Fŕhling).
Аркадий Полонский подсчитал, что Фёдор Тютчев перевёл или написал по мотивам Гейне не менее 10 стихотворений.
Сначала Мюнхен понравился Гейне. Он писал друзьям: «Мюнхен – город, созданный самим народом, и притом целым рядом поколений, дух которых до сих пор ещё отражается в постройках…, начиная от багрово-красного духа Средневековаья, выступающего в бронзе из готического портала храма, и кончая просвещенным духом нашего времени…».
И всё же мюнхенская погода была ему вредна: в зимние месяцы у него снова, как в детстве, усиливались головные боли. В письмах он сообщает, что тоскует по соленой влажности приморского воздуха. А весной, как только потеплеет, стремится в горы.
Его биографы подчеркивают, что поэт ощущает «хмель и похмелье славы, сознание того, что он способен и может сделать неизмеримо больше, чем сделал до сих пор; это порождает раздражительность и подозрения». Генрих написал прошение баварскому королю Людвигу I о помощи в продвижении его на должность профессора Мюнхенского университета.
Весьма помогал в этом деле и Федор Тютчев, в дом которого был вхож ректор этого университета.
Добиваясь профессорской кафедры, Гейне просит Котте как можно скорее передать Баварскому королю (от которого многое зависит) его книги, и объяснить при этом, что «автор стал значительно мягче душой, лучше, а, может быть, сейчас уже и вовсе иной, чем был в своих ранних произведениях. Я надеюсь, что король достаточно мудр, чтобы оценить клинок по его остроте, а не по тому, как хорошо или плохо им раньше пользовались» (цитируется по книге Льва Копелева «Поэт с берегов Рейна. Жизнь и страдания Генриха Гейне». Изд-во «Прогресс-Плеяда». Москва, 2003, стр. 168). Содействовал Гейне также его рейнский земляк, министр вероисповеданий и просвещения Баварии (с августа 1828 до 1831 года – министр внутренних дел) Эдуард фон Шенк (Eduard von Schenk). Шенк с уважением относился к творчеству Гейне, да и сам пописывал стихи. Прошение Генриха Гейне баварскому королю Шенк сопроводил ходатайством «для всемилостейшего Вашего рассмотрения… прошение д-ра Генриха Гейне о принятии его на службу экстраординарным профессором здешнего университета… В его произведениях проявляет себя истинный гений; они вызвали величайший интерес во всей Германии».
Но Людовик I, которого называли королем художников, задумавшим возродить художественное государство, создать из баварской столицы новые Афины, не нашел возможным (и нужным?) предоставить баварскую кафедру выходцу с Рейна. Уже в середине июля 1828 года Генрих Гейне покидает Мюнхен и уезжает в итальянское путешествие. Его короткое, почти 8-месячное, пребывание здесь становится важным, а во многом и решительным для него временем.
Последняя запись, предназначавшаяся 27-летней Камиле Зельден (Kamila Selden), последней привязанности поэта, была сделана в Париже рукой умирающего, разбитого параличом Генриха Гейне 14 февраля 1856 года: «Дорогая, Сегодня (в четверг) не приходи. У меня ужасная мигрень. Приходи завтра. Твой страждущий Г. Г.».
17 февраля, за несколько минут до смерти, он попросил свою жену Матильду положить ему на грудь цветы. «Цветы! Цветы! Как прекрасна природа!», – успел произнести поэт. В 4 часа утра его не стало…
Не те ли строчки, которые мы привели в самом начале этой статьи, вдруг вспомнил умирающий Гейне!?
Виктор Петрович Фишман, род. в Днепропетровске в 1934 г.; инженер-геофизик. Публикуется в периодической прессе Германии, России (журнал «Грани»), изредка – в Израиле, США. С 1996 года постоянно проживает в Германии.
Ефим ГофманМоментальные снимки
(«Плавучий мост» 1–2017)
А ведь, пожалуй, если пытаться найти жанрово-эстетическую аналогию самым заметным стихотворениям подборки Ганны Шевченко (опубликованной в прошлом номере «Плавучего моста»), то – вот она: моментальные снимки. Или, скажем, беглые карандашные зарисовки. С достаточной цепкостью и непринуждённостью фиксирует автор разные объекты, попадающие в его поле зрения. Но особенно показательными представляются те стихи подборки, которые можно отнести к категории блиц-портретов. Своих персонажей Ганна Шевченко демонстрирует здесь с помощью штрихов, казалось бы, достаточно незатейливых. Но, вместе с тем, выявляющих немаловажные особенности сегодняшней действительности. Взять хотя бы первое стихотворение подборки. Типаж, отображённый здесь, всем нам достаточно хорошо знаком. Это – тётушка, регулярно расхаживающая по вагонам электрички. Она собирает деньги на кошачий приют, попутно донимая пассажиров назойливыми диковатыми проповедями: «я – истина, я – народ». Присмотримся, однако, к котятам, сидящим в её коробке. Ленточка, которой они обвязаны – всего лишь случайно подмеченная автором деталь. Но в итоге деталь эта оборачивается выразительной метафорой, говорящей нам многое о статусе и особенностях существования… самой хозяйки котят – обездоленной, неприкаянной и, к тому же, не вполне вменяемой тётки-побирушки: «Она и сама привязана к электричке ленточкой из сукна, / словно котёнок, живёт в коробке, где тишина, / упоение и нет желаний уже давно: / я – путь, я – истина, здравствуй дно»… А вот перед нами – совсем другой человек. Некто Олег, сотрудник офиса, где все настроены «на удачу и позитив». Работа Олега состоит в том, что он разносит покупателям экземпляры книги кулинарных рецептов «Русская кухня». «… безупречен, приятен, нагл», – казалось бы, эти три слова дают о подобном персонаже представление вполне исчерпывающее. Не менее существенным представляется и то, что в рассматриваемом стихотворении многое строится на подчёркнутом контрасте между высокопарно-размашистыми словесами и предельно приземлённой сутью того, что они в данном случае обозначают. Вот и характеристика самого Олега не обходится без торжественных эвфемизмов, отсылающих не просто к возвышенной, но – к сакральной образной сфере: «мерцая нимбом, шагает посуху, как по воде»; «его пути позавидовал бы Лао Цзы». Что это означает? Да всего лишь то, что перед нами – случай предельно точного и неукоснительного следования определённым нормам и постулатам. Безоговорочная готовность Олега во что бы то ни стало встраиваться в неписаные установки суетливого рыночно-потребительского мирка, самодовольная (лишённая и тени сомнений в собственной правоте!) уверенность подобного человечка в том, что лишь он и его соратники-торгаши несут в мир подлинное благо, носит характер на удивление безмятежный. И – вполне может побуждать к горько-иронической ассоциации с… Нет, конечно же, не с подлинной святостью! Но – с её ущербным отражением в каком-нибудь кривом зеркале. А ещё одна стихотворная картинка Ганны Шевченко вроде бы носит характер фантастический. Казалось бы, разговор в данном случае ведётся о двух разлучённых друг с другом биороботах. Робот-женщина обращается к роботу-мужчине: «Нам вручили по судьбе, / не открыли смысла, / я скучаю по тебе, / составляю письма». А в конце и вовсе договаривается до того, что: «Затоскуешь, прилетай, / разопьём винишко. / Но Донцову не читай! / Пагубная книжка»… И живые, искренние эмоции, проступающие за этими бесхитростными приглашениями, за этими простодушными призывами, за этой тоской и упоминаниями о письмах, побуждают слегка засомневаться: о роботах ли эти стихи? Или всё же – о людях? Но тогда: при чем же здесь роботы?! Да при том, что (как говорится в том же стихотворении несколькими строчке выше) сейчас у нас на дворе время имитаций. Сплошь и рядом попадаем мы в положение, когда – не проживаешь собственную судьбу, а «играешь чью-то роль / в скучном сериале». И этот однотипный, запрограммированный характер жизни многих людей зачастую поразительно схож с участью механизированных искусственных созданий. Да, подобные черты современной цивилизации сейчас лежат на поверхности, и обозначение такого расклада отнюдь не является каким-то особым авторским открытием Ганны Шевченко. Да, учтём и то, что срез реальности, представленный в стихах этой подборки, имеет свои границы. А когда автор пытается уйти от привязки к той или иной картинке, всё сводится либо (ау, десятое стихотворение!) к расплывчато-невнятным сентенциям, либо (ау, одиннадцатое стихотворение!) к натужным вариациям на темы хрестоматийного ахматовского: «Когда б вы знали, из какого сора». Здесь, возможно, имеет значение и то обстоятельство, что Ганна Шевченко – не только поэт, но и прозаик. Может быть, именно этим обусловлено её тяготение к стихотворческой работе с конкретными фабулами и персонажами? Для писательских занятий такой опыт может служить вполне удобным трамплином. Но и вне зависимости от них этот опыт небесполезен. Важен он хотя бы потому, что одним из первичных побудительных толчков к творчеству как таковому служит простое человеческое любопытство. То самое, которое побуждает, глядя на любой предмет, явление, человека, удивиться. И – задаться кучей наивных, почти детских вопросов: что такое?.. кто такой?.. Или, если вспомнить вопрос-метафору, давшую название подборке стихов Ганны Шевченко: кто же создал это всё – огонь или рыбак?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.